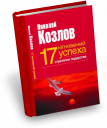3
«Игра ребенка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение; заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй ее, отец!.. Игры этого возраста суть как бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве». «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе». В этих словах Фребель с классической ясностью формулировал отношение к игре современной педагогики. Игра есть естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в ученьи в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Это открытие Фребелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю последующую педагогику. Можно критиковать частности Фребелевской системы, можно даже совершенно отвергать весь дух ее, не соглашаясь с тем, как организовал Фребель игру ребенка. Но ч т о проблема дошкольного образования есть проблема организации игры, — это выше споров отдельных педагогических систем, так что для того даже, чтобы отвергнуть Фребеля, нужно уже ныне идти по им указанному пути.
В каком же направлении должна быть организована игра ребенка? То место, которое мы определили игре среди других видов человеческой деятельности, позволит нам легко ответить на этот вопрос. Игра должна быть организована так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок. Оставаясь игрой, она должна быть пронизана уроком, представляющим собою более высокую ступень деятельности. Несколько примеров помогут нам разъяснить это пока еще неопределенное утверждение. Совершенно неслучайно на латинском языке слово finis означает одновременно «цель» и «конец» (сравн. и французское fin). Цель представляет собою не что иное, как заранее представленный конец деятельности, а конец есть не что иное, как достижение цели. Поэтому если начатая раз игра кончается, то она скорее способна подвести ребенка к преследованию им в своей деятельности некоторой определенной и устойчивой цели, понемногу выделяющейся из самого процесса деятельности и вносящей в нее все большую и большую закономерность. Если, напротив, ребенок не оканчивает своих игр, но разбрасывается, кидается от одной игры к другой, то игра не подготовит его к уроку, и постановка ему определенной цели деятельности в уроке застанет его врасплох. Отсюда известное правило современной педагогики: организовывать игры так, чтобы дети приводили их к концу. Тогда, понемногу усложняясь, игра будет постепенно приучать их ставить все более и более отдаленные и устойчивые цели своей деятельности и тем самым, незаметно для самого ребенка, перейдет в работу. — Точно так же, если материал детской игры будет негибким, твердым в своем механическом постоянстве, т. е. если его будут составлять так называемые заводные и автоматические игрушки и игры с определенно предписанным ходом (лото и т. п.), то игра будет только забавой, времяпровождением, но не образовательной деятельностью. Если мы хотим, чтобы личность ребенка, напротив, росла в его игре, необходимо, чтобы материал его игр позволял поставление его деятельности постепенно все более усложняющихся и самостоятельно разрешаемых задач. А для этого он должен быть достаточно простым и вместе гибким, могущим быть по желанию усложняемым и упрощаемым. Отсюда изгнание из современной педагогики игрушек в обычном смысле этого слова и замена их играми- занятиями, материал которых (глина, бумага, краски, кубики, стройки и т. д.) прост, пластичен, допускает бесконечные степени усложнения, благодаря самой своей простоте таит в себе тысячу новых комбинаций, не может поэтому никогда наскучить ребенку. Играя таким материалом, ребенок не стоит на месте, повторяя каждый раз одно и то же, но подвигается вперед как личность, ставя себе все более отдаленные, сложные и устойчивые задачи для разрешения. Если в игре-забаве не просвечивает урок, то в игре- занятии этот будущий урок предчувствуется уже как ее сокрытый смысл. И опять-таки Фребелю принадлежит заслуга первого сознательного формулирования и проведения в жизнь этой идеи игр-занятий, проникающей всю современную педагогику. Наконец Фребель также с особенной силой подчеркнул и значение общественного момента в игре. Если ребенок играет один, то его произвол и каприз ограничиваются только силой внешних обстоятельств и собственной прихотью. Напротив, играя в обществе других детей, ребенок сталкивается с чужой волей, привыкает подчиняться закону общей деятельности: в такой игре, в ее понятном ребенку распорядке просвечивает уже дисциплина будущей общественной работы.
Мы привели намеренно самые простые и очевидные требования современной педагогики, касающиеся правильной организации игры. Их можно было бы привести множество. Задача наша здесь не в том, чтобы исчерпать их, а в том, чтобы показать, как все они вытекают из единого высшего принципа — принципа пронизания игры будущим уроком. В нем все они находят свое последнее оправдание и единство. Большего, чем формулировать этот принцип и подтвердить его отдельными примерами, педагогика не в состоянии и даже не в нраве делать. Предлагать конкретные правила того, как должна быть организована игра, — значило бы впадать в недостойную научной педагогики рецептуру. Вся суть нашего принципа в том и состоит, что он есть лишь руководящий, регулятивный принцип, который в каждом отдельном случае каждым отдельным воспитателем ( должен применяться в жизни по-своему — сообразно детям, воспитателю и обстоятельствам. В самом деле, что получится, если воспитатель вместо того, чтобы организовывать каждый раз игру по-своему, будет следовать точным, определенным рецептам так, как мы это имеет, например, у правоверных фребеличек и монтессорок, которые, стремясь в точности повторить своего учителя, предписывают детям в определенный час именно такие-то игры или такие-то занятия? Нетрудно видеть, что получится тотчас же уничтожение игры как игры, превращение ее в урок, а не пронизанность ее уроком. Детям будут поставлены определенные цели их деятельности, и все сведется к тому, что дети будут повторять показанное им воспитательницей; только вместо того, чтобы вслед за учителем повторять доказательство теоремы или грамматическое правило, они будут повторять рисунок, постройку из кирпичиков, плетение, песню или изобразительную игру в бабочку. Изменится только тема урока, но урок останется уроком и притом — плохим уроком, ибо, как мы увидим ниже, и урок не должен состоять в повторении учениками показанного учителем. Это мы и наблюдаем в большинстве детских садов ремесленного типа, отличающихся от приготовительных классов школы только темами детских занятий, но не способом, которым эти занятия ведутся. В результате такого преждевременного вырождения игры в работу восторжествует механизм, являющийся, как мы это уже знаем из классической критики Руссо, неизбежным следствием всякого преждевременного воспитания. Не следовать чужим рецептам, но создавать свое должен воспитатель. И потому научная педагогика тоже должна предлагать не рецепты организации игры, но лишь регулятивные принципы, в направлении которых игра должна быть организуема каждый раз по-новому. Искусство воспитателя и здесь состоит в том, чтобы быть творцом. Игра должна быть устремлена к уроку. Ибо, оторвавшись от урока, она вырождается в пустую забаву, способную на короткий срок занять, но не образовать ребенка. Но игра должна оставаться игрой, ибо, превратившись преждевременно в урок, она вырождается в бездушное и механическое занятие, повторение того, что показывают старшие. Между обеими этими крайностями должен провести воспитатель игру ребенка. Для этого нужна постоянная бдительность воли, не меньшая, чем та, которая спасает акробата, идущего по лезвию ножа, от опасности стать жертвой им же установленного механизма.
Теперь нам понятно, что это значит, что в игре должен просвечивать будущий урок как ведомая только воспитателю, но ребенком даже не подозреваемая цель. Тогда принуждение, неизбежное при организации игры и проявляющееся в подборе материала игры и в общем руководстве ею, будет обвеяно дыханием свободы, будет служить свободе. Личность ребенка будет расти как в поставлении себе все более и более устойчивых и отдаленных целей деятельности, так и в привычке подчинять свой каприз хотя и незримой, но все усложняющейся дисциплине. Игра тем самым будет переходить постепенно в работу, эту более высокую форму человеческой деятельности, ближе стоящую к творчеству, в котором только личность человека достигает вполне своей внутренней свободы. Выведенный нами из философского определения игры основной принцип ее организации вбирает в себя также и тс се задачи, которые естественно вытекают из се психологической сущности: если психологическая роль игры состоит в том, чтобы надлежащим упражнением развить и подготовить к будущей работе органы и способности человека, то очевидно в выборе материала для игры следует также иметь в виду не только рост человеческой личности, но и упражнение необходимых для будущей ее работы органов: развитие органов восприятия, речи, механизмов движения. Заслуга Монтессори в том именно и состоит, что она, правильно оценив психологическую роль игры, сделала отсюда надлежащие педагогические выводы и в своем «дидактическом материале» дала первую попытку научно обоснованной системы материала детских занятий. Это опять-таки ее бесспорная незыблемая заслуга, которой не могут не признавать также и те, кого общий дух ее системы воспитания не в состоянии удовлетворить. Философия и психология игры не противоречат друг другу, но находятся в гармоничном согласии: имея в виду основную цель нравственного образования — развитие личности человека, философия определяет ф о р м а л ь н ы е с в о й с т в а игры, как бы ее стиль, могущий наполняться разнообразным содержанием. Психология, напротив, имея в виду роль игры как средства развития психофизического организма человека, определяет м а т е р и а л игры по его содержанию, в его материальных свойствах; она говорит о том, чем должен играть ребенок, а не как он им должен играть. Воспитатель ребенка должен сочетать поэтому глубокое знание его психофизического организма с философской интуицией той цели, которую он намерен достичь своим образованием.
4
К аналогичным выводам придем мы также, если обратимся к рассмотрению вопроса о дисциплине, или о власти на ступени дошкольного образования. Мы знаем уже, что ребенок первоначально признает лишь одну власть и дисциплину — именно дисциплину силы. Объективность должного ему непонятна, он понимает лишь объективность природы. Отношение его к старшим есть прежде всего отношение слабого к сильному, беспомощного к могущему, бедного к богатому. Ребенок не только бессознательно подчиняется силе (отсутствию чего-нибудь, наиболее сильному впечатлению, наиболее могущественному влечению), но уважает и чтит также прежде всего силу. Тот, кто все умеет и все может, вызывает в нем чувство преданности и восхищения. И в этом отношении у ребенка того общего с дикарем, который, подобно Пятнице Робинзона, охотно признает над собою власть силы, в чем бы она ни выражалась. в физической ли силе, технической мощи или богатстве. «Употребляйте силу с детьми и разум со взрослыми: таков естественный порядок… Обращайтесь с вашим воспитанником соответственно его возрасту. Поставьте его сначала на его место и держите его на нем так, чтобы он не пытался сойти с него. Никогда ничего не приказывайте ему, что бы ни было в мире, решительно ничего. Не давайте ему даже вообразить, что вы притязаете иметь над ним какую бы то ни было власть. Пусть он знает только, что он слаб, а вы сильны; что в силу вашего и своего состояния он по необходимости в ваших руках; пусть он это знает, учится этому, чувствует. Пусть он с раннего возраста чувствует над своей головой суровое иго, которое природа возлагает на человека, тяжкое иго необходимости, пред которым должно склониться всякое конечное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, но никогда не в капризе людей, пусть узда, его удерживающая, будет сила, но не авторитет и не власть»7. В этих парадоксальных словах Руссо формулировал то, что мы называем аномным характером детства: отсутствие законосообразности должного при наличии естественной необходимости. Что это значит, что с ребенком надо говорить только языком силы? Какова должна быть эта сила, единственно понятная ребенку? После изложенного нами выше, нам нетрудно будет ответить на этот вопрос. Подобно тому как в игре, остающейся игрой, должен просвечивать будущий урок, точно так же и сила должна быть озарена чем-то высшим, чем сила. Тогда только ребенок, подчиняясь объективной необходимости природы, будет позади нее предчувствовать объективность должного и будет тем самым подведен к пониманию и к признанию закономерности в человеческих отношениях.
Что же это такое, что превышает силу, и что способно придать ей некоторое высшее достоинство? Это высшее, чем сила, мы называем авторитетом. Авторитет есть власть, которой мы подчиняемся не через простое принуждение (явное или сокрытое), но уже через некоторое добровольное признание. В подчинении авторитету есть уже момент положительной оценки, чего нет в подчинении простой силе. Силе я подчиняюсь потому, что не могу ей не подчиниться. Против авторитета я могу восстать, и если я все-таки подчиняюсь ему, то потому, что считаю должным ему подчиниться. Так я принимаю какой-нибудь взгляд или подчиняюсь такому-то велению потому, что этот взгляд или это веление высказаны лицом, мною уважаемым, которому я вообще верю, ценность которого я вообще признаю. Поэтому в авторитете есть уже момент добровольности, или свободы. Но с другой стороны подлинной свободы здесь еще нет: я все-таки подчиняюсь здесь чужому взгляду и чужому слову, принимая его па веру как некий извне данный мне закон. Постольку авторитет есть гетерономия. Но постольку также он не есть высшая, или последняя ступень. Нельзя не подчиниться силе. Достойнее уже подчиниться какому-нибудь слову потому, что оно высказано лицом, пользующимся моим признанием. Но еще достойнее подчиниться этому же слову потому, что я сам, подвергнув его собственному рассмотрению, признал его правильным. Подчинение собственному разуму и последовательности своего собственного действия есть высшая ступень подчинения, или автономия. Сила — авторитет — разум в широком смысле этого слова, включающий в себя науку, искусство и нравственность, — вот ступени властвования и подчинения, осуществляющие в себе все большую и большую степень свободы и личности. Только личность, (т. е. существо, относящееся критически к себе самому и к окружающим, может достичь высшей ступени подчинения — подчинения разуму как сверхличному началу, гнушающемуся всякой тени внешнего принуждения. Подчинение разуму, будучи высшей формой подчинения, не умаляет, однако, значения авторитета. Существование, совершенно отвергающее авторитет, было бы поистине невозможным. Можно иметь свои политические взгляды и критически относиться к законодательству и суду, но отвергать совершенно авторитет законодателя и суда значило бы отвергать самое право. Можно иметь свои собственные научные убеждения, но отвергать совершенно авторитет другого ученого, не принимать ни одного чужого слова, не проверив самому его правильность, — означало бы чрезвычайно затруднить собственную научную работу, распылить свое творчество на мелочи, не дойти до главного и существенного. Подчинение авторитету вредно, когда авторитет является высшей инстанцией властвования. Но поскольку вообще механизм полезен, будучи на службе у свободы, постольку и подчинение авторитету полезно, если только оно состоит на службе у разума, которому личность в последнем счете подчиняется.
Если, таким образом, непосредственно превышающая силу власть есть власть авторитета, то как следует понимать устанавливаемое нами правило организации силы: а именно, что окружающая ребенка сила вещей должна быть организована так, чтобы в ней просвечивал будущий авторитет? Несколько общеизвестных примеров легко пояснят это положение. Когда мы требуем от детей одного, а сами поступаем иначе, то очевидно, что сила, с которой мы заставляем их поступать так, а не иначе, будет представляться для них голой силой: если наши требования могут быть нарушены старшими и даже нами самими, то почему они не могут быть нарушены детьми? Только тогда, когда веления старших неукоснительно исполняются окружающими, когда они не простые приказы и слова, а сама объективная действительность, неизменно и всегда повторяющаяся, которую себе нельзя даже представить иной, как нельзя представить себе иной окружающую нас природу, — приказы будут не чем-то просто должным, а как бы формулированием существующего. На этом именно основано значение примера и последовательного с неуклонной точностью проводимого распорядка жизни. Если сегодня я запрещаю что-нибудь, а завтра это же Разрешаю, если одному ребенку разрешается то, что рядом запрещается другому, то опять-таки веления и запреты будут представляться ребенку голой силой, произволом сильнейшего, — в них не будет просвечивать закономерность должного, или авторитет. И обратно: авторитет должен быть явлен в образе ненарушимой природной необходимости. «Разрешайте с удовольствием, — говорит Руссо, — отказывайте с нежеланием. Но пусть все ваши отказы будут окончательны, пусть ничто не колеблет их. Пусть нет, однажды произнесенное, будет твердо, как железо, которое ребенок, исчерпав несколько раз свои силы, не будет впредь пытаться поколебнуть». Последовательность в действиях включает в себя также последовательность в словах, обеспечиваемую правдивостью в отношениях к детям.
Примеров, подобных приведенных выше, можно было бы привести множество. Они общеизвестны. И мы привели их не для того, чтобы лишний раз напомнить их, а для того, чтобы показать, что все они вытекают из некоего одного начала, в котором и получают свое оправдание. Этот основной принцип организации силы теперь должен быть ясен читателю. К нему же в сущности сводится и теория так называемого естественного наказания, впервые развитая Руссо. «Не налагайте на ребенка никакого наказания, говорит Руссо, т. к. он не знает, что значит быть виновным». «Не противопоставляйте его чрезмерным желаниям ничего кроме физических препятствий или наказаний, порождаемых из самих действий». «Никогда не надо налагать на детей наказание как наказание, но оно должно всегда приходить к ним как естественное следствие их дурного действия». Так, например, если ребенок сломал окно своей комнаты, «пусть ветер дует на него ночь и день. Не бойтесь насморка, ибо лучше, чтобы ребенок получил насморк, чем стал сумасшедшим»8. Спенсер9 еще подробнее развивает эту теорию естественного наказания: оно есть как бы реакция самой природы на поступок, и потому оно приучает ребенка рассуждать о последствиях своих поступков (вырабатывает в нем чувство ответственности), оно всегда справедливо и объективно, лишено элемента произвола. Наконец, оно не портит характера детей и воспитателей и сохраняет между ними добрые отношения. «Изолирование» ребенка, беспокоящего других, о котором говорит Монтессори10, противопоставляя его наказанию, есть в сущности то же самое «естественное» наказание: помещенный в углу комнаты отдельно от других детей за то, что он нарушил общественный порядок, «он мало-помалу убеждался, как выгодно быть членом общества, столь деятельно трудящегося на глазах у него, и у него рождалось желание вернуться и работать вместе с другими». «Это был предметный урок, куда более действительный, чем какие угодно слова учительницы». Во всех этих положениях современной педагогики проводится, как видно, мысль, что должное имеет быть явлено ребенку не в вице приказаний, слов, запрещений, но в виде объективной силы вещей, оно должно быть замаскировано как природная необходимость, единственно только и доступная ребенку на ступени аномии. А это и значит, что сила должна, оставаясь силой, быть пронизана будущим авторитетом. И тогда, начав с подчинения силе, ребенок постепенно перейдет в подчинение авторитету.
«Естественное наказание» не есть, конечно, реакция самой природы наподобие огня, обжигающего руки прикоснувшегося к нему ребенка. Разбитое стекло не вставляется у Руссо и дитя изолируется у Монтессори не самой природой, но воспитателем, замаскировавшимся природой. Здесь действует уже чужая воля воспитателя, но она действует так, как будто это была сила самих вещей. Должное является здесь не само по себе, оно только просвечивает в силе, возвышая ее до авторитета. Тем самым ясно намечаются оба возможных искажения организации власти на ступени аномии: сила старших может совершенно оторваться от авторитета, — тогда она вырождается в произвол, беспорядочное насилие и вместо того, чтобы развивать личность ребенка, культивирует каприз и своеволие. Или она преждевременно переходит в авторитет: должное является тогда ребенку в виде словесного увещания, приказа или запрещения или в виде механического наказания и награды. Тогда в результате получается чисто механическое подчинение, без сознания его необходимости, подчинение, вымогаемое неустанным надзором и ждущее малейшего ослабления этого надзора для того, чтобы вылиться в поступках, протестующих против непонятной и назойливой власти старших, ничего, кроме голой силы, за собой не имеющей. Искусство воспитателя и здесь опять-таки состоит в том, чтобы уметь провести своего воспитанника между обеими крайностями оторвавшейся от авторитета и преждевременно выродившейся в авторитет силы.