ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В предыдущей части мы подвергли исследованию самую внутреннюю и глубокую, по и самую формальную сторону образования. Стиль человеческой деятельности, форма человеческих взаимоотношений и вытекающие отсюда организационные проблемы образовательных учреждения были преимущественным предметом нашего исследования. Теперь нам надлежит перейти к тем сторонам образования, которые больше относятся к его содержанию, к определению уже не стиля, а предмета человеческой деятельности. Этот переход диктуется самой целью нравственного образования, как мы ее определили выше. Личность растет в меру устремленности своей к сверхличным заданиям культуры. Не в аскетическом отказе от культуры, а в овладении и творческом преодолении культуры (иной способ «ухода» от нее) обретает она свою подлинную свободу и себя самое. Свобода и личность, как формальные начала, требуют материала культурного содержания. К этим более «внешним» сторонам образования мы и перейдем теперь, и прежде всего — к образованию научному.
Термином этим — «научное образование» — мы обозначаем тот вид образования, цель которого есть наука, или знание. Мы могли бы также сказать — «истина», хотя это слово и не употребляется сейчас так охотно, как раньше, в эпоху интеллектуалистической веры во всемогущество знания. Наука, знание, истина есть такая же цель общего образования, как личность, свобода, право. Как каждый должен выработать в себе личность, точно так же и каждый должен быть приобщен к науке и к истине. Не все станут учеными по профессии и не все даже дойдут до высших ступеней научного образования, как не все смогут осуществить в себе высшие ступени свободного самоопределения. Но приобщиться к науке должен всякий. Ибо нет двух знаний — научного и «обыкновенного», а всякое знание, если оно только истинно, есть уже научное знание. Познающий ребенок, делая свои первые наблюдения над действительностью и выводы из них, бессознательно подчиняется уже тем законам и правилам, которые регулируют и работу ученого. «Научное мышление», «научное образование» есть только высшая ступень того процесса, начальными этапами которого являются обыденные рассуждения и жизненные познания ребенка.
Называя обыкновенно научное образование умственным, педагогика не только произвольно разделяет то, что но существу относится к одному и тому же типу явления (исследовательскую работу ученого и ориентирование ребенка в окружающей его действительности), но и отдаст дань старому, ныне уже всеми отвергаемому предрассудку о психических способностях, как бы приуроченных к определенным образовательным целям. Нравственное образование, или образование к Добру было, как мы видели, воспитанием всего человека, а не одной только его воли. Воображение человека, его чувства, его ум, так же как и его тело, одним словом, весь человек в целом должны были быть наставлены на путь творчества и свободного самоопределения. Точно так же и в научном образовании речь будет идти о воспитании человека в целом, а не одной только его умственной способности. Как будто можно вообще делить человека на части и затем вновь составлять его из кусочков! Путь знания и истины не есть пугь одного только ума. Этот путь требует упорного напряжения воли, порыва фантазии, энтузиазма, он предполагает даже определенные навыки тела — одним словом весь человек в целом, а пс только один его, в отдельности никогда впрочем даже не существующий, ум должен быть материалом научного образования. Как направить в с е г о человека на путь знания, приобщить его к науке, — это и должна установить теория научного образования. Ибо подобно тому, как бессмысленно давать художнику патент на право быть глупым (па том основании, что художественная деятельность есть будто сфера одного только чувства), точно так же нелепо мыслить ученого как бесчувственную и безвольную мыслительную машину. Биография ученых достаточно показывает, что только там, где сильный ум соединялся с твердой волей и пламенным энтузиазмом, знание открывалось человеку. Тем более это следует сказать о начальных и средних ступенях знания. Со своей субъективной стороны знание есть процесс, захватывающий ц е л о г о человека.
Этим не только еще раз подтверждается правильность принятого нами деления понятия образования но его целям (нравственное, научное, художественное и т. л.), а не по его материалу (умственное, физическое, воли, памяти и т. д.), по и оправдывается характер дальнейшего изложения. В «теории научного образования» читатель по необходимости встретится с проблемами, выходящими за пределы обыкновенной «дидактики», до сих пор выкраивавшей свое одержание применительно к понятию «умственного воспитания»1.
Глава VIII. ЦЕЛЬ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
При неопределенности самого понятия умственного, или интеллектуального образования вполне понятно, что вопрос об его цели решается в высшей степени различно. Все же среди массы разнообразных теорий по этому вопросу можно уловить два основных течения, резко противоположных друг другу, между которыми колеблются обычные взгляды на цель обучения. Эти две крайние точки зрения, из которых одну можно было бы назвать точкою зрения формального, другую — реального образования, составляют основную антиномию теории научного образования, аналогичную той, которую для проблемы нравственного образования представляет противоположность свободного или принудительного воспитания.
Точка зрения формального развития мышления доказывает свою правоту приблизительно следующим образом. Целью образования не может быть простое приобретение сведений. Сведения быстро забываются, они бесконечно разнообразны, так что, не зная в точности, как сложится в будущем жизнь ученика, совершенно немыслимо выделить именно то, что ученику действительно пригодится в жизни. Наконец, сведения устаревают: то, что сегодня считается установленным законом и бесспорным фактом, завтра опровергается новой научной теорией и новым, более точным наблюдением. Поэтому, если задача обучения — сообщение сведений, то школа, но необходимости всегда отстающая от науки и могущая преподавать только вчерашние истины, никогда не сможет разрешить этой задачи: она всегда будет давать сведения, которые не только, когда их надо будет применять к жизни, окажутся устарелыми, но устарелые уже в самый момент преподавания. А раз сообщение сведений не может быть целью обучения, то очевидно задачей школы должно быть формальное развитие способности мышления. Развитой ум всегда сможет впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни понадобятся и предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание. Человек, умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения, которое всегца пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть.
Так обстоит дело в теории, возражают на это защитники реального образования. На деле «формальное развитие мышления» означает отвлеченную от жизни школу, которая вместо сообщения полезных и интересных, расширяющих умственный кругозор человека сведений ограничивает умственную работу ученика пережевыванием мертвого материала грамматики и чисто формальной математики. Неслучайно в центре преподавания такой школы стоят мертвые языки и так называемое строгое доказательство геометрических и алгебраических теорем. Точка зрения формального развития мышления предполагает наличие каких-то готовых схем, правил и приемов рассуждения, овладение которыми будто бы приучит ученика к дисциплинированному логическому мышлению. Но так как живое мышление таким схемам не подчиняется то и приходится брать мертвый материал не развивающегося более языка и оторванной от жизни математики, центр тяжести которой не в приложении математических познаний к жизни, а в соответствии доказательства логическое схеме. Отсюда изучение грамматических правил, которые в своей логической чистоте не применялись даже древними авторами, и бесконечные задачи на фантастические бассейны, поезда, объемы, уравнения и логарифмы, долженствующие не столько открыть уму математическую структуру природы, сколько подтвердить и разъяснить математическое правило. Понятно поэтому, что, когда уже на уроках физики приходится применять математику, формально развитой ум оказывается беспомощным. Тем более беспомощным он окажется в жизни, требующей находчивости, критицизма, инициативы. Формальное образование далеко таким образом от того, чтобы давать орудие, которым можно самостоятельно добывать нужные сведения. Напротив того, оно есть в сущности воспитание послушного ума, мыслящего в готовых схемах, по преподанным заранее правилам. Нет, школа должна дать ученику ответы на те вопросы, которые выдвигает ему окружающая его жизнь, сообщить ему полезные сведения, обладая которыми человек сможет ориентироваться в жизни и быть полезным членом общества.
Какие же практические выводы вытекают из обеих точек зрения, так удачно доказывающих свою правоту недостатками противника? Мы видели уже, как различно мыслят они материал обучения: точка зрения формального развития мышления естественно ставит в центр образования формальные науки — грамматику, математику, логику, вообще всякого рода теорию, содержание которой последовательно и непрерывно дедуцируется из немногих основных аксиом и положений. Напротив, точка зрения сообщения сведений предпочитает так называемые «реальные предметы» — естествоведение, географию, прикладную математику, новые языки. Более того — самые предметы она склонна мыслить не как замкнутые в себе отграниченные друг от друга логическими предпосылками дисциплины, но как определяемую более практическими потребностями совокупность сведений: «природоведение (куда входят и астрономия с физикой, химия и геология, ботаника и зоология), «родиноведение» (куда входят история, статистика, география, этнография, политическая экономия) и т. п. стремятся здесь вытеснить старые предметы — пауки.
Точно так же различно должны разрешать обе точки зрения проблему контроля работы учеников. Если задача обучения — приобретение определенной суммы сведений, то успешность работы должна, очевидно, проверяться их опросом, ибо только непосредственный опрос может установить, усвоены ли требуемые сведения или нет. Так экзамены являются необходимым следствием реальной точки зрения. Напротив, формальное развитие способности мышления определяется решением задач большей или меньшей трудности: экстемпоралии*, письменные работы и задачи являются естественными способами проверки успешности обучения с этой второй точки зрения. Замечательно, что так называемая экспериментальная педагогика, в общем далеко не разделяющая идеала формального образования, в силу внутренней диалектики тоже пришла к аналогичному способу определения умственного развития ребенка. Последнее определяется, по ее мнению, не суммою усвоенных сведений, а психологическим исследованием интеллекта. На деле, однако, психологическое исследование сводится к решению ребенком разнообразных задач последовательной трудности. Бинэ выработал даже подвергшуюся впоследствии ряду исправлений шкалу умственного развития ребенка, состоящую из подобранных по возрастам задач последовательно восходящей трудности, которые нормальный ребенок должен быстро и без большого напряжения разрешить2. От задач, характеризующих педагогику формального развития мышления, эта «схема одаренности» отличается только своей полной логической бессистемностью, будучи комбинацией вопросов, в решении которых должны по-видимому участвовать все различные элементы интеллекта (память, воображение и т. д.) и которые большей частью носят чисто спортивный характер. Вместо дисциплины мышления здесь центр тяжести лежит на его находчивости.
________________
*Экстемпоралии — классные письменные упражнения, состоящие в переводе с родного языка на иностранный (гл обр. на лат или греч ) без предварительной подготовки- — Прим ред подготовки.
Наконец, не менее различно должны представлять себе обе наши точки зрения и роль учителя и учебной книги. Если цель обучения — сообщение сведений, то задача учителя должна состоять в наиболее удобопонятном изложении своего предмета. Учитель должен возможно хорошо рассказать свой предмет, так чтобы рассказ его запечатлелся ярко в памяти учеников. Его изложение должно быть интересно, живо, подробно, снабжено иллюстрациями, связано с предыдущими уже усвоенными учениками сведениями. Так как сведения могут быть изложены и в учебнике, то учитель незаменим лишь постольку, поскольку устное изложение по живости и наглядности преподавания всегда превосходит письменное. Самый учебник поэтому принимает характер книги для чтения: он должен быть хорошо издан, написан живым, ярким, красочным языком, снабжен разъясняющими и способствующими запоминанию предмета иллюстрациями. Если учитель сам овладел той совокупностью сведений, которые он имеет преподать ученикам, то главная его задача должна быть уже направлена на сообщение этих сведений Этому служит специальная, основанная на психологии техника преподавания, знание и владение которой составляет основу педагогической подготовки. Последняя по своему значению превышает часто чисто научную подготовку учителя: преподаватель, который меньше знает свой предмет, но умеет живо и интересно передать его ученикам, лучше преподавателя, прекрасно знающего свой предмет, но не владеющего техникой его изложения. Таким образом, между учителем и учебником нет принципиального, существенного различия. Учитель превосходит учебник только по степени своей живости, наглядности и интересности, но его задача состоит именно в том, чтобы облегчить работу учеников, помочь им усвоить то, что заключено уже в хорошем учебнике. Конечно, кроме того он еще проверяет работу учеников, заставляет их пройти непройденное, разъясняет им непонятное, восполняет пропущенное в учебнике. Во всяком случае последний стоит в центре преподавания, и деятельность учителя заключается, в сущности, в дополнении учебника и в способствовании ученикам усвоить его содержание. — Для противоположной точки зрения, напротив, учебник не имеет такого значения. Он должен быть не столько книгой для чтения, сколько кратким конспектом тех правил мышления, овладение которыми составляет задачу формального развития ума. А так как последнее достигается упражнением, то центром тяжести преподавания является здесь уже не учебник, а хорошо составленный задачник, и роль учителя состоит в том, чтобы надзирать за тем, как ученик решает предлагаемые ему задачником задачи, исправлять его ошибки и своего рода умственной гимнастикой дисциплинировать его мышление.
Быть может, противопоставляя друг другу обе точки зрения, мы несколько утрировали те выводы, к которым каждая из них приходит, и говорили не столько о том, что они утверждают на деле, сколько о том, что они необходимо должны были бы говорить, если бы они последовательно развивали положенные ими в основу своих взглядов принципы. Но эта утрировка необходима, раз мы хотим понять не только правоту каждой точки зрения, но и вскрыть общую обеим ограниченность. Читатель, знакомый с соответствующей литературой, вряд ли найдет в нашем изложении то, чего не было бы в действительности сказано крайними представителями обоих Дидактических течений. Если он не найдет многого, что ими кроме того было сказано, то только потому, что оба течения не ограничиваются развитием собственной точки зрения, но доказывают свою правоту преимущественно опровержением ложных взглядов противника. Только этим очищением собственных взглядов рассматриваемых течений от окутывающей их полемической оболочки и объясняется схематичность нашего изложения Пусть не смущает читателя то обстоятельство, что эта схематичность граничит с каррикатурою. По глубокому слову Платона, комедия и трагедия в последних свои глубинах совпадают. И действительно, позади изложенной нами педагогической антиномии философ легко рассмотрит более глубокую и трагическую гносеологическую антиномию, лежащую в основе первой. Все затронутые нами вопросы об экзаменах, учебнике и задачнике решаются различно в зависимости от большей частью бессознательно принимаемых взглядов на существо науки и знания. Мы и перейдем к обнаружению этой основной антиномии в теории знания, питающей собою борьбу дидактических воззрений. Мы увидим, что последняя есть не случайный эпизод, а педагогическое отражение глубокого и неизбежного философского противоречия.
2
Эта трагическая антиномия в гносеологии есть антиномия рационализма — эмпиризма. Не подвергая ее здесь подробному и специальному обсуждению, мы ограничимся только изложением тех самых главных ее пунктов, уяснение которых необходимо для пашей педагогической проблемы. Чтобы выяснить, что такое знание, говорит эмпиризм, необходимо исходит из вопроса о его происхождении. Все наше знание происходит из опыта, оно есть результат накопления в нашем уме чувственных данных, простым отвлечением от которых являются и все общие понятия. Так как знание происходит из опыта1, то, следовательно, и достоверно оно лишь постольку, поскольку опирается на опыт. Опыт есть единственное основание достоверности знания2. Все наши понятия и суждения имеют значение лишь потому, что источником их является опыт, т. е. данные чувственного восприятия. Поэтому также знание наше ограничено пределами чувственного опыта. Мы не можем проникнуть за пределы опыта, познать подлинные причины явлений, т. е. не воспринимаемое в опыте существо вещей, да и вопрос, существует ли вообще что-либо позади опыта, есть праздный вопрос. По крайней мере для нас бытие исчерпывается тем, что воспринимается в опыте. Но раз в знании нет ничего, что не было бы предварительно дано в восприятии («nihil est in intellectu, quod antea поп fuerit in sensu» — в уме нет ничего, чего раньше не было бы в чувстве), и так как мы воспринимаем всегда лишь части, целое же недоступно восприятию, то знание составляется из частей путем их чисто механического нагромождения и соединения3. Понятие вещи, связующее множество восприятий в одно неразрывное целое, причинное отношение, устанавливающее между двумя восприятиями необходимую связь, — все это плод привычки воспринимать вместе (одновременно или в непосредственной последовательности) одинаковые восприятия, результат их многократного нагромождения друг на друга. Вещь исчерпывается совокупностью воспринятых частностей, душа есть не что иное, как пучок отдельных восприятий. Общие понятия о вещах и законы о процессах изменения суть не что иное, как условные обозначения, которым не соответствует никакой реальности, орудия запоминания и овладения фактами, единственно только доступными восприятию. Реальны, или истинны только последние. Если же мы в науке строим понятия и устанавливаем законы, то это значит только, что наука стремится не столько подойти к реальности и схватить истину, сколько помочь человеку овладеть фактами, которые он во всем их множестве не в состоянии сохранить в своей памяти. Поэтому наука и знание суть не столько орудия достижения истины, сколько орудия борьбы за существование. Их критерием является полезность, а не истина. Происходящее из опыта, сводящееся к опыту и ограниченное опытом знание есть таким образом лишь орудие для усвоения и удержания в уме отдельных фактов, поскольку эти факты полезны человеку. Как видно, именно это эмпирическое воззрение на знание как на механический агрегат разрозненных и связанных только внешней целью полезности фактов лежит в основании и того взгляда на обучение, который цель последнего полагает в сообщении полезных сведений с помощью внешних механических средств живого, интересного и запечатлевающегося в памяти изложения3.
Что знание не есть механическая совокупность восприятий, — это первоначально чисто отрицательное положение есть исходный пункт рационализма. Если бы знание было простой совокупностью восприятий, то в нем не было бы никакой необходимости и достоверности. Восприятия чисто субъективны, между тем знание по самому существу своему объективно. Данные опыта, как таковые, всегда подвержены сомнению. Но только то, что может выдержать огонь сомнения, есть предмет знания. Наука начинает с сомнения для того, чтобы придти к достоверному и несомненному. Именно потому, что опыт не в состоянии дать чего-либо достоверного, наука уходит от опыта, дабы придти к истине и подлинной реальности, своей очевидностью отличающейся от той всегда подверженной сомнению реальности опыта, которая дается нам в чувственном восприятии. Знания или нет вовсе, или оно получает свою достоверность не от опыта2. Но раз знание не может быть оправдано опытом, то оно, значит, имеет доопытпое происхождение. В основе его должны лежать заложенные в душе человека до всякого опыта, врожденные ему идеи. Эти врожденные идеи, выражающие существенную закономерность и целостность мира, являются подлинным источником достоверности знания, его объективности и необходимости. Отрицать их значит отрицать самое знание. Из этих немногих врожденных идей и проистекает все знание1, и, напротив, только то, что может быть выведено из них путем анализа, может притязать на присущую знанию достоверность. Наука логически вытекает путем анализа и дедукции из этих немногих врожденных идей3, поэтому она и не ограничивается пределами опыта. Данные восприятия дают в лучшем случае уму лишь повод для анализа врожденных ему идей, которые заключают в себе в виде нерасчлененной еще возможности всю полноту знания. Настоящее знание есть поэтому знание не опытное, а сверхчувственное. Через него мы приближаемся к истине и к подлинной Реальности и, в отличие от всегда частных и разрозненных данных восприятия, постигаем мир как единое целое, как целокупность вытекающих из немногих основных начал законов и истин. Оправдать мир как единое законченное в себе и постольку разумное и справедливое целое и составляет высшую цель науки. Знание об этом целом есть метафизика, которой и подчинены все другие науки. При этом логика, как искусство анализа и дедукции, дает возможность не только проверять истину, но и открывать ее. Поэтому и обучение знанию должно состоять не в передаче каких бы то ни было фактов и сведений. Последние являются только поводом и толчком к знанию, которое не может быть никогда сообщено извне, но может быть порождено только изнутри самим познающим субъектом, самостоятельной активностью его ума. Знание есть способность расчленения и дедукции, и обучение знанию должно состоять в приучении ума к этим логическим приемам мысли. Точка зрения формального образования есть только отражение в педагогике гносеологического рационализма.
Мы видим, таким образом, что именно эта в чистой философии уже изжитая противоположность рационализма — эмпиризма продолжает задавать тон в философии прикладной, каковой является теория научного образования. Посмотрим же, какие педагогические выводы вытекают из той третьей точки зрения в гносеологии, которой, как известно, удалось преодолеть указанную гносеологическую антиномию, а именно из критической философии. Преодоление философской противоположности достигается не механическим соединением обоих противоборствующих утверждений, но обнаружением общей им ошибки. Только тогда, когда позади тезиса и антитезиса антиномии мы найдем обгцую предпосылку обоих, возможно снять самую эту противоположность как неправильно поставленную и найти тем самым третью точку зрения, которая, равно отличаясь от обеих и не разделяя общей им ошибки, возвышается над обеими и удовлетворяет правомерные мотивы каждого из исключающих друг друга направлений. Такая общая предпосылка рационализма и эмпиризма заключается, по мнению основателя критической философии Канта, в том, что они не различают между вопросом о значении и смысле знания и вопросом о его происхождении. Эмпиризм говорит: так как наше знание происходит из опыта, то, следовательно, его значимость может быть оправдана только опытом. Рационализм рассуждает: так как знание не может быть в своей достоверности оправдано опытом, то, следовательно, оно происходит из заложенных в душе человека до всякого опыта врожденных идей. Между тем вопрос о происхождении знания не имеет ничего общего с вопросом о его смысле и значении. Одно — установить, откуда происходит наше знание как факт нашей психологической жизни, другое — выяснить, как оно возможно, чем оправдывается оно в своей достоверности Первое есть задача психологии, только второе есть задача теории знания. Допустим, что все знание происходит из опыта: дело психологии выяснить это подробнее и установить, действительно ли это так, и не рождается ли человек уже с некоторым запасом перешедших к нему от предыдущего поколения в силу биологической наследственности умственных предрасположений. Отсюда, однако, отнюдь не следует, что знание, происшедшее из опыта, может быть опытом оправдано в своей достоверности. Ответить на вопрос: как возможно знание, на чем основывается его значимость, или достоверность? — это значит ответить на вопрос о смысле знания, решение которого не зависит от ответа на вопрос о его происхождении1.
Если мы так поставим вопрос, то мы должны будем согласиться с рационализмом, что достоверность знания не может быть оправдана опытом2. Каково бы ни было происхождение знания, знание не есть простая совокупность восприятий. Это уже ясно хотя бы из того, что сам эмпиризм, сводящий знание к восприятию, незаметным образом принуждается постепенно так видоизменить и расширить свое понятие восприятия, что последнее утрачивает свой первоначальный однозначный смысл. Знание есть совокупность восприятий, и, следовательно, «бытие есть то, что воспринимается». Это свое утверждение очень скоро уже эмпиризм принужден истолковать в том смысле, что «бытие есть то, что м о ж е т быть предметом восприятия, хотя бы фактически оно и не воспринималось». Дальнейшее развитие эмпиризма приводит его к еще большему ослаблению им его тезы*. Ни один человек никогда, например, не сможет воспринять вращения земли вокруг солнца, но его восприятие ему всегда будет говорить обратное. Между тем знание в противоположность восприятию утверждает именно реальность вращения земли. Чтобы согласовать многочисленные аналогичные факты из современного развития науки со своей тезой, эмпиризм и должен в конце концов придти к следующему ее истолкованию: «бытие есть то, что, хотя никогда и не может быть сполна воспринято реальным человеком, но находится в непрерывной законосообразной связи с тем, что нами непосредственно воспринимается». А это значит, что знание не есть простая совокупность восприятий, но их законосообразная органическая связь. Отсюда уже один шаг до признания того, что даже само восприятие, если оно не есть простое смутное ощущение чисто животного характера, но есть именно в о с п р и я т и е, т. е. некоторое познание предмета, кроет в себе некий логический момент, который не только вносит целостность в него самого, но и включает его, как необходимую часть, в познаваемую целокупность опыта. Это и выразил Кант в своих известных, резюмирующих его отношение к эмпиризму, словах: «наглядные представления без понятий слепы».
_____________________
*Теза (от греч. thesis — основополагающее положение) — утверждение, положение; в логике — утверждение, требующее доказательства. — Прим. ред.
Но что же такое эти «понятия», этот логический момент в знании, без которого знание — не знание, а простая масса темных чувствований, без которых даже самый опыт не опыт, а нерасчлененная груда «слепых представлений»?
Кант называет этот логический момент в знании, делающий впервые возможным самый опыт, априорными формами и категориями. Сюда относятся, например, пространство, время, причинность. Достоверность всех этих понятий не может быть доказана опытом потому, что она предполагается уже всяким опытным доказательством, притязающим на достоверность. От врожденных идей рационализма эти, логически предшествующие опыту и в этом смысле априорные, формы отличаются тем, что, представляя собою начала единства и целостности знания, они являются только формами, т. е. только одним упорядочивающим и систематизирующим э л е м е н т о м знания, но сами по себе еще не дают знания. Они пе могут породить из себя знания уже потому, что знание есть пе столько расчленение и анализ каких-то готовых идей, сколько непрерывный синтез в направлении построения с помощью данных восприятия единою целокупного опыта, формальную структуру которого они только выражают. Ошибку рационализма Кант уподобляет ошибке голубя, который, чувствуя во время полета сопротивление воздуха, возомнил бы, что, выйдя совсем из сферы воздуха, он сделает свой полет более легким. Поэтому Кант, резюмируя свое отношение к рационализму, и говорит: «понятия без наглядных представлений пусты». Все значение и смысл априорных форм знания исчерпывается тем, что они суть формы опыта. Вне опыта, сами по себе они так же мало могут быть источником знания, как в безвоздушном пространстве возможен полет голубя. В последней своей стадии это должен был признать и сам рационализм, в лице Лейбница пришедший к истолкованию врожденных идей как «виртуальных», т. е. таких, которые заложены в душе человека не как реальное доопытное знание, а как знание только возможное, становящееся реальным благодаря опыту и по поводу него. Кант делает еще дальнейших шаг и говорит: есть только одно знание — именно опытное знание, но это единое опытное знание состоит из двух элементов — формально-логического, являющегося основанием достоверности и целостности знания, и чувственного, доставляющего знанию его материал. Поэтому эмпиризм прав, что знание ограничено пределами опыта. Априорные формы знания способны оправдать его достоверность. Они сообщают опыту присущий ему характер целостности и законосообразности, которым опыт отличается от простой совокупности восприятий. Но именно потому они сами имеют значение не вне опыта, а только погруженные в его глубину.
Таким образом, для критической философии знание не есть механическое нагромождение данных опыта (отличие от эмпиризма), но не есть также продукт анализа немногих основных положений (отличие от рационализма). Знание носит органический и синтетический характер4. Целое есть не предмет рационального знания, отделенного от всегда частичного восприятия, по есть принцип, которому знание следует в своем построении системы опыта, долженствующей вобрать в себя данные чувственного восприятия. Поэтому постичь мир в его абсолютной и готовой завершенности как вытекающее с логической необходимостью из некоего единого начала целое, знание не может. Но отказываясь постичь целое, знание не может удовлетвориться и механическою разрозненностью чувственных восприятий. Задача науки состоит именно в том, чтобы внести целостность в наши восприятия. Задача эта никогда не может быть разрешена. Опыт, как ц е л о е, есть только идея, к которой мы можем лишь приближаться в непрерывном прогрессе, но именно потому ц е л о с т н о с т ь опыта есть принцип знания, согласно которому знание построяет мир действительности. Выражениями этой целостности опыта и являются априорные формы знания.
Если эмпиризм, исходя из того, что знание происходит из опыта, делал знание зависимым от чувственного бытия и смотрел па пего поэтому как на орудие, служащее жизни, а рационализм, напротив, утверждая, что знание проистекает из врожденных идей, делал его зависимым от сверхчувственного бытия, оправдать которое в его разумной справедливости составляет подлинную и верховную задачу знания, — то критицизм провозглашает независимость знания от какого бы то ни было бытия, или ею «автономию». Наука не есть орудие жизни, также как и не имеет своей задачей оправдать разумность и справедливость мироздания. Знание имеет цель в себе самом, что не мешает ему кроме того быть также и орудием жизненной борьбы. Далекое от того, чтобы зависеть от бытия, знание скорее есть то, что впервые порождает бытие. Бытие как законосообразное и достоверное существование находится не до знания, а предлежит знанию, как его построяемый им предмет. Ибо мы и называем только то существующим, что оправдано знанием, что занимает определенное место в построяе- мой знанием картине опыта. То, что не оправдано знанием, есть или недостоверно существующее (подлежащее еще объяснению через знание), или мнимо существующее (поскольку оно противоречит законосообразности опыта и не может быть оправдано знанием). Бытие есть, таким образом, не нечто независимое от знания и логически ему предшествующее, но логическая категория, печать, которую именно знание прикладывает к данным чувственного восприятия, придавая им тем самым достоинство существующих. В этом открытии л о г и ч е с к о г о с м ы с л а бытия и заключается «коперниковскос дело» Канта. Ибо подобно тому, как Коперник открыл вращение земли вокруг солнца, точно так же и Кант открыл вращение бытия вокруг знания, тогда как рационализм и эмпиризм равно видели в знании отражение (чувственного или сверхчувственного) бытия.
Опыт не нредпаходится, а построяется научным знанием. Априорные формы знания и представляют собою законы сочетания Разрозненных чувственных впечатлений в целостное синтетическое единство. Пусть прав эмпиризм в своем утверждении относительности всякого знания. Пусть верно то, что научные системы в лице устанавливаемых ими законов и фактов меняются, уступая место не только новым законам, часто противоречащим старым, но и новым фактам, отвергающим существование того, что недавно еще признавалось за факт. Самая смена научных систем происходит не случайно, она кроет в себе внутренний закон, неизменный и незыблемый в смене и делающий ее впервые возможной. Ибо если изменилась научная система, то только потому, что отношение новых данных опыта к прежним перестало удовлетворять тем требованиям, которые знание продолжает предъявлять вообще научной системе. Постольку знание изменчиво лишь по своему содержанию. По форме своей оно устойчиво, или абсолютно. Всякая новая научная система продолжает решать задачу, нерешенную предыдущей. Новый научный закон и факт заменяют отвергнутый закон и факт потому, что они лучше осуществляют требования целостности и единства, которые наука предъявляет всякому закону и факту. Поэтому, как ни меняется содержание научных истин, направление, в котором идет постройка наукой здания «опыта», неизменно. Если истина по своему содержанию не может быть дана знанию в своей завершенной полноте, то путь к истине, заданный всякому научному построению, остается тождественным. Априорные формы знания и суть не что иное, как указатели пути, которому должно следовать построение наукой опыта, т. е. научное знание. По-гречески путь есть «метод». Поэтому, если знание оправдывается в своей достоверности априорными формами, то это значит, что оно оправдывается своим методом. Метод есть душа знания, его жизнь, им порождаются отдельные научные системы, им же они и низвергаются как недостаточно разрешающие задачу научного построения. Отдельные законы и факты могут устареть и забыться, метод не забывается и не устаревает, ибо им равно построяются и старые и новые законы и факты. Но метод и не есть нечто отдельное от опыта, от законов и фактов, могущее быть усвоенным независимо от них. Только в своей созидающей опыт действенности, в своем живом применении к данным опыта может быть метод усвоен. Он пронизывает опыт так, как жизнь пронизывает организм, как форма художественного произведения пронизывает его содержание. Кант до того настаивает на этой погруженности формы в материю, что нередко склонен даже математику, как чисто формальную науку, считать не самостоятельным знанием, а только элементом знания, только методом построения естественно-научного опыта, почерпающим всю силу и действенность в процессе этого построения. — Какая же дидактика вытекает из этого критического воззрения на знание как на построение бытия согласно присущим ему основным формам? Если неизменна не истина, а присущий ей путь ее нахождения, если жизнь знания составляет его метод, то очевидно и задача обучения заключается в овладении методом науки как животворящим ее началом4.
3
<…> Задача обучения — овладение методом науки. Чтобы понять это положение во всей его глубине, попробуем еще резче отграничить эту точку зрения критической дидактики от обоих рассмотренных нами ранее течений. От простой передачи сведений усвоение метода научного знания отличается тем, что всякое отдельное знание передается здесь как бы не ради себя, а ради некоего более глубокого начала, лежащего позади того, что преподается, и его порождающего. Так, например, возможно двояким образом преподать хотя бы теорему о равенстве треугольников. Можно ее изложить ученику так, что ученик ничего кроме нее не усвоит. Эта теорема будет говорить ученику только то, что она говорит, и он сможет повторить ее как усвоенное отдельное сведение. Но эту самую теорему можно преподать ученику так, что позади нее ученик почувствует тот метод, которым эта теорема была найдена и доказан. Эта теорема будет говорить ученику больше того, что она с виду говорит. Она будет ясна ему и в том, чего она не говорит, а подразумевает: именно в том пути, в том живом направлении мысли, которое ее породило, как часть объемлющей ее целокупно- сти геометрического знания. Увидев путь, которым была построена эта геометрическая теорема, ученик сможет уже сам продолжить полученное движение мысли, самостоятельно придти к нахождению и доказательству новых теорем аналогичного типа. Это будет обучение методу научного знания, сообщение толчка и направления самостоятельной мысли ученика. В первом случае преподается только мертвое сведение, ничего в себе кроме себя самого не заключающее. Во втором случае то же самое сведение (теорема) преподается как нечто живое, как таящее в себе породившее его живое начало метода и потому способное породить новое знание, непосредственно в нем не заключавшееся. Это именно и имел в виду Песталоцци, когда говорил, что задача учителя — дать в руки ученику «нить», — сообщить мысли его определенное направление («leitfaden»)5. Сила всякого слова не в том, что оно говорит, а в том, что оно подразумевает. Слово, которое сполна высказало все, что оно хотело сказать, за которым слушатель не чувствует ничего не высказанного, есть поверхностное и мелкое, мало говорящее слово. Все искусство речи состоит в том, чтобы дать почувствовать позади высказанного глубину невысказанного, которого только незначительной частью, но потому и кроющей в себе объемлющее ее целое, является сказанное содержание. Только такие слова волнуют, двигают, поучают. Точно так же только то знание есть подлинное знание, которое кроет в себе целостность других знаний. Отдельное знание, как знание, возможно, таким образом, тоже через нечто высшее, чем оно, — через порождающий его метод, просвечивающий в нем, как в своем явлении.
Несомненная правота теории формального образования состоит в том, что она отвергала преподавание простых сведений, как сведений, и вместо сообщения сведений ставила обучению задачу дать ученику орудие, которым сведения добываются. Но это «орудие» она понимала не как живой метод, пребывающий в порождаемых им сведениях и реальных знаниях, а как некую отвлеченную, отделенную от реального знания психическую способность анализа и дедукции. Совершенно в духе психологистического рационализма, полагавшего, что все знание проистекает из врожденных идей и может быть получено из них путем дедукции, теория формального образования считала, что задача обучения — приучить ум к выполнению определенных операций согласно готовым правилам формальной логики. Поэтому она и ограничивалась тем, что предлагала уму ученика готовый и мертвый материал однообразных упражнений на определенные отвлеченно формулированные правила. Но метод научного знания не есть отвлеченная способность строить силлогизмы, анализировать понятия, формулировать определения. Метод нельзя усвоить отдельно от самой им порождаемой науки. Изучить формальную логику далеко не значит усвоить метод научного знания. Овладеть методом науки можно, только применяя этот метод к решению конкретных проблем опытного знания. Смысл Кантовского понятия формы в том, что она должна быть погружена в «глубину опыта». И метод можно усвоить, столько творя им новое знание, приходя с его помощь к открытию новых истин, а не упражняясь над мертвым материалом уже открытого и готового знания. В этом глубокий и вечный смысл Сократовой «маевтики»: роль учителя подобна роли повивальной бабки. Учитель должен не рождать за ученика, но только помогать духовным родам ученика, быть восприемником рожденного учеником знания. Дать толчок, сообщить направление, следуя которому ученик сам откроет для себя новую истину, а не показать шаблон, согласно которому он должен разложить готовую и уже открытую истину, — вот что значит «дать орудие, которым сведения добываются». Ошибка теории формального образования состояла в том, что, следуя аналитической теории знания рационализма, она игнорировала синтетически-творческий характер научного метода, живущего в порождаемых им конкретных знаниях и только на них и в них усвояемого. Знание есть творческое открытие истины. Поэтому «дать орудие, которым сведения добываются» возможно только на сведениях же, преподавая реальные знания, развертывая картину объяснения знанием реального мира опыта, а не отдельно и независимо от сведений. В этом несомненная правота теории реального образования, справедливо востававшей против никчемной схоластики чисто формального образования.
Экспериментальная педагогика, видя существо умственного развития человека в усовершенствовании его ума как чисто психической способности, по-своему возвращается, благодаря своему психологизму, к заблуждению теории формального образования. В известной мере она ставит обучению задачу усовершенствовать ум человека в том же смысле, как гимнастика совершенствует мускулы и органы его тела, сделать его как бы умнее, как гимнастика делает его сильнее. Нет ничего неправильнее такого взгляда. Допустим, что исправленная шкала Бинэ дает критерий к определению силы ума, его остроты, сообразительности, находчивости. Все эти качества, даже взятые вместе, не дадут, однако, нам того, что мы пазываем научной культурой ума. Самый находчивый, быстрый, сообразительный ум может остаться глубоко некультурным, чуждым методу научного исследования, может истощать себя в тщетных усилиях найти квадратуру круга или вечный двигатель. И напротив, — ум медленный, неповоротливый, но усвоивший метод научного знания может блеснуть глубокими творческими открытиями. Задача обучения заключается не в том, чтобы сделать человека умнее (усовершенствование ума как чисто психической способности возможно вообще только в известных очень узких границах), но в том, чтобы сделать его ум культурнее, облагородить его прививкой ему метода научного знания, научить его ставить научно вопросы и направить его на путь, ведущий к их решению. Развитой ум — это не просто сильный ум, это ум научно образованный, воспринявший в себя научную культуру, умеющий подчинять произвол своего мышления объективным требованиям метода. Это ум, получивший вкус к истине и усвоивший направление, в котором ее надлежит искать. Для развития такого ума трюки шкалы Бинэ столь же мало показательны, как мало плодотворны для него механические однообразные упражнения над готовым, мертвым материалом.
Отношение современной дидактики к дидактике формального образования аналогично отношению Кантовой трансцендентальной логики к старой формальной логике. Если последняя ставила себе целью установить общие и отвлеченные правила, которым следует мышление, независимо от самого предмета мышления, формы, отделенные от опыта и бытия, пропускающие через себя любое содержание, то Кантова трансцендентальная логика, погружая форму в «глубину опыта», есть логика научного опытного знания, тссно связанная с самим предметом, построясмым знанием. Это — предметная логика, осознание того пути, которым, часто бессознательно, следует ученый, исследующий мир опыта и расширяющий его своими открытиями. Этой предметной трансцендентальной логике, проникающей как бы в самое тело науки, соответствует критическая Дидактика, которая цель обучения видит в приобщении учащегося к творческой работе мысли, пользующейся методом науки, путем вовлечения его в процесс построения методом научного опыта. И подобно тому, как трансцендентальная логика Канта снимает самую противоположность рационализма — эмпиризма, точно так Же и понятие метода, как подлинного предмета обучения, снимает противоположность формального и реального образования. Memoдом научного знания можно овладеть только на сведениях, в связи со сведениями, а не отвлеченно от них. Приобретение сведений необходимо сопутствует овладению методом. Но так как сведения приобретаются путем их открытия учащимся заново, путем их самостоятельного построения, одним словом — путем работы ума, то тем самым неизбежно также достигается и дисциплинирование ума, его способность анализировать и дедуцировать, также как достигается и возможное совершенствование его как чисто психической способности. Ибо и в этом отношении работа в направлении определенной цели имеет преимущество перед не имеющей никакой цели гимнастикой.
Нетрудно увидеть, что разрешенная нами в области научного образования антиномия имеет много сходного с той, которая лежала в основе противоположных течений в области образования нравственного. В понятии свободы как автономии нашли мы решение антиномии свободного и принудительного воспитания. Точно так же понятие метода, как синтетического начала, порождающего знание, снимает противоположность реального и формального образования. Точка зрения приобретения сведений, питаемая игнорирующим логическую закономерность и внутреннюю целостность знания эмпиризмом, провозглашает в сущности произвол познающего субъекта. Знание есть то, что полезно человеку, и в приобретении сведений человек не связан ничем, кроме как своими потребностями, желаниями, интересами. Потакание ученику — в этом грубом обвинении, предъявляемом сторонниками формального образования своим противникам, есть несомненная доля правды. С другой стороны, точка зрения формального развития мышления, отражая в педагогике аналитическое понимание знания рационализмом, провозглашает подчинение ума извне ему преподанным правилам, готовым и данным шаблонам мысли. Воспитание к послушанию не без оснований считается противниками теории формального образования ее подлинным скрытым мотивом . Подобно тому, как критицизм освободил знание от зависимости его от внешнего бытия и утвердил провозглашенную, но не осуществленную Ренессансом автономию научного знания, точно так же и критическая дидактика, видящая в овладении методом знания верховную цель обучения, воспитывает к подлинной свободе мышления. Ибо метод знания не есть нечто внешнее, могущее быть перелитым в учащегося извне. Сам учащийся должен как бы настроить свою душу на определенный научный лад. В этом смысле метод субъективен, он есть форма отношения субъекта к миру. Но, с другой стороны, метод не есть совокупность психических свойств субъекта. Это есть объективное, сверхличное начало, которому познающий субъект должен подчиниться как чему-то для него обязательному, раз он хочет не просто играть своею мыслью, но схватить ею истину, приобщиться к знанию мира. Это есть закон мышления, подчиниться которому можно, только добровольно воздвигнувши его в себе. Не находясь вне человека как предмет окружающего его физического мира, метод не есть также нечто психическое, как внимание, память, чувство, ум. Он лишний раз свидетельствует о том, что мир не исчерпывается физической и психической действительностью, что кроме физического и психического в мире есть еще третье царство, царство ценностей и смысла, в котором наряду с формами знания пребывает в своей вечной заданности и свобода человека. Не потому ли, что это царство ценностей и смысла было для рационализма и эмпиризма заслонено психо-физической действительностью, они и искали тщетно существо знания и цель обучения, — один — во впечатлениях от внешнего физического мира, другой — во врожденных свойствах человеческой души?6,7
4
Какие же практические следствия вытекают для критической дидактики из установленного нами определения ею задачи обучения? Если мы обратимся сначала к вопросу о материале обучения, то мы должны будем сказать, что при выборе предметов обучения решающим моментом для нее будет уже ни полезность их для жизни, ни их формально-логический характер. Раз задачей обучения является овладение методом науки, то, очевидно, наиболее пригодным материалом преподавания должны быть те науки и те отделы наук, в которых метод научного исследования проявился особенно ярко и отчетливо, привел к наиболее ощутимым результатам.
Узнать, далее, овладел ли учащийся методом научного мышления, нельзя ни путем опроса, ни путем предложения ему для решения одной или нескольких задач. Владение методом научного знания означает уменье применять его к решению самых разнообразных вопросов, способность приходить самому к новому знанию, а на вершине научного образования — расширять сферу знания самостоятельными исследованиями. Поскольку результаты таких исследований не изложены самим учащимся в самостоятельной работе (что возможно только па высшей ступени научного образования), установить, овладел ли учащийся и в какой мере методом научной мысли можно, очевидно, только наблюдая в течение сравнительно продолжительного времени за его научной работой. Только наблюдение за тем, как учащийся в повседневной работе пользуется методом научной мысли, как он ставит вопрос, как отклоняет предлагаемые решения вопроса, как сам решает его и обосновывает свое решение, как использует его для постановки новых вопросов, — одним словом только близкое знание ученика, для чего случайное однажды сорвавшееся замечание его может играть иногда решающую роль, а не экзамены и не письменные задачи в состоянии установить степень его научной зрелости.
Учитель, однако, незаменим не только потому, что он один лишь, наблюдая ученика в его повседневной работе, может установить степень успешности этой последней. Он незаменим в еще гораздо большей степени как учитель. Овладеть методом научного знания можно, только наблюдая его в его живой работе. Метод передается не путем книг, а путем заразы, путе.м непосредственной передачи его от человека к человеку. Поэтому первая задача учителя—в классе, в аудитории, в лаборатории, — это мыслить научно, применять метод как живое орудие мысли. Только постоянная напряженность мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научного знания, ставя перед учениками проблему, разрешая с его помощью вставшие перед классом вопросы, встречая им неожиданные затруднения, указывая путь для решения возникающих то у одного, то у другого недоумений, — только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к методу знания. В руках учителя метод должен быть всегда деятельным, неистово имущим себе все новой и новой работы, радостно бросающимся на всякое затруднение, он не должен никогда ржаветь, но всегда сверкать то подобно тяжелому плугу, взрывающему нетронутую целину земли, то подобно мечу, неустанно парирующему удары противника. Каждый познающий субъект по своему, но разному применяет метод научного знания, в этом своем индивидуальном применении открывая в нем новые оттенки и новые возможности. Поэтому именно совместная работа в классе, в семинарии, лаборатории особенно способна приобщить учащихся к методу научного знания, для чего открывшийся вдруг намек, оттенок мысли, наметившаяся внезапно перспектива решения вопроса играют иногда решающую роль. Руководить этой совместной работой класса, указывать ей направление, отзываться на всякий обнаруженный в течение работы вопрос и вариант в его решении, ободрять ищущих своего решения, — вот подлинная задача учителя. Заставляя учителя быть всегда начеку, она требует от него большой внутренней честности, постоянного интереса к своему предмету, его основательного и глубокого знания. Она неизмеримо труднее, чем самое интересное и тщательно приготовленное, все указания психологии использующее изложение сведений, ибо к ней нельзя подготовиться, к ней надо быть всегда готовым. Но только она может длительно заинтересовать ученика, ибо только она двигает его каждый раз вперед. Только она может заразить его духом искания, наставить его на путь решения вопросов, вовлечь его в работу научной мысли человечества. Как мы увидим ниже, это касается не только высших ступеней научного образования, но в равной мере относится и к его низшим ступеням. При этом ясно, что никакой учебник и никакой задачник не могут заменить этой живой работы метода, в которую учитель, как уже владеющий методом, должен постепенно вовлечь своих учеников. Ибо никакой учебник и никакой задачник не могут предусмотреть, к какому новому сведению приведет класс работа его совокупной мысли, и какую именно задачу придется ему в процессе этой работы разрешать. Не учебник и не задачник стоят таким образом в центре подлинного преподавания, а учитель с его неослабевающей бодрствовать мыслью. Учебник и задачник являются лишь условно полезными пособиями в его незаменимой ими работе. Поэтому также внутренний интерес учителя и главная забота его должны быть направлены на самый предмет, им преподаваемый, на научный вопрос, им поставленный и разрешаемый, а не на внешние способы удобопонятного и интересного для учеников изложения предмета. Ученики быстро раскусят, что самый предмет не интересует учителя, что он излагает его пе но настоящему, а с задней мыслыо, что он хочет их как-то обойти и обмануть своим изложением. По настоящему, длительно заинтересовать, по настоящему вовлечь может только подлинный, а не сделанный, непосредственно пережитый, а не расчетливо подстроенный интерес.
Сказать, что метод научного мышления передается путем заразы, непосредственно от человека к человеку, — это значит сказать, что он передается путем устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а всегда живой человек1. На этом именно зиждется незаменимое значение учителя и школы. Никакие книги никогда не могут дать того, что может дать хорошая школа. В этом именно заключается функция школы с точки зрения научного образования, дополняющая то значение ее, которое она имеет для нравственного образования, как воспитывающая человека к работе и праву и помогающая ему найти свое место в жизни среда. Если бы однажды в силу каких-либо причин школа была разрушена, и, значит, устное предание научного метода прервано, наука иссякла бы в данном месте человечества. И тут не помогли бы никакие сохранившиеся библиотеки и никакие лаборатории. Они перестали бы уже что-либо говорить человечеству, разучившемуся их понимать и использовать их в живой работе научного мышления. Впрочем так однажды и случилось в истории — в эпоху падения Римской империи. Распадение хозяйственной жизни и первоначально враждебное отношение к пауке победившего мир христианства привели к разгону школ, вызвали перерыв в научном предании. И много веков должно было пройти для того, чтобы возникшие впоследствии новые школы довели человечество до той стадии развития научной мысли, когда онемевшие книги древности заговорили уже новому читателю понятным ему языком. Школа есть хранительница научного предания, и учитель — живой носитель его. В этом оправдании незаменимости работы учителя лежит и высшее оправдание истинности самой критической дидактики.
Литература вопроса. Классическим представителем теории реального образования является С п е н с е р. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Гл. 1-я. Ярким представителем теории формального образования был в России М.Н.К а т к о в (срв. Каптере в. История русской педагогики, гл. XXVIII).
Критическую (в нашем смысле слова) дидактику в настоящее время развивает Н а т о р п (срв. не столько «Соц. педагогику», сколько статьи о Песталоцци и Гербарте в «Gesammelte Abhandlungcn»). К ней же примыкает в своей книге «Психология и педагогика мышления» Д ь ю и, тоже видящий цель обучения в овладении методом научного знания.
Противоположность рационализма — эмпиризма хорошо изложена на рус. яз. у Н. О. Л о с е к о г о во «Введении в философию», где дан и очерк критической теории знания. Срв. также: Г. Р и к к е р т. Введение в трансцендентальную философию («Предмет знания»). Психологизм как общая предпосылка рационализма и эмпиризма подвергнут классической критике у Г у с с е р л я в «Логических исследованиях» т. I (р. н. под ред. С. Франка).
Примечания
ГЛАВА VIII
- Если у большинства современных авторов смешение в делении понятия «образование» двух принципов деления (по целям и по материалу) носит случайный и эклектический характер (срв. напр. у Спенсера уже в самом заглавии его книги — «Воспитание умственное, нравственное и физическое»), то раньше оно имело более выдержанное и принципиальное значение. Так Платон каждой части души (чувству, воле, разуму) приурочивает определенную образовательную цель. Поэтому эстетическое образование (гимнастика, музыка) было у него воспитанием чувств, этически-правовое — воспитанием воли и философско-научное — воспитанием разума. С другой стороны, Руссо, определяя образовательные цели наличным подлежащим воспитанию материалом, последовательно приурочивает каждый вид образования определенному возрасту: период до 12 лет есть период воспитания внешних чувств (sensatios, физическое воспитание); период от 12-ти до 15-ти лет — период умственного воспитания; от 15-ти до 30-ти лет — период нравственного религиозного воспитания (т. е. воспитания внутренних чувств — sentiments).
- Кроме сочинений самого Бинэ («Новые идеи о детях») срв. исправленную шкалу Бинэ у М е й м а н а, Очерк экспер. педагогики. 1916, и у Р у б и н ш т е й н а, Педаг. психол. 2-ое изд., стр. 383.
- Этому не противоречит тот факт, что Л о к к, основоположник английского эмпиризма, стоял отчасти на точке зрения формального развития мышления, или дисциплины ума. Дело в том, что эмпиризм вплоть до Юма был совершенно согласен с рационализмом в том, что математика есть чисто аналитическая наука, пользующаяся исключительно анализом и дедукцией. Поэтому реальное образование, на котором Локк настаивал, должно быть восполнено и дисциплиной ума.
- Если в следующей схеме расположить существенные положения эмпиризма, рационализма и критицизма, то легко можно обозреть пункты их взаимного сходства и различия:
|
Эмпиризм |
Рационализм |
Критицизм |
|
1). Знание происходит из опыта. Следовательно |
1). Знание происходит из врожденных, заложенных в душе человека до всякого опыта идей, так как |
1). Вопрос о происхождении знания не имеет ничего общего с вопросом о смысле и существе знания. |
|
2). Достоверность знания основана на одном только опыте. Следовательно |
2). Достоверность его не может быть оправдана опытом. |
2). Достоверность знания не может быть оправдана опытом. Она м. б. оправдана только априорными началами, являющимися, однако, лишь формами чувственного материала. Поэтому |
|
3). Знание ограничено пределами опыта и |
3). Знание не ограничено пределами опыта и |
3). Знание ограничено пределами опыта, который представляет собою, однако, |
|
4). Есть простая совокупность восприятий, |
4). Есть продукт анализа и дедукции из немногих априорных начал. |
4). Целостное и синтетическое единство. |
|
5). Назначение которой быть полезным орудием жизни. |
5). Назначение его — оправдать мир как законченное в себе, разумное и справедливое целое. |
5). Назначение знания в нем самом. |
|
6). Поэтому задача обучения — приобретение сведений. |
6). Задача обучения — формальное развитие мышления. |
6). Задача обучения — усвоение метода науки. |
- Срв. П е с т а л о ц ц и. Как Гертруда учит своих детей.
- И не случайно, конечно, формальное образование было излюбленным средством воспитания к послушанию, как мы это имеем, например, в иезуитской школе и в русской реакционной школе гр. Д. Толстого.
- Значение живого предания с замечательной силой показано П л а т о н о м в «Федре», где, в связи с мифом об изобретении царем Теутом письма, «живое и одушевленное слово» противопоставляется слову писанному. Только первое «может само за себя постоять» и способно поэтому, зачиная знание в душах других, его увековечивать. Phadr., особ. 274 В сл.
Глава IX. СОСТАВ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Если цель обучения — овладение методом научного знания, то состав научного образования определяется степенью той яркости и отчетливости, с которой в отдельных пауках проявляется метод научного исследования. Таков был вывод, к которому мы пришли в предыдущей главе. Какие же науки. выражают метод научного исследования с особенной наглядностью и силой, делающей их поэтому особенно пригодными для преподавания? Пользуются ли далее все пауки одним и тем же методом, или метод научного знания разветвляется на несколько основных существенно между собой различающихся направлений? Эти вопросы необходимым образом приводят к основному вопросу о взаимоотношении различных паук между собой, т. е. к вопросу об их классификации. И действительно, нетрудно показать, что состав научного образования определялся в педагогике согласно той классификации паук, которая явно или в скрытом виде принималась соответствующими авторами. И с этой стороны подтверждается, таким образом, установленная выше зависимость дидактики от логики.
1
Множество предложенных логиками классификаций наук можно разделить на два основных типа: тип монистических и тип плюралистических классификаций. Классификации первого типа не признают никаких разветвлений научного метода. Они считают, что научный метод един и однообразен во всех пауках, и отдельные науки различаются между собой или по материалу исследования или по степени «точности», т. е. совершенства, с которой один и тот же метод проявляется в познании разных областей действительности. Сюда относятся, например, из древних классификация наук Платона, а из классификаций нового времени — Ог. Конта и Г. Спенсера. Плюралистические классификации, напротив, считают, что некоторые пауки различаются между собою не только количественно (по степени точности), по и качественно. Научный метод, быть может и единый в своей основе, разветвляется, однако, на несколько принципиально различающихся между собою направлений. Науки различаются между собою не только по материалу, по и по целям исследования. Сюда относятся как раз все классификации новейшего времени: Вупдта, Когепа-Наторпа, Мюнстербега и Риккерта.
В качестве примера монистической классификации мы возьмем классификацию Ог. К о н т а, как имевшую в свое время наибольшее влияние и до сих пор еще пользующуюся широким признанием в кругах естествоиспытателей.<…> В техническом овладении природой, открывающем перспективу рационального устроения всей жизни, видит Конт главную задачу пауки, провозглашая унаследованный им от Ренессанса (Бэкон, Кампанелла) идеал человека как полновластного господина спосй судьбы. Познание законов и есть потому главная задача науки. Вся действительность, в том числе и действительность человеческой жизни, понимается как единая, подчиненная общим законам и допускающая рационально-техническое овладение природа. Наука есть знание о природе.
Классификацию паук Конта можно по праву назвать поэтому «натуралистическим монизмом». Отрицая философию как самостоятельную пауку, игнорируя в своей иерархии филологическое и историческое знание (которое понималось им только как материал для абстрактных наук), распространяя естественнонаучный метод на область социальных явлений, Копт провозгласил своей иерархией гегемонию естественнонаучного метода. Педагогические выводы из этой классификации паук были Контом только намечены, но пе развиты подробно1. Включенные в «иерархию» абстрактные пауки признаны были им единственными предметами общего образования, причем порядок их изучения должен был соответствовать их иерархическому порядку пе только потому, что самое абстрактное есть одновременно и самое простое, по также и потому, что последующие пауки основываются па предшествующих. Поэтому социология, увенчивающая собою иерархию паук и обосновывающая самый закон прогресса (закон прохождения человечеством трех сгадий — теологической, метафизической и позитивной), означает вместе с тем и вершину научного образования2.
Все дальнейшее развитие проблемы классификации наук в XIX веке означает постепенный и последовательный отказ от «натуралистического монизма», так ярко представленного в иерархии Копта. Уже С п е н с е р вносит в иерархию Копта две существенных поправки. Все науки он делит на абстрактные (логика, математика), абстрактно-конкретные (механика, физика, химия и т. д.) и конкретные (астрономия, геология, биология, психология, социология и т. п.). При этом абстрактные науки изучают формы, в которых являются нам явления, абстрактно-конкретные изучают самые явления в их элементах, а конкретные — явления в их целом. Таким образом, в отличие от Конта он понимает математику пе как вершину единого процесса упрощения и абстракции, а как формальную основу процесса абстрагирования (несомненно под влиянием Канта). С другой стороны, он различает между пауками объясняющими, имеющими своей задачей установление формулируемых математически законов в смысле Конта, и науками описательными, пользующимися родовыми понятиями, а не понятиями-законами и ставящими себе целыо не установление безусловно постоянных отношений, а расположение изучаемого ими материала по группам и классам с относительно неизменно повторяющимися признаками. Наконец, философия у Спенсера хотя бы в лице одной только логики тоже получает более самостоятельное значение как наука о формах явлений. Однако Criencep в общем всецело стоит на почве натуралистического монизма и, несмотря на резкую критику иерархии Конта, он так же, как последний, игнорирует филологические и исторические пауки, не находящие себе места и в его классификации.
В противоположность этому современная логика решительно отказывается от натуралистического монизма. Все выставленные в последнее время классификации наук отличаются от Контовской и Спенсеровской тем, что кроме естественных наук они признают наличие отличающейся от них по своему предмету и методу особой группы философских наук, так же как наличие особой группы гуманитарных наук. Эта отличная от естественно-научной ветвь эмпирического (не философского) знания понимается разными логиками различно: то как «науки о духе» (Geisteswissenschaflen) в отличие от «наук о природе» (Naturwissensehaften) — сюда относятся В у н д т, основывающий «науки о природе» на математике, а «пауки о духе» — на психологии, и К о г е н и Н а т о р п, основывающие первые на логике и математике, а вторые на этике и праве; то как «науки субъективирующие» в отличие от «объективирующих наук», куда входят равно физика, психология и социология, — такова классификация М ю н с т е р б е р г а; то как «науки о культуре», в отличие от «наук о природе», как это делает Р и к к е р т. Существенно то, что все современные классификации паук, будучи плюралистичными, принимают наличие нескольких основных направлений научного метода. Все они стараются не столько реформировать науку и предписать ей определенный метод, как это делал Конт, сколько понять пауку во всем многообразии ее проявлений. Мы пе можем здесь входить подробно в обсуждение деталей этой интересной и важной проблемы классификации наук. Мы ограничимся здесь изложением пашей собственной точки зрения, которая в общем примыкает к теории Риккерта, глубже других, па наш взгляд, постигшей «границы естествеппо-паучпого метода» и необходимость восполнения «паук о природе» другими ветвями научного знания.
2
Конт в общем правильно понял задачу и метод современного естествознания. Если наука древних пользовалась преимущественно родовыми понятиями, стараясь найти неизменные признаки вещей и распределить наблюдаемые в опыте явления но резко разграниченным между собой классам, то современная наука стремится установить постоянные законы явлений. Общее понятие естествознания есть прежде всего попятие-закон, т, е. понятие постоянного отношения между двумя изменяющимися величинами, а пе ноня- тие-род, как совокупность определенных неизменных признаков.<…>
Было бы, однако, неправильно сказать, что родовое понятие не имеет больше применения в современном естествознании. Несомненно, в точных науках, как физика, химия, астрономия, оно все более и более вытесняется понятием-законом. Но понятие-закон могло вообще утвердиться в этих науках только потому, что подлежащий законосообразному «объяснению» материал предварительно был подвергнут подробному «описанию» с помощью родового понятия. Роль родового понятия и состоит в том, чтобы быть застрельщиком, первым этапом знания. Естествознание пользуется им для предварительной систематизации и упорядочения материала, посылает его для предварительной разведки, как конницу высылают для предварительного занятия подлежащей завоеванию области, и только потом уже эта область прочно занимается тяжелой артиллерией и пехотой понятия-закона. Поэтому вытесняемое из одних отделов науки понятием-законом, родовое понятие проникает в новые только что открытые области знания. Чем сложнее, однако, подлежащие объяснению процессы действительности, чем меньше поддаются они математизации, тем больше выступает роль родового понятия. Органическая жизнь особенно сопротивляется господству понятия-закона, и потому описание с помощью родового понятия, а не закономерное объяснение является до сих пор преимущественным методом биологических наук. Поэтому также биологическая техника (агрономия, медицина т. д.) отличается наименьшей точностью. Но это не значит, что понятие-закон принципиально не имеет доступа в область органической жизни. Напротив, после Дарвина оно и в этой области одерживает все новые и новые успехи. Принципиально вообще нельзя положить никаких преград распространению понятия-закона на все области эмпирической действительности. Тот факт, например, что психология и социология до сих пор не пришли еще к установлению точных законов, напоминающих законы физики и химии, не доказывает еще невозможности установления вообще психологических или социологических законов. Поэтому с чисто логической точки зрения против возможности установления таких законов ничего нельзя возразить. Социология как естественная наука, построяющая законы естественной жизни, принципиально возможна. Дух естествознания никогда не примирится с «табу», которое некоторые ученые выставляют для естественнонаучного метода в области общественных и психических явлений, исходя из понятия свободы воли, великих людей, нарушающих своими свободными действиями закономерность явлений и т. д. Правда натуралистического монизма, питающая весь его самоуверенный пафос, состоит именно в этой вере его в безграничность значимости естественнонаучного метода, в способность последнего со временем проникнуть в тайны органической и общественной жизни и тем самым подчинить человеческой технике не только внешнюю природу, но и природу отдельного человека и общества.
Однако, неограниченный извне никакими пределами, готовый распространить свое господство на всю эмпирическую действительность, естественнонаучный метод ограничен по необходимости изнутри, законом своей собственной деятельности. Показать это и составляет громадную заслугу Риккерта в области теоретической философии. В чем же состоит эта граница? Риккерт видит ее в экземплярном характере доступной естественнонаучному объяснению действительности. Естествознание, по его мнению, может объяснить и сохранить в знании только те явления действительности, которые служат экземплярами некоего общего родового понятия или понятия-закона. В этом смысле Риккерт и называет естественно-научный метод «генерализирующим». Мы уже знаем, как неправильно из того, что естествознание стремится установить общие законы действительности, делать вывод, что единичная действительность ускользает от естественнонаучного знания. Точно так же неправильно было бы сказать, что естествознание объясняет в действительности только то, что повторяется, и постольку ограничивается только общими случаями, тогда как единичная действительность как таковая, во всем ее многообразии, неповторима. Никакая наука не способна схватить действительности во всем ее многообразии, и потому неповторимая во всем своем многообразии действительность означает границу всякого знания вообще, а не именно естественнонаучного знания. С другой стороны, естествознание объясняет сплошь и рядом неповторимые единичные факты, хотя и не во всем их многообразии.<…> Современное естествознание достигает своей цели путем установления закона, находимого через построение общего случая в котором знание отвлекается от численных различий отдельный единичных моментов схватываемого законом процесса. Именно потому, что метод естествознания есть метод овладения действительностью посредством числа, все отдельные частные случаи обладают для него одинаковой ценностью, представляются собою лишь всегда могущие заменить друг друга экземпляры. Незаменимое, обладающее единственной в своем роде ценностью, не может быть поэтому познано естествознанием. Оно именно и составляет границу естественнонаучного метода. Но эта граница, как мы видели, полагается естествознанию не извне, а изнутри — его же собственным методом. Она составляет также границу и естественнонаучной техники. Техника создает лишь меновые ценности. Она строит лишь то, что может быть замещено другим благом того же рода, что, однажды уничтоженное, может быть по желанию воссоздано вновь. Там же, где техника создает незаменимое, обладающее единственной в своем роде ценностью, она уже перерождается в искусство. Но существует ли в мире незаменимое? И если да, то может ли оно быть познаваемо? Не составляет ли незаменимое границы не только естественнонаучного метода, но знания вообще?
3
Что в мире незаменимое существует, и что незаменимое носит название индивидуального, — это мы знаем из предыдущего изложения. Индивидуальное отличается от экземплярного не своей единичностью и неповторимостью (экземплярное тоже неповторимо и единично), но своей незаменимостью, тем, что оно обладает не меновой, а безусловной ценностью, сообщающей ему печать единственности в своем роде. Индивидуальное и составляет подлинный предмет исторического знания. Устанавливаемое нами понятие индивидуального таким образом шире того, что обыкновенно понимается под индивидуальностью. Индивидуальным может быть не только человек (Микель-Анджело, Петр Великий), но и событие (открытие Ньютоном и Лейбницем дифференциального исчисления, основание III Интернационала) и географическое положение (соседство Киевской Руси со степью), средний тип человека (средний религиозный человек Запада XIII века), класс (рабочие эпохи Французской революции) и партия (коммунистическая партия). С другой стороны, не всякий человек непременно индивидуальность, но только ставший незаменимым на своем месте человек. Поэтому история, понятая как наука об индивидуальном, не сводится к биографии великих людей, не приводит непременно к утверждению ♦примата духовного фактора» и т. д. Экономическая форма производства (напр. русская фабрика XVIII века) может быть так индивидуальна, как и высказанная мыслителем идея («Критика чистого разума» Канта). Различие психического и физического, играющее большую роль в естествознании, в истории вообще не имеет значения. Индивидуальное, как таковое, индифферентно к этой противоположности3. Неделимость, присущая индивидуальному и выраженная в самом его наименовании как «ин-дивидуалыюго», есть только следствие его ценностной незаменимости. В отличие от качественной неделимости элемента как предельно простого, и количественной неделимости атома, как математически неделимого, индивид качественно и количественно делим. Он неделим лишь постольку, поскольку деление его уничтожает его в его своеобразной и незаменимой ценности, подобно тому как раскрошенный Kohinoor утрачивает всю свою ценность единственного в своем роде бриллианта и уравнивается в ценности в угольной пылью, или разбитая на осколки статуя Венеры сохраняет в лучшем случае ценность археологического документа.
Как возможна, однако, такая ценностная незаменимость индивида? Нам нетрудно ответить на этот вопрос, ибо мы уже знаем из предыдущего, что индивидуальное в своей незаменимости и неделимости возможно лишь через сверхиндивидуальное начало, к которому оно устремлено и своеобразным обнаружением которого оно является. Мы показали это выше подробно на примере индивидуального действия и индивидуальной личности человека4. Но то же относится ко всем видам индивидуального. Если бы ценности искусства, государства, математического знания, хозяйства обладали только мимолетным, а не возвышающимся над временем значением, то ни Микель-Анджело, ни Петр Великий, ни открытие дифференциального исчисления, ни русская фабрика XVIII века не могли бы быть индивидами, т. е. незаменимыми в своем ценностном своеобразии единствами. Только потому, что каждое их этих лиц, событий, групп, предметов внесло нечто свое в решение сверхвременных заданий культуры, оно могло занять свое, никем другим не могущее быть замещенным, место в целокупности человеческого творчества. Лишь через культуру, как целокупность вневременных заданий, возможно сохранение прошлого от уничтожения, его передача от поколения к поколению, т. е. то чудо предания, которое мы и называем историей5. Теперь нам ясно, почему историческое и есть индивидуальное: только то, что укоренено в культурной ценности, становится сразу и незаменимым и сохраненным от забвения. Оно сохраняется в силу своей незаменимости для бесконечного целого культуры, т. е. в силу и в меру своей индивидуальности. Поэтому Риккерт правильно называет историю «индивидуализирующей наукой о культуре» (individualisierende Kulturwissenschaft) и справедливо отграничивает укорененность в культурной ценности, которую он не совсем удачно называет «отнесенностью к ценности» (Wertbeziehung), от оценки. «Ценностный» характер индивида, — это не значит вызывающий нашу положительную или отрицательную оценку. III Интернационал может вызывать нашу самую резкую отрицательную оценку, Ньютоново понимание пространства и времени может быть предметом нашей критики, рационализм эпохи Ренессанса мы можем считать заблуждением или, напротив, приветствовать его как освобождение человечества, — все равно все перечисленные события, могущие по разному быть оцененными нами, представляют собою исторические индивиды независимо от нашей их оценки. Вызывая разную с нашей стороны оценку, они все в равной мере занимают свое определенное место в целокупности человеческой культуры в силу того, что каждым из них внесено нечто свое в решение человечеством предстоящих ему сверхвременных заданий культуры. Объективность этих заданий, вознесенность ценностей культуры над временными и преходящими стремлениями отдельных лиц, групп, партий обеспечивает объективность самой истории и возможность всем этим стремлениям сохраниться в виде переходящего от поколения к поколению предания, как своеобразным оттенкам в решении человечеством все тех же заданий, независимо от того, видим ли мы в них со своей узкой точки зрения своих предшественников, дело которых мы должны продолжать, или своих врагов, с которыми мы должны бороться. Уже самая эта необходимость бороться с мертвыми показывает, что осуждаемое нами прошлое не совсем умерло, но сохранилось как живое предание, составляет хотя бы и отвергаемую нами сейчас часть нашего собственного Я. В этом смысле наши славянофилы так же носили в себе Петра Великого, как наши западники — московскую Русь Тишайшего царя.
Истории, как эмпирической науке, чуждо поэтому понятие прогресса, означающего не только развитие, в котором последующая ступень превышает предыдущую в своей ценности. Понятие «прогресса» предполагает оценку каждой ступени с точки зрения определенного культурного идеала. Считать, что вся предшествующая история существовала только для того, чтобы реализовать желательный нам культурный идеал, — это было бы действительно узким провинциализмом, для которого интересы своей колокольни суть высшие и последние интересы существования. История, как эмпирическая наука, несовместима с такой ограниченной субъективной точкой зрения. Поэтому глубоко неправильно утверждать, что история есть субъективная наука (русская «субъективная школа в социологии», отчасти Мюнстерберг), что история имеет своей целью судить и оценивать прошлое, что историческое знание зависит не только от логики, как науки о бытии, но и от этики, как науки о долженствовании (Когне, Наторп, Штаммлер). Если от оценки событий с точки зрения своего субъективного идеала и не всякий историк может воздержаться, то это не значит, что такая оценка логически связана с существом исторического знания. Нет, она есть только психологический привходящий плюс, предполагающий предварительное простое «отнесение к ценности», которое единственно только входит в логическое понятие истории как науки об индивидуальном. Как реальный процесс, история укоренена не только в долженствовании, но и в праве и в хозяйстве, в науке и в искусстве, также как и в религии, т. е. во всей целокупности ценностей-заданий, составляющих культуру и познаваемых не одной только этикой, но всеми философскими дисциплинами вообще. В этом смысле вся философия в целом, а не одна только этика должна была бы «обосновывать» историю. Но к а к з н а н и е, история зависит только от логики, и задача ее не оценивать и судить, а познавать, т. е. сохранять в знании изучаемую ею индивидуальную действительность, «постигать умом отсутствующее как присутствующее»6.
Объяснить исторически какое-нибудь индивидуальное явление значит включить его в объемлющее его индивидуальное же целое, понять его из совокупности охватывающих его культурных взаимоотношений. Поэтому схема исторического понятия есть знакомая уже нам схема конкретной целостности, внутри которой индивидуальное выступает тем ярче в своем своеобразии, чем глубже оно в нее погружено.
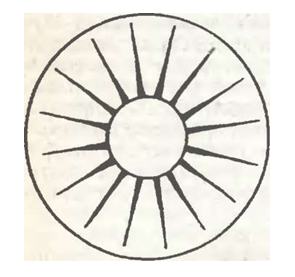
|
Задача историка — разложить подвергаемое им объяснению индивидуальное явление на составляющие его культурные компоненты (хозяйственный, научный, правовой, политический, художественный, религиозный и другие «факторы») и тем самым «поставить его в связь» с непосредственно облегающим его более обширным, но индивидуальным же целым, которое в свою очередь должно быть понято из облегающей его индивидуальной совокупности культурных «влияний». Этот процесс последовательного включения исторического индивида в объемлющую его связь индивидуального целого не имеет конца. Для исторического знания историческии универсум, точно очерчивающий начало и конец истории, есть такая же неразрешимая идея7, как для естественнонаучного знания неразрешимой идеей является тот последний закон, та общая формула Лапласа, которая устанавливает в единой совокупности перекрещивающихся рядов все известные законы природы и каждому событию в природе указует в ней свое определенное, числом закрепленное место. Как естествоиспь татель считает изучаемый им факт или закон объясненным тогда, когда ему удалось нанизать его на жердь более общего закона, точно так же и эмпирик-историк считает свою задачу выполненной, когда ему удалось объясняемое им историческое явление всесторонне включить в непосредственно облегающее его индивидуальное целое, на фоне которого оно выступает в своей незаменимой необходимости. Поэтому, как неправильно говорить, что естествознание ограничивается только общим и игнорирует единичное, точно так же неправильно говорить, что история ограничивается только единичным и не знает общего. Если общее естествознания есть закон, располагающий единичное в однозначный, числом определяемый ряд, то общее истории есть индивидуальное целое, объемлющее частные индивидуальные явления совокупностью идущих от него в пространстве и времени связей. Противоположность общего — частного не способна уяснить нам различия истории и естествознания уже потому, что общее и частное не противоречат друг другу, а составляют члены единого логического взаимоотношения. Именно это логическое взаимоотношение общего-частного различно в истории и естествознании, принимая в одном случае форму взаимоотношения закона и единичного случая, в другом — целого и части. При этом «более общее» историческое понятие (напр. «Ренессанс») обладает по сравнению с более частным понятием (напр. «Боккачио») не только большим объемом, но и более богатым содержанием, чем оно и отличается от родового понятия, содержание которого находится в обратном отношении к его объему.
Таким образом в своем познании индивидуальной действительности история, так же как и естествознание, разлагает действительность на ее элементы и построяет ее посредством понятий. Она отнюдь не ставит себе целью — «воспроизвести действительность во всем ее наглядном многообразии», «воскресить» ее в живой интуиции, что составляет задачу не исторической науки, а в лучшем случае исторического искусства. Последнее, подобно всякому искусству, дает нам целостный и замкнутый в себе образ, в самом себе носящий свое оправдание, себе довлеющий, заключающий в себе живу ций своей особой жизнью мир. Поэтому искусство, даже когда содержанием его является историческая действительность, как бы изолирует ее из мира реальности обрывает выходящие за пределы художественной темы связи и отношения, для чего не останавливается перед искажением исторической правды. Цельность характера, внутренняя правда трагедии важнее ему той совокупности реальных связей и взаимоотношений, в которую реальное историческое явление в действительности погружено. Индивидуальность художественного образа не знает характеризующую всякое знание и нарушающую непосредственность восприятия противоположность общего и частного, единых только в своем взаимном отрыве друг от друга. История есть наука, не менее, хотя и по- своему, абстрактная, чем естествознание. И если она ставит себе задачей познание индивидуальной причинности однажды имевших место и неповторимых в своей незаменимости влияний, индивидуального развития, индивидуальных связей, а не установление общих законов, то не потому, что она не может установить таких законов, а потому что она не хочет их устанавливать. Пусть социология устанавливает законы человеческих обществ, следуя в этом методу естествознания. Задача истории — познать то, что в силу своего собственного метода, т. е. в силу своего собственного нежелания, бессильно познать естествознание, и что, однако, реально существует в мире и потому требует своего познания, — именно индивидуальную действительность.
Вытравить у человечества этот познавательный интерес к индивидуальному никогда натуралистическому монизму не удастся. Не удастся не только потому, что знание всегда будет стремиться постичь всю действительность (а индивидуальное не менее действительно, чем экземплярное), но и потому, что знание индивидуального имеет громадное практическое значение. Чтобы действовать, надо уметь подчинять себе природу. В этом подчинении природы человеку через познание ее законов и состоит утилитарная цель естествознания, осуществляемая техникой. Но устойчивость и прочность действия требуют подчинения человеку еще одной стихии кроме природной. Эта вторая стихия, которой человек должен овладеть ради успешности своего действия, есть воля, устремления, желания, действия других людей. Мы знаем, что уже хозяйство не удовлетворяется простым механическим подчинением природы, которое техника, как таковая, может обеспечить, но хочет пробудить дремлющие в природе силы как бы к добровольному служению их человеку8. Ибо недостаточно чисто механически подчинить себе природу. Такая победа будет недолговечной, будет требовать неустанного надзора со стороны победителя, который будет прикован тем самым к своему всегда готовому возмутиться рабу. Нет, нужно, чтобы действие, оторвавшись от создавшего его человека, в самом себе носило мощь внутреннего сопротивления, могло сохраняться в жизни в силу внутренней своей органической плодотворности. Для этого оно должно быть не навязано извие согласно отвлеченным схемам оторванного от жизни знания, а вырастать из всей окружающей его культурной обстановки, разрешать проблемы, действительно поставленные жизнью, и от жизни же получать свое поддерживающее его и оплодотворяющее его питание. Тем более это надо сказать о действиях политика, которые в еще большей степени, чем действия «хозяина», направлены на волю и действия других лиц, сопротивление которых они испытывают. Ограниченность неисторического мышления состоит именно в том, что руководимое им действие носит чисто механический и потому недолговечный характер. Таково было, например, мышление и действие руководившего Французской революцией поколения, которое так прекрасно охарактеризовал Тэн. Представители этого поколения думали, что нет преград мощи познавшего законы природы человека. Они думали, что достаточно построить в мысли идеальный «естественный» порядок и предписать его другим, чтобы порядок этот был осуществлен в действительности. Устанавливая этот порядок, они исходили исключительно из «природы» человека и общества, поскольку она обща всем людям — безразлично к месту, времени и обстоятельствам. Они игнорировали при этом индивидуальное состояние своего народа, стремления отдельных его групп, его культурное достояние, высоту достигнутого им культурного уровня. Подражая героям Греции и Рима и руководясь исключительно общими законами человеческой природы, они не подумали подсчитать находящихся в распоряжении их народа культурных благ, но поставили себе задачей построить новый мир на очищенном от всего исторического хлама месте. В результате они пали жертвой своей горделивой самоуверенности. Отвергнутая ими история жестоко надсмеялась над ними, обратив все их замыслы против них самых и воспользовавшись ими как подставными фигурами в своих собственных целях. Недаром последующее поколение, пережившее крушение горделивых лозунгов Французской революции, провозгласило пассивную покорность всему историческому и выставило теорию «хитрости исторического разума», распоряжающегося людьми как марионетками для осуществления своего сокрытого от людских взоров мирового замысла9.
Чтобы быть долговечным и вместе с тем творческим, действие человека должно быть одинаково чуждо гордыни натуралистического рационализма и пассивной покорности историзма. История Должна быть переделана, но только та переделка ее будет прочной, которая использует сокрытые в обществе творческие силы так, что они как бы добровольно отдадутся ей в услужение. А для этого нужно знать и н д и в и д у а л ь н о е состояние общества, переживаемый им с е й ч а с исторический момент, т. е. совокупность накопленных им до сих пор культурных благ и вытекающих отсюда его творческих устремлений. Это знание ему может Дать только история. Поэтому политику недостаточно быть техником. Чтобы победить историю, надо так же уметь подчиняться ей, как чтобы победить природу. Это утилитарное значение истории для политика глубоко было понято и прекрасно формулировано К л ю ч е в с к и м, усматривающим практическую пользу исторического знания в том, что оно составляет как бы инвентарь культурного богатства народа, т. е. тех средств, которыми может располагать политик и тех сил самого общества, на которые он может рассчитывать10. История дает ему знание тех пунктов, из которых он должен исходить в своем действии, к которым он может приложить свою волю. Тогда только действие его будет укоренено в целостности объемлющей его культурной среды, будет органически вырастать из нее и, подобно всему органическому, в самом себе носить основания своей устойчивости и своего роста. В этом умении ограничивать свою волю требованиями той индивидуальной, неповторимой (в смысле назаменимости) обстановки, к которой воля политика прилагается, и состоит его величайшее искусство. Это отнюдь не готовность простого приспособления и оппортунистического компромисса. Нет, это то уменье побеждать через преодоление себя самого, о котором Гете говорит: «Von der Gewalt, die alle Wesen binder, befreit der Mensch sich, der sichuberwindet» (от той силы, которая всех связует, освобождается лишь человек, себя побеждающий). «Историческое мышление» питает это уменье, точно так же как «естественнонаучное мышление» питает уменье механически побеждать природу. От преодолевающего себя самого самоограничения политическое действие не только не слабеет как действие, но в нем именно оно черпает свою устойчивую силу. В отличие от чисто механической мощи простой техники, сила эта носит органический и нравственный характер. Обучая искусству самоограничения и укоренения действия в целостности объемлющей его среды, история сообщает действию его этическую силу. В этом относительная правота этической теории истории. Далекая, однако, рт того, чтобы как знание зависеть от этики, история только в своем практическом приложении имеет этическое значение.
4
Мы, однако, не поймем окончательно своеобразия исторической науки, если не выясним, в чем состоит формальная основа исторического знания, или его формальный стержень, который сообщает ему- его точность — наподобие математики, придающей точность естественно-научному знанию. Натуралистический монизм думал, что история станет точной тогда, когда она перестанет быть сама собой и превратится в социологию. Между тем, несмотря на то, что социологии до сих пор не удалось установить пи одного точного закона, история, как точная наука, несомненно сделала именно в XIX веке решительные успехи.<…> Математика исторической науки, сообщающая точность ее выводам, есть пе что иное, как ф и л о л о г и я в широком смысле этого слова. Это видел уже Шлейермахер, усматривавший в «герменевтике», как он называл совокупность филологических наук в их приложении к историческим вопросам, формальное существо исторического метода. И именно своей «филологией» точный Фукидид отличается от легковерного Геродота. В самом деле то индивидуальное, которое составляет предмет исторического изучения, не дано историку непосредственно: философская система, художественный образ, право, государственный институт, религиозное убеждение, форма производства — все эти факты прошлого, культурное содержание которых историк должен восстановить и построить в их взаимной между собою связи, не могут быть предметом его непосредственного наблюдения. В его распоряжении находятся только «памятники», т. е. вещественные знаки — книги, официальные бумаги, надписи, монеты, произведения искусства, предметы домашнего обихода, орудия техники, язык и обычаи живого населения, географические данные, которые надлежит истолковать, из которых ему надо извлечь их культурное содержание, смысл тех культурных достижений, вещественными остатками и свидетельствами которых они являются. Филология и есть наука о толковании смысла вещественных памятников (что и хотел сказать Шлейермахер, называя ее «герменевтикой»). Она есть «познание совпадения между содержанием и формой», в частности, тех тонких взаимоотношений, которые существуют между материей языка и его внешней оболочкой11. Постольку грамматика есть одна из основных дисциплин филологии. Задача филолога состоит в том, чтобы «извлечь из мертвого вещества сокрытый в нем смысл», взяв из памятника все то, что он говорит и не вкладывая в него ничего лишнего. Конечно, в этом толковании филологу помогает его интуиция, так же как интуиция, догадка психологически предшествует постановке естествоиспытателем его эксперимента. Но подобно тому, как в естествознании за интуицией следует строго построямое в понятиях доказательство, точно так же и филологию характеризует строго абстрактное доказательство. Филолог должен не просто перевоплотиться в чужую эпоху и ее «пережить», но логическими приемами мысли конструировать очевидное и для всех обязательное содержание истолковываемого им вещественного памятника. Этим филология отличается от искусства, и это есть в сущности та филологией давно разрешаемая задача, которую и Д и л ь т е й ставит своей «описательной» психологии12.
Замечательно, что по точности своих результатов и по своему конструктивному характеру филология во много напоминает математику. Вспомним хотя бы замечательное по точности и конструктивности расшифрование Шампольоном в начале XIX века на основании сравнительного анализа найденных около Розетты трех надписей тождественного содержания (иероглифической, демотической и греческой) иероглифического письма, открывшее для исторической науки целый новый мир древней культуры и сделавшее впервые возможным точное построение египетской истории13. Совершенно как в естествознании открытие Кеплером его законов зависело от необъясненной «ничтожной разницы в числах», точно так же и в исторической науке мельчайшее несовпадение в результатах филологического «вычисления» чревато проблемами и открытиями. И здесь также на основании двух-трех данных воссоздается в знании недоступная уже наблюдению индивидуальная действительность, подобно тому как и математика на основании нескольких известных величин изучаемого естествоиспытателем процесса помогает ему воссоздать все остальные стороны последнего. Недаром филолог так же, как и математик, говорит об «интерполяции»14. Именно потому, что в начале XIX века филология впервые систематически была применена к построению исторической действительности, историческая наука пережила в это время столь разительный перелом. Глубоко прав потому У з е н е р, говоря, что «из всех исторических методов только филологический отличается в себе самой покоящейся достоверностью. До математической очевидности возвышается истолкование сохраненных преданием письмен, которые дают филологи в своей критике». Сказанное в равной мере относится ко всем историческим дисциплинам: экономическая история, построяющая формы хозяйства и производства также с помощью истолкования и критики вещественных памятников (и тоже преимущественно памятников письменности), не в меньшей степени, чем история литературы или политическая история, должна пользоваться филологией, раз она хочет придти к точным, обоснованным результатам. «Все исторические дисциплины нуждаются в филологически заложенном фундаменте и во введении филологического метода»15. Но филологический метод распространяется далеко за пределы одного только исторического знания. В своих более элементарных основаниях он является формальным орудием юриспруденции и политики, подобно тому как математика есть необходимое формальное орудие естественнонаучной техники. Ибо уменье точно выражать в словесной формуле правовую мысль, истолковывать смысл закона, договора и других правовых актов, извлечь из них ни больше ни меньше того, что они говорят, — это уменье, необходимое для политика, законодателя, судьи, адвоката, есть все то же филологическое искусство извлечения из вещественных знаков сокрытого в них культурного содержания, «познание совпадения между содержанием и формой»16.
5
Провозглашая господство естественнонаучного метода, натуралистический монизм не ограничивался игнорированием исторического и филологического методов исследования. Как мы уже указали, он также отрицал и самостоятельность философского знания. Еще в эпоху софистов и даже Платона термин «философия» обнимал собою всю науку, которая первоначально не знала разделения на отдельные дисциплины, но представляла собою единое нерасчлененное целое. Развитие пауки и заключалось в последовательном выделении из единого лона философии отдельных частных дисциплин, которые, становясь самостоятельными усваивали методы точного знания. Тем самым наука продолжала в своем внутреннем развитии тот импульс дифференциации, который вызвал к жизни и ее самое. Ибо прежде чем обрести в Греции свою самостоятельность, она сама составляла нераздельную часть мифа, представлявшего собою нерасчлененное единство науки, искусства, религии, морали и права. Первой из философии выделилась математика, затем физика, еще позднее химия и биология и, наконец, трудами Конта — социология. Так выделившиеся из философии отдельные частные дисциплины поделили между собою весь мир эмпирической действительности, в результате чего у самой философии не осталось, по-видимому, своего собственного предмета исследования. И действительно, если считать, как это и делает натуралистический монизм, что наблюдаемая в опыте природа есть единственный предмет знания, то роль философии сводится по необходимости к роли опекуна, пестующего эмпирические науки на той стадии их развития, когда они, освободившись уже от мифологических представлений, не достигли еще той самостоятельности, которая дается применением точных методов естественнонаучного знания. Для Конта философия и есть не что иное, как метафизическая стадия, проходимая каждой наукой на пути развития ее от теологической стадии к позитивной. Задачи ее в настоящее время сполна разрешаются отдельными частными науками, в особенности социологией, частью которой или практическими приложениями которой являются логика, этика, политика и другие философские дисциплины. «Курс позитивной философии» Конта и представляет собою не что иное, как энциклопедическое изложение наиболее общих положений «абстрактных» наук в порядке их известной нам иерархии. Лишенная своего особого предмета исследования, философия для натуралистического монизма, каковым является позитивизм Конта, по необходимости сводится к научной энциклопедии. Она обращается в такую же прислужницу естествознания, как в средние века она была прислужницей богословия.
Нам нечего останавливаться подробно на опровержении этого взгляда. Как мы видели, уже ближайший преемник Конта, Спенсер, вынужден был отвести философии, хотя в лице пока одной только логики, самостоятельное место в классификации наук. Все последующие классификации единодушны в понимании философии как самостоятельной науки (вернее группы наук), имеющей свой особый предмет исследования и свой особый метод. Да и все предыдущее наше исследование педагогических вопросов имело своим фундаментом философию как самостоятельную науку о смысле, составе и значении культурных ценностей, приобщение к которым составляет задачу образования. Что вопрос о смысле, достоверности и составе знания не совпадает с вопросом о его происхождении и его психологически-биологической и общественной функции в жизни человечества, — это было показано нами выше. Наше исследование смысла и значения свободы личности, как предмета долженствования, на деле должно было также показать отличие этики от психологии, изучающей темперамент человека, и социологии, изучающей племенные свойства народного бытия. Точно так же дальнейшие части нашего исследования должны будут показать, что вопросы о смысле, значении и составе искусства, хозяйства и религии не совпадают ни с вопросом о тех психических процессах, которые фактически происходят в человеческой душе во время переживания человеком художественных, хозяйственных и религиозных ценностей, ни с вопросом о той роли, которую хозяйство, искусство и религия играют для сохранения и развития человеческих обществ, и что поэтому философия искусства (эстетика), философия хозяйства и религии имеют свой самостоятельный предмет и метод исследования наряду с психологией и социологией. Этот предмет философии мы в самом широком смысле слова может определить как изучение смысла, значения и состава тех ценностных заданий, которые в своей совокупности составляют культуру человечества. Этим именно философия отличается от истории, которая изучает не самые задания в их смысле и значении, а реализацию их в жизни человечества, т е. его культурное предание. Работая над разрешением заданий культуры, как человечество в целом, так и отдельный человек усваивают эти задания, делают их содержанием своего творчества. Так, познавая действительность, человек овладевает методом науки. Становясь личностью, он осуществляет в себе свободу и индивидуальный закон своего долга, воспринимая и творя художественное произведение, он усваивает разлитую в мире красоту. Это усвоение человеком в процессе его творчества культурных ценностей может протекать бессознательно. Так художник, чув твуя красоту и реализуя ее в веществе, знает ее только интуитивно, подобно тому как больной лучше всякого врача «интуитивно» знает переживаемую им болезнь И подобно тому, как больной, не будучи врачом, бессилен объяснить в понятиях свойства, причины и следствия своей болезни, точно так же даже великий художник, не будучи эстетиком, часто бессилен высказать в понятиях, что есть красота, ему интуитивно так хорошо известная. Даже ученый, владея методом науки и расширяя своими открытиями область познанного, может ошибаться в определении существа науки, некритически повторяя ходячие по этому поводу философские предрассудки. Философия и есть научное осознание того, что интуитивно, бессознательно так хорошо известно каждому человеку, участвующему в процессе культурного творчества. Так как только этот процесс возвышает жизнь человека над простым существованием, придает ей смысл и достоинство, то можно сказать, что философия есть самопознание человека, есть познание в человеке его человечности, понимая под последней не биологически-психологическое существование, но совокупность воздвигаемых человеком в его душе творческих заданий. В этом смысле философия остается верной тому девизу, который предуказан ей еще Сократом, — девизу дельфийского бога: познай самого себя. «Я», которое она познает есть однако не субъективное психическое существо, затерянное в мировых пространствах и в бездонности времен, но целостность тех объективных заданий культуры, к которым тянется в порыве творчества душа человека и которые, будучи сами сверхличными началами, создают личность человека, его самоопределяющееся Я.
Для того, чтобы познать смысл этих сущностей культуры, их конечно надо пережить, «увидеть». В этом правота философского интуитивизма. Но, будучи знанием, философия не может ограничиться их простым созерцанием, она должна понять их в их взаимной между собою связи. В этом состоит правота еще Плато ном завещанного философии диалектического метода, с таким искусством примененного им хотя бы в известном уже нам его учении о добродетелях. Свою задачу как философа Платон правильно видел не в простом описании целомудрия, мужества и мудрости, но в доказательстве их внутренней зависимости и связи, в обосновании того «пути вверх», который целомудрие укореняет в мужестве, а мужество в мудрости, и в обнаружении того «пути вниз», который оторвавшееся от мудрости мужество заставляет вырождаться в храбрость, а оторвавшееся от мужества целомудрие — в аскетизм17. И в философии есть общие и частные понятия, хотя «общее» философии не есть ни закон естествознания ни индивидуальное целое истории, но скорее «полнота», в которую как бы вливается подчиненное ей частное, — вливается так, как игра вливается в урок, а урок в творчество, или как сила устремляется к авторитету, который в свою очередь стремится переродиться в полноту свободы, вбирающей в себя предыдущие ступени и снимающей тем самым их ограниченность18.
Последние примеры должны напомнить читателю установленный нами уже ранее факт, что философия, подобно всем другим ветвям чистого знания, имеет также свое практическое приложение, свою «технику», и что это приложение философского знания к жизни есть не что иное, как педагогика, образец которой мы и пытаемся дать в настоящем сочинении.
6
Подводя итоги сказанному выше, мы можем сказать, что линейная иерархия наук натуралистического монизма должна быть заменена более гибкой и соответствующей многообразию научных Устремлений плюралистической классификацией наук. Единое, из общего корня знания вырастающее древо научного метода разветвляется на пять основных ветвей: естественнонаучную, математическую, историческую, филологическую и философскую. Ветви эти растут в трех основных направлениях: математического познания экземплярной действительности, филологического познания индивидуальной действительности и диалектического познания смысла значимых ценностей. Если не настаивать на точности выражения, то можно принять удачную образную формулировку М ю н с т е р б е р г о м различия указанных трех направлений: научное знание распадается на знание окружающего Я внешнего мира (Welt), на знание того человеческого мира, в культурном творчестве которого Я соучаствует (Mitwelt), и наконец — на знание самого Я (Ich). Мы должны только помнить, что все эти миры представляют собою не произвольные порождения человеческого субъекта, не простое его «представление», но объективные реальности, наличествующие в своем различии независимо от того, познаются ли они фактически людьми или нет. По существу различающиеся между собой, как экземплярная действительность, действительность индивидуальная и смысл культурной ценности, они для субъекта приобретают характер внешнего мира, человеческою «сомира» и собственного Я. В следующей схеме можно наглядно изобразить полученные нами результаты:

|
Тройственности различных направлений соответствуют три основных типа научных понятий: 1) понятие-закон, устанавливающие подчиненные ему экземпляры (в пределе — единичную действительность) в численно определенный ряд; 2) индивидуальное понятие, представляющее собою целое, обнимающее подчиненные ему индивидуальные же части, и 3) понятие-идея, вбирающее в свою полноту подчиненные ему ограниченные идеи. Родовое понятие, которое традиционная формальная логика единственно только и знала, которое было для нее не одним из возможных понятий, а понятием вообще, не имеет места в этой схеме потому, что все пауки в равной мере пользуются услугами родового понятия. Оно не только представляет собою необходимые леса, которыми естествознание пользуется при построении им здания понятий-законов, но есть необходимое орудие предварительного упорядочивания материала (дальше которого, однако, многие отрасли знания до сих пор, быть может, и не пошли) и в историческом знании индивидуального и в философском знании смысла. Определение и классификация согласно правилам традиционной логики имеют свое законное и неотменимое место во всех пяти ветвях научного метода. Аристотель принял в своей логике это общее и безразличное орудие знания, т. е. окружающие строение науки леса за самое здание, что оправдывается вполне тем обстоятельством, что наука древних не знала еще понятия-закона и оперировала исключительно родовым понятием. Потому Аристотелева логика и была чисто «формальной».<…> Из нашей схемы видно, что каждому направлению научного метода соответствует своя область практического приложения: если прикладное естествознание есть техника, а прикладная философия — педагогика, то политика является областью практического приложения истории19.
Нам могут возразить, что в нашу классификацию наук не укладывается довольно обширная группа гуманитарного знания, а именно политическая экономия, правоведение и богословие. Метод этих наук не есть ни философский, ни исторический, ни естественнонаучный, а между тем это самостоятельные области знания, находящие даже свое воплощение в особых факультетах университета. Что касается политической экономии, то нам все же думается, что она не имеет своего особого метода, но колеблется между тремя различенными нами направлениями научного метода: так, если классическая и математическая школы стремятся построить систему политической экономии по естественнонаучному образцу, а историческая школа видит задачу экономического исследования в построении индивидуальных понятий, то социалистическая школа, напротив, в значительной мере проникнута тенденциями философского метода. Наконец, значительная часть политической экономии представляет собою не что иное, как упорядоченный в схемах родового понятия материал, в котором преобладают простые определения и классификации и который в равной мере стремятся использовать для своих построений как естественнонаучное так и историческое направления20. Иначе обстоит дело с правоведением, значительная часть которого действительно не укладывается в различенные нами три направления метода. В исследовании права принимают участие все три известные нам метода: наряду с философией (I) и историей права (II) вполне возможны также его психология и социология (III), изучающие право в совокупности психической и общественной жизни человека и пользующиеся при этом естетвеннонаучным методом. Все эти ветви чистой науки права имеют свое практическое приложение в теории правового образования (I), политике права (II) и правовой технике (III). Однако наука права не исчерпывается перечисленными отделами. Вне их стоит обширная область так называемой догматической юриспруденции, изучающей право как законченную систему подлежащих исполнению норм поведения. От обычных норм техники эти нормы отличаются тем, что они представляют собою не объективные веления природы, которым должен следовать тот, кто хочет овладеть природой, но провозглашенные человеческим авторитетом правила, выражающие в логической форме понятий определенное долженствование. Постольку нормы права не являются чистым знанием. Они не являются также просто прикладным знанием, являющимся исключительно приложением к жизни знания чистого. Их подлинным источником является нравственное долженствование, которое (и этим право отличается от нравственности) в праве мыслится однако так, как будто бы оно было законом природы, почему оно и выражается в общих понятиях, утрачивая тем самым присущий нравственному долженствованию индивидуальный характер. Если чистое долженствование есть только предмет действия, а чистое знание только предмет знания, то право есть одновременно и предмет действия и предмет знания. В этом, правда, оно сходно и с нормами техники, педагогики и политики, но, в отличие от них, оно имеет своим источником не только познание реальности (экземплярной, индивидуальной и ценностной), но и определенное конкретное нравственное долженствование. Постольку оно представляет собою как бы смешение науки и нравственности, завися одновременно и от логики и от этики. Поскольку право есть знание, постольку оно пользуется методом истолкования в широком смысле этого слова, являющимся своеобразным видоизменением филологического метода. На нашей схеме оно поэтому изображено в секторе прикладных наук, но не в плоскости знания, а в особой плоскости, пересекающей первую как бы под некоторым своим, определяемым нравственным долженствованием, углом. — Так же обстоит дело и с богословием. Если из богословских наук вычесть философию религии, историю религии, психологию и социологию религий, то останется догматическое богословие, которое тоже есть не просто знание, но выраженная в логической форме знания религиозная вера.<…>
7
Теперь нам нетрудно уже будет сделать из полученных результатов нашего логического исследования педагогические выводы. Прежде всего из установленной нами классификации наук следует, что в системе общего научного образования должны быть представлены все пять основных ветвей научного метода. Научно развитой человек — это тот, кто приобщившись ко всем основным направлениям знания, впитал в себя тем самым терпимость и способность понимать научную работу человечества во всем многообразии ее проявлений. Только такое всестороннее научное образование поможет также учащимся сознательнее сделать выбор своей научной специализации. Отсутствие какой-нибудь из основных ветвей научного метода в учебных планах общеобразовательной школы не только не даст для отдельного учащегося полной культуры ума и, ввиду громадного практического значения, которое каждое из основных направлений знания имеет для жизни, ограничит его возможности как практического деятеля, но и для всей страны в целом будет чревато опасностью истощения в стране соответствующего научного интереса, что неминуемо приведет и к недостатку надлежащим образом подготовленных практических деятелей22.
<…>
Однако установленного нами правила недостаточно еще для определения состава общего образования. Ведь каждая ветвь научного метода объемлет целое многообразие отдельных наук. Какие из них следует избрать в качестве учебных предметов школьного преподавания? Второе чисто логическое правило дидактики гласит: внутри каждой ветви научного знания следует выбирать такие науки, которые полнее и ярче всего выражают существо соответствующего разветвления научного метода. Если в пределах генерализирующих наук о природе мы сравним различные науки, то увидим, что такие, например, науки, как физика или химия, гораздо ярче и полнее выражают существо естественнонаучного метода, чем психология или социология. Последние науки как бы не нашли еще самих себя, в них наблюдается большое число взаимно борющихся школ, в них еще нет прочно установившейся научной традиции. Поэтому изучение этих наук не может дать материала для усвоения метода генерализирующего естествознания в той мере, в какой этот метод может быть усвоен при изучении материала «точных наук», которым и надлежит отдать предпочтение в системе общего образования. Точно так же из области исторических наук следует по тем же основаниям предпочесть государственно-политическую и экономическую истории, как дошедшие до большей степени точности, истории литературы или искусства, до сих пор не нашедших еще своего метода. Из области филологических наук латинский язык имеет потому такое большое значение, что (при надлежащем конечно преподавании) изучение его более, чем изучение другого материала, способно воспитать в ученике тот «грамматический такт», в котором Узенер справедливо видит существенную черту филологического метода. Наконец, из области философских наук естественнее всего избрать логику не только потому, что она все-таки самая «точная» из философских дисциплин, но также и потому, что, будучи наукой о науке, она помогает ученику дать себе отчет в той работе по усвоению им метода научного мышления, которая составляла средоточие его школьной работы, почему изучение ее как бы увенчивает собою даваемое ему школой научное образование.
Но и этот логический критерий выбора отдельных наук в состав общего образования оказывается недостаточным. Если взять какую-нибудь отдельную науку (математику, естествознание, историю, логику), то необходимо возникает дальнейший вопрос: какие отделы соответствующей науки избрать для преподавания? Углубление в существо научного метода даст нам ответ и на этот вопрос. Научный метод не есть мертвый скелет науки, но живое и постольку разветвляющееся древо, как бы система кровеносных сосудов науки. Отдельные ветви научного метода в свою очередь разветвляются дальше.<…> Но все эти вопросы в их деталях выходят уже за пределы общей дидактики и относятся к методикам отдельных учебных предметов, которые должны так же основываться на методологии соответствующих наук, как общая дидактика основывается на общей теории знания. Общая дидактика может преподать только отдельным методикам следующее (третье) правило, которому они должны следовать: при выборе материала преподавания, в пределах той или иной ветви научного метода надо стремиться к тому, чтобы учащийся мог ознакомиться со всеми ее основными разветвлениями.
Но и этого критерия, конечно, еще недостаточно для окончательного определения состава общего научного образования. Даже в пределах установленных нами логических критериев остается все же значительный простор для выбора различных отделов наук или даже целых наук. Здесь мы уже покидаем чисто логическую точку зрения и предоставляем решение психологическим и утилитарным критериям. Эти последние не отрицаются нами, мы отрицаем только их верховенство. Подчиненные логическим критериям, они могут сослужить свою службу при определении материала преподавания. При равных условиях с точки зрения указанных логических критериев иные науки и отделы наук понятнее, живее, интереснее, ближе ученику, чем другие науки, с логической точки зрения им равноценные. Точно так же из двух логически равноценных областей знания одна может быть полезнее другой (в смысле возможности воспользоваться получаемыми при изучении их сведениями в жизни или для изучения других наук). Так например, зоологию с этих точек зрения, быть может, предпочтительнее изучать, чем палеонтологию или геологию, аналитическую геометрию, чем геометрию проективную, историю России чем историю Испании, немецкий язык, чем греческий язык. История литературы по-видимому полезнее, понятнее, интереснее, чем история живописи, а внутри самой истории литературы — история новой литературы, чем история литературы древней. Методики отдельных учебных предметов должны, сохраняя за логическими критериями общее руководство, привлекать и все эти многообразные психологические и утилитарные критерии.
Этим еще лишний раз подтверждается, какая тесная зависимость существует между логикой и педагогикой научного образования. Мы имеем здесь полную аналогию к тому, что наблюдали уже в части, посвященной нравственному образованию: там этика обосновывала педагогическую теорию, здесь ее обосновывает логика. Для того, чтобы правильно поставить научное образование, надо уяснить его цель, его состав, — все это вопросы, на которые дать ответ может только логика. Даже те педагогические учения, которые мнили игнорировать логику, в скрытом виде пользовались ею. Именно эта загнанная в подполье логика и прививала им тот дух узкой нетерпимости, который составляет основной порок всякого подполья вообще.
Литература вопроса. 1. Н а т у р а л и с т и ч е с к и й м о н и з м: Классификация наук изложена О.К о н т о м в первых двух лекциях его «Курса позитивной философии» (есть рус. пер.). Г. С п е н с е р. Происхождение науки. О н ж е. Классификация наук.
2. С о в р е м е н н ы е п л ю р а л и с т и ч е с к и е к л а с с и ф и к а ц и и н а у к: В у н д т. Введение в философию. О н ж е. Логика. Т. II <…> Р и к к е р т. Границы естественнонаучного образования понятий. Пер. Водена. Спб. 1905. Философия истории. 1910. Науки о природе и науки о культуре. Спб. 1912.
3. Е с т е с т в е н н о н а у ч н о е и м а т е м а т и ч е с к о е п о н я т и е. К а с с и р е р. Познание и действительность. Спб., 1911.
4. И с т о р и ч е с к о е п о н я т и е: указанные книги Риккерта
5. Ф и л о л о г и я к а к н а у к а: Ф. Ф. З е л и н с к и й. Статья «Филология» в 70 т. 1-го изд. Энц. Слов. Брокгауза-Ефрона.<…>
6. Ф и л о с о ф и я к а к н а у к а: В и н д е л ь б а н д. Что такое философия? (Прелюдии). Статьи Р и к к е р т а и В и н д е л ь б а н д а, Г у с с е р л я, Н а т о р п а, Г а р т м а н а и др. в журнале «Логос», 1910-1914.<…>
7. У ч е н и е о с о с т а в е о б р а з о в а н и я (д и д а к т и ч е с к и е в ы в о д ы): М ю н с т е р б е р г. Психология и учитель. Гл. XXVIII.
Примечания
ГЛАВА IX
- Срв. System de politique positive, Т. I (1851), стр. 175 сл. Научное образование распределяется здесь Контом на 7 лет: два первые года — изучение математ.-астроном. наук, след. два года — физика и химия, затем (по одному году) — биология и социология. Последний год посвящается изучению морали, основанной на социологии. Срв. 3 часть Discours preliminaire.
- Монистической также является и иерархия наук Платона, развитая им в «Государстве» в связи с вопросом о ходе преподавания (VII, 518 — 535). Платон также делит все науки по степени простоты и сложности (но не отвлеченной общности), причем этому логическому порядку должен соответствовать и порядок их изучения. Сначала идет арифметика, которая определяется как наука о чистых числах в отличие от чувственных вещей. Затем идет геометрия, изучающая истинно сущие отношения, хотя и пользующаяся при этом чувственным построением. Более сложные отношения изучает «стереометрия», которая, по-видимому, по содержанию своему приближалась к современной механике. Далее следуют астрономия, как учение об истинных (а не видимых) движениях тел, и акустика, т. е. учение о гармонических движениях. Но всех их превосходит в своем достоинстве диалектика, предметом которой служит идея Блага, являющаяся вместе с тем и верховной гипотезой (т. е. обосновывающим началом) для всех тех аксиом, которые лежат в основании всех предыдущих наук. Будучи логически первой наукой, она педагогически — последняя, завершающая собою все научное образование, ибо, прежде чем непосредственно созерцать идею Блага, надо приучить свой взор к созерцанию ее в ее отражениях. — Срв. N а t о r р, Platos Ideenlehre, 2 изд. 1921, стр. 201 сл.
- Это прекрасно показано Риккертом в его «Границах естественно-научного образования понятий» (СПб., 1904), гл. 2 и 3.
- Глава 2, §§ 3 и 4.
- Срв. введение, § 2.
- Если, таким образом, простого понятия единичного как
неповторимого (точка зрения Виндсльбанда, Чупрова, Зиммеля в его
«Проблемах философии истории») недостаточно для обоснования самостоятельности
исторического метода, то понятие истории как оценивающей науки, как теории
прогресса (точка зрения Когена и Наторпа, отчасти Мюнстсрберга) заключает
в себе слишком много предпосылок, почему тоже неспособно обосновать
историю как объективную науку. Против первой точки зрения срв. Кассирер,
гл. 4, § 9, Риль «Логика и теория знания» в сб. «Систематическая
философия». Против второй точки зрения — Риккерт, Границы, гл. 3 и 4.
В понимании истории как индивидуализирующей науки о культуре мы согласны с Риккертом, который, на наш взгляд, глубже других понял существо историч. метода. От Риккерта наша классификация наук отличается, однако, тем, что понятие индивидуального для нас неразрывно связано с понятием культурных ценностей, почему мы и не признаем как «индивидуализирующих наук о природе», так и (если отвлечься от философского познания культуры) «генерализирующих наук о культуре». В этом заключается для нас правота классификации наук Мюнстерберга (особенно как она изложена им в его «Philosophic der Werte»), от которой наша отличается однако тем, что: 1) история для нас столь же объективная наука, как естествознание, почему мы И считаем наименование ее «субъективирующей» наукой неудачным и 2) история оперирует также с понятиями причинности и необходимости, а не ставит своей целью только изложить содержание человеческого в°ления, как это полагает Мюнстерберг. Наконец, от точки зрения «марбургской школы» (Коген, Натори, Штаммлер) наша точка зрения отличается тем, что история не есть для нас учение о прогрессе и долженствовании и не зависит от этики. Срв. упомянутую нами статью нашу о Риккерте (примеч. 6) и нашу книгу Individuelle Kausalilat, Ergh, zu «Kantstudien», 1910, где нами дана уже и теория «исторического объяснения», развиваемая ниже в тексте. - В этом кроется также основание того, почему историк никогда не согласится с понятием докультурного существования человечества, которым и мы пользовались в «Введении» для более точного отграничения понятия культуры. Понятие «первобытного человека», преследующего исключительно цель самосохранения, т.е., живущего чисто биологически, будет всегда представляться ему «фикцией», а не действительностью потому, что, как бы ни была примитивна жизнь «первобытного человека», историк самым своим методом принужден отыскивать в ней зачатки культуры. В противном случае пришлось бы допустить начало истории, не имеющее уже своей и с т о р и ч е с к о й причины, т.е. выйти за пределы истории, чего историк, конечно, не может сделать как историк.
- Срв. выше гл. 4 § 6.
- Хитрость «мирового разума» есть основное понятие «Философии истории» Гегеля.
- «История народа, научно воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого… У каждого поколения могут быть свои идеалы…, и жалко то поколение, у которого нет никаких… Наши идеалы не принадлежат исключительно нам и не для нас одних предназначались: они перешли к нам по наследству от наших отцов и Дедов или достались нам по культурному преемству от других обществ— и при создании их имелись в виду не наши, а совсем другие силы, средства и положения. Поэтому они пригодны не для всех, не всегда и не везде. Чтобы знать, какие из них могут быть осуществлены в известном обществе и в известное время, надобно хорошо изучить наличный запас сил и средств, какой накопило себе это общество; а для этого нужно взвесить И оценить исторические опыты и впечатления, им пережитые, нравы и привычки, в нем воспитанные». Курс рус. ист. Ч. I, лекц. 2, стр. 39, 40 — 41 (4-ое изд.).
- Срв. U s е п е г, стр. 20. Термин «филология» мы употребляем здесь в том широком смысле слова, какой ему придан, между прочим, Ф. Ф. Зелинским. Несмотря на то, что Зелинский в общей логической концепции примыкает к Вундту, он очень правильно выясняет взаимоотношение между историей и филологией и дает удачную классификацию филологических наук. В зависимости от характера вещественных знаков, реставрацию, критику и истолкование смысля которых филология преследует, филология, согласно Зелинскому, делится на: 1) географию (природа как памятник культуры), 2) этнологию (живой народ как памятник культуры), 3) археологию (наука о вещественных неписьменных памятниках) и 4) библиологию (письменные памятники).
- Срв. определение Дильтеем «понимания» (Verstehen), являющегося основным методом его описательной психологии. «Пониманием мы называем процесс, посредством которого мы из данных нам внешне, чувственным образом знаков познаем внутреннее».<…>
- Срв. хотя бы увлекательно написанное изложение этого открытия у М а с п е р о. Древняя история народов Востока. Глава об алфавите.
- До какой степени точности доходит филология в восстановлении текста памятников, было воочию обнаружено открытием папирусов в конце XIX века. Правильность большинства исправлений, сделанных филологами в тексте древних авторов, дошедших до нас в средневековых рукописях, была подтверждена более древними списками найденных папирусов.
- U s e n e r, стр. 31 — 32.
- На этом именно основывалось исключительное педагогическое значение римского права как вводного в изучение юриспруденции предмета. Если даже и согласиться с тем, что после того, как новое право порвало с духом римского права, последнее стало уже «ненужным» современному юристу материально, оно все же сохраняло громадное значение постольку, постольку изучение его давало будущему юристу необходимую для всякого юриста филологическую школу. Поэтому изъятие римского права из обязательной программы юридич. факультета должно было бы быть компенсировано изучением аналогичного юридико-филологического предмета.
- О «пути вверх» см. хотя бы в Resp. 517 А. О «вырождении в свою противоположность» в случае отрыва от высшего начала — 547 С, 564 А.
- Аналогично схемам родового понятия, естественнонаучного закона и индивидуального понятия, данным нами в тексте, философское понятие (идея) могло бы быть изображено в следующей схеме:
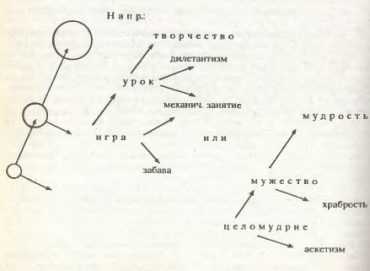
|
Более общее понятие здесь есть более «полное» понятие, включающее в себя частное понятие как отмененный, но и сохраненный в нем момент (в чем и состоит смысл Гегелева «Aufheben»). — Т. к. философия есть наука о формальной структуре культурных ценностей (метод науки, формы нравственности, формы искусства и т. п.), то в ней форма и материя совпадают. Поэтому философское направление метода не знает того деления на науку и формальный стержень ее, как это мы имеем в естественно-математическом и историко-филологическом направлениях. Называя метод философии диалектическим, мы отнюдь не становимся тем самым на сторону того или иного исторического понимания диалектики, в частности хотя бы гегелевского. В нашем общем смысле слова диалектическим является уже и тот минимум диалектики, который развивает в своих последних трудах, например, Риккерт и который, в отличие от гегелевской диалектики, он называет гетерологическим методом. Поскольку существо философского метода для Риккерта заключается в утверждаемом во всяком философском понятии единстве «одного и другого», причем, в отличие от традиционно понимаемой гегелевой диалектики, это «другое» не может быть получено из «одного» путем его простого отрицания в мышлении, но должно быть в нем найдено путем своего рода интуиции, — мы вполне готовы согласиться с Риккертом. Если существо «гетерологии» в отличие от «диалектики» заключается в признании того, что отрицание, чтобы быть творческим, должно крыть в себе положительный момент интуиции, и что в философии «одно» не может быть даже помыслено как одно, без того, чтобы т е м с а м ы м в нем не мыслилось «другого», то мы можем тогда назвать наше исследование приложением к педагогике «гетерологического» метода. Срв. прим. 7 к гл. 7.
- Было бы, однако, неправильно истолковывать наш взгляд в том смысле, что политика имеет в истории свое единственное теоретическое обоснование. Подобно тому, как для техники естествознание дает лишь знание материала, к которому присоединяется знание целей, даваемое жизнью (срв. введение § 1), точно так же для политики история дает знание той индивидуальной обстановки, к которой политическое действие имеет быть приложенным. Знание целей действия политик получает из жизни, критическая их проверка дается философией (в особенности философией права. Педагогика в большей степени, чем техника и политика, зависит от знания целей, и потому она есть непосредственное приложение философии. Но в разных своих отделах она склоняется более то к технике (экспериментальная педагогика), то к политике. Разрешение имеющейся здесь еще неясности будет дано ниже в гл. 14, § 4.
- Этот упорядоченный в схемах родового понятия материал хозяйственной жизни, состоящий в большом числе и из образованных путем «отнесения к культурным ценностям» хозяйства и права индивидуальных понятий, дал Р и к к е р т у повод выделить особую группу «генерализирующих наук о культуре» (куда он и относит системат. полит, экономию). В противоположность этому мы должны еще лишний раз подчеркнуть, что генерализирующие науки определяются своей тенденцией к понятию-закону. Родовое же понятие не может быть источником особого метода, т. к. оно есть безразличное орудие, в равной мере употребляемое всеми методами, в том числе и историей и философией, а не одним только естествознанием. Поэтому оно относится к сфере «рефлективных», а не «конститутивных» категорий (в развиваемом Ласком в его Logik der Philos. смысле).
- Таким образом, следует различать между тремя группами наук: науками отвлеченными (естествознание, математика, философия, история, филология), науками прикладными (техника, педагогика, политика) и науками гетерономными (право, богословие). Последние в своей достоверности и значимости зависят также от нелогических моментов (нравств. долженствования, религиозной веры), тогда как вторые, в своей достоверности и значимости завися исключительно от логики, определяются нелогическими моментами только в своем содержании (техника — хозяйством, педагогика — образованием и т. д.). Постольку обе первые группы наук можно было бы назвать науками чистыми. Прикладной характер техники, педагогики и политики (как наук) не мешает им всем оставаться чистыми науками, т. е. такими, значимость положений которых определяется исключительно логическими основаниями.
- Так, например, когда учрежденная во время министерства гр. Игнатьева комиссия по реформе средней школы выработала новые учебные планы, в которых научному изучению языков не отводилось почти никакого места, профессор Л. Щ е р б а справедливо указал в своем особом мнении, что подобное «обезъязычение» школы угрожает тем, что страна лишится не только историков, но и научно подготовленных юристов, политиков, в частности, дипломатов и т. д.
Глава X. ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ: ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КУРС
1
Хотя каждый человек идет к знанию своим индивидуальным путем, все пути знания определяются одной и той же целью, в которой они встречаются как в общем им всем задании. Так один и тот же маяк определяет пути от разных мест идущих и к разным гаваням направляющихся кораблей. Логика есть учение об этом свете знания, которым руководствуются все познающие. Уметь р у к о в о д и т ь с я в своей познавательной деятельности этим тождественным и сверхиндивидуальным светом знания, определять им курс своего познавательного плавания в безбрежном океане действительности, — это и значит усвоить метод научного мышления, составляющий цель научного образования. Усвоение метода не есть простое знание того, что есть метод, но деятельное знание, т. е. знание, сопряженное с умением им владеть. Подобно тому, как приобщение к Добру, т. е. воспитание в себе внутренней свободы не совпадает с этическим знанием о том, что такое свобода (почему нравственное образование отличается от этики, которая есть только научное осознание того, что в течение нравственной жизни человек воздвигает внутри себя как цель своего нравственного существования), — точно так же и научное образование не дается логикой, которая есть только отчет о том, что человеком уже усвоено в процессе деятельного и в этом смысле, если угодно, интуитивного постижения. Изучение логики поэтому только увенчивает изучение науки, но не заменяет его и не предшествует ему. Подобно тому, как нравственное образование есть процесс, цель которого познается этикой и в котором теория нравственного образования различает несколько ступеней, точно так же и научное образование есть длительный процесс, который педагогика научного образования (дидактика) должна исследовать в его основных этапах.
Если взять методическую литературу и программы школьных предметов, по которым еще училось вступившее ныне в жизнь поколение, то никакого деления на ступени внутри школьного курса различить нельзя. Школьный курс представляется своего рода монолитным блоком, который, как целое, противопоставляется научному курсу, проходимому в университете, но внутри себя не знает никакого принципиального деления. Все предметы проходятся непрерывно одним курсом, начинающимся с младших классов и кончающимся в старших, построенным по одному плану. План этот носит определенно выраженный логический характер: преподавание начинает с простых элементов и восходит затем ко все боле сложным их сочетаниям и применениям в жизни. Так, курс геометрии начинается в четвертом классе с изучения эвклидовых аксиом и определений, за которым следуют теоремы планиметрии и стереометрии. За геометрией идет тригонометрия и иногда аналитическая геометрия. Курс алгебры тоже — один курс, распределенный на разные классы в логической последовательности материала. Изучение языка (грамматики) начинается в первом классе с фонетики, за которой следуют этимология и синтаксис. Изучение истории следовало тому же плану: оно начиналось с древней истории (в третьем классе гимназии), затем шла история средних веков и новая история, сопутствуемая русской историей. Учебники четвертого класса (древняя история) и седьмого (новая история) построены были по одному и тому же плану систематического изложения. Эта однородность курса, распределенного на разные классы согласно требованиям логической системы, знала, правда, отдельные исключения. Так русская история проходилась дважды: в самых младших и в самых старших классах. Но оба курса (младший и старший) отличались друг от друга только своим объемом. Оба они построены были по одному плану, младший курс был просто более сокращенным курсом.
Уже Л. Толстой показал всю несостоятельность такого преподавания. «Учителю, говорит он, кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка — с определений; история — с разделений на периоды, даже геометрия — с определения пространства и математической точки. Почти каждый учитель, руководясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или лавку надо стоять на высокой ступени философско-диалектического развития, и что тот же ученик, который плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувство любви или злобы, встречу Иосифа с братьями или драку с товарищем»1. Мысль, что в преподавании надо исходить не из логически простого и абстрактного, а из практически-конкретного, жизненного и постольку логически сложного, все более и более укореняется в современной методической литературе. Соприкасаясь с идеей трудовой школы, она даже все более принимает формы новой педагогической догмы2. Было бы, однако, неправильно считать, что идеи трудовой школы оказали здесь решающее влияние. Если мы возьмем современную методическую литературу, то увидим, что, напротив, соображения чисто дидактического характера приводят большею частью к требованию особого «пропедевтического» курса, долженствующего предварять систематическое изучение науки. Преподавание должно быть интересным, поэтому оно должно исходить из того, с чем ученик имеет дело в своей повседневной жизни, что он может немедленно пустить в ход в своей деятельности. Оно должно быть наглядным, побуждать ученика к самостоятельному наблюдению и рассуждению, поэтому оно должно «в первую очередь обращать внимание Ученика на близлежащее», на то, что его окружает. Так, преподавание живой природы должно начинать не с простых организмов и не с тех, которые стоят первыми в их систематической классификации, но «первое животное и первое растение, предлагаемые ученику для исследования должны быть взяты из привычного ему круга представлений, ибо преподавание должно примыкать к фактам наблюдения, ставшим ему задолго до того уже привычными»3. Преподавание геометрии должно начинать с измерения площадей и с установления горизонта и вертикали (грузило). Преподавание истории — с объяснения памятников старины. Даже преподавание мертвых языков — с их практического усвоения, так что лишь после того, как ученик научился читать, писать и понимать разговорную речь на древнем языке, может начаться грамматическое изучение языка, только сводящее в одно и освещающее уже приобретенное учеником уменье4.
Все эти соображения психологического характера и раскололи первоначально монолитный блок школьного курса на две ступени. Систематическому изучению науки должно предшествовать ознакомление с материалом, который систематический курс должен объяснять. Систематический курс должен быть предварен вводным или пропедевтическим, задача которого обратить внимание ученика на окружающие его факты действительности, в совокупности своей составляющие материал систематического курса. Этот вводный курс по разному определяется в своих задачах и даже по разному называется: то безличным именем «пропедевтического», то «эпизодическим», то «элементарным». Но он все более осознается в своей особенности и в своей необходимости. Если взять современные методики отдельных предметов, современные учебники и современные программы преподавания, отчасти уже проводимые в жизни, то мы увидим, что всюду речь идет уже о двух курсах одного и того же предмета. Считается, например, что геометрия в старших классах не просто продолжает собою программу младших классов, но проходится в них вновь особым образом. Считается, что история должна проходиться в младших классах в виде особого «элементарного» курса, а затем повторяться изучением согласно новому плану, преследующему уже новые задачи. В методической литературе каждого учебного предмета нет недостатка в попытках построения такого эпизодического курса данного предмета, как предваряющего собою его систематическое изучение. И если таких попыток особенно много в области естествознания, геометрии, географии и истории и меньше в областях арифметики, алгебры и языка, то это объясняется только большей трудностью задачи построения эпизодического курса этих более формальных наук. Так в области научного образования намечается тоже тройное деление на ступени. Эпизодический курс, систематический и научный, или университетский курс, — эти три ступени представляются естественными ступенями обучения, различающимися между собой не объемом и количеством материала, но самым способом и задачей преподавания. Естественно напрашивается аналогия с тремя ступенями нравственного образования. Не обнаруживается ли и здесь в различенной нами градации эпизода, системы, научного метода нечто аналогичное росту личности и свободы, протекающему в известных нам ступенях аномии, гетерономии и автономии? Мы увидим, что между ступенями научного и нравственного образования действительно имеется не просто внешняя аналогия, но глубокое внутреннее родство. Общая дидактика и должна точным определением особенностей каждой ступени и ее специфических задач дать отдельным методикам учебных предметов прочную педагогическую основу.
2
Термин «эпизодический» лучше всего, на наш взгляд, обозначает существо того вводного, или предварительного курса, который за последнее время отделился от поглощавшего его ранее курса систематического. В самом деле, окружающая ребенка среда, являющаяся для него отправным пунктом, с научной точки зрения эпизодична. Она представляется ребенку как совокупность себе довлеющих, между собой не связанных событий, т. е. именно как сумма эпизодов, а не как единая в частях своих система. Мышление ребенка, подобно мышлению первобытного человека, протекает в категории чудесного. Сущность же чудесного состоит в том, что оно содержит свое объяснение в себе само, а не выводит ум познающего за пределы объясняемого, — к другому. Мир представляется ребенку как агрегат изолированных событий, из которых каждое есть действие в себе, порожденное своей собственной причиной. Действие, причина которого находится в себе самом, — это значит свободное действие. И для ребенка мир есть действительно поприще свободных существ, находящихся позади поражающих его явлений и порождающих эти последние. Поэтому обычное не привлекает к себе внимание ребенка. Удивление же, вызванное необычными событиями, получает удовлетворяющее ум объяснение в той специальной, чудесной причине, которая его своим свободным действием породила. Найдя эту причину в самом явлении, ум успокаивается и перестает удивляться. Так, чудесное не столько питает, сколько успокаивает породившее его удивление. В этом именно и заключается фетишизм первобытного мышления. Правда, сказать, что фетишизм объясняет явления через сокрытые в них самих причины, что в объяснении событий он не выходит за пределы самого события, остающегося таким образом изолированным и себе довлеющим эпизодом, так же неточно, как сказать, что в игре каждый момент деятельности довлеет себе и не служит средством для другого. Но подобно тому, как наше определение игры оправдывалось постольку, поскольку цели в игре слишком близки еще отдельным ее моментам для того, чтобы устойчивым и длительным образом определять их как подчиненные им средства, точно так же фетишизм первобытного мышления, объясняя события природы свободной волей населяющих ее демонов и богов, мыслей эти порождающие их живые причины слишком близко позади объясняемых ими явлений для того, чтобы мир мог представляться ему подчиненным сколько-нибудь устойчивой и длительной закономерности.
Если, таким образом, в отношении научной системы мышление ребенка эпизодично, то это не значит, что ум его не знает никакой системы и никакого единства. Напротив, ребенок связывает явления окружающей его действительности в систему, центром которой является он сам с его нуждами и потребностями. Окружающая действительность оценивается им с точки зрения приносимой ему ею пользы или вреда, так же как и демоны и боги первобытного человека причиняют те или иные события природы умышленно, руководствуясь соображениями пользы и вреда их для человека. Прагматизм глубоко неправ как логическое учение, усматривающее существо знания в той жизненной пользе, которую оно приносит человеку, позволяя ему ориентироваться в окружающей среде. Сказать, что знание есть функция действия, и что оно определяется в своем развитии исключительно нашими практическими нуждами и потребностями, — это значит не понять логического существа знания, которое не только помогает нам удовлетворять наши непознавательные потребности, но со временем само становится одной из могущественных потребностей человека, ради удовлетворения которой человек развивает нередко очень интенсивную непознавательную деятельность (чисто биологическую, хозяйственную, художественную и др.). Но будучи неправ как логическая теория, прагматизм глубоко прав как психологическое учение, объясняющее п р о и с х о ж д е н и е у человека интереса и стремления к знанию. Поскольку достижение знания требует человеческой деятельности, деятельность эта действительно объясняется в своем происхождении жизненно-практическими потребностями человека, его стремлением действовать и своим действием ограждать себя от опасного, вредного и неприятного5. Поэтому и ребенка интересует только то, что имеет для него жизненно-практическую ценность, что может быть им непосредственно использовано в его действии. Только ради познания этого ему полезного готов он самостоятельно развивать ту деятельность, которая необходима для достижения знания. Но существо знания состоит именно в том, что оно требует активной деятельности познающего. Только тот, кто самостоятельно пришел к знанию, действительно познал, а не пассивно запомнил показанный ему другим факт. Поэтому обучение знанию и должно исходить в своей первоначальной стадии из жизненно-практического, из деятельного. Пусть с точки зрения научной системы жизненно-практическое случайно, фрагментарно, отрывочно. Эта научная эпизодичность исходного пункта знания необходима при обучении знанию, потому что только она вызывает у ребенка самостоятельную деятельность, направленную на достижение знания, без чего знание не может быть достигнуто как знание6.
Сказанное позволит нам точнее определить понятие эпизода как исходного пункта обучения. Не всякий эпизод окружающий ребенка, а только тот эпизод, который может познавательно заинтересовать его, т. е. побудить его к деятельности, направленной на достижение знания, является желательным отправным пунктом обучения. Это значит — тот эпизод, который, будучи в нашем смысле конкретным и близким ребенку, входит в жизненно-активное единство его эгоцентрического мироотношения. Но потому также эпизод есть только отправной пункт начального обучения, которое не должно на нем останавливаться. Подобно тому, как игра есть только исходный пункт образования человека как деятельного существа, и потому должна быть организована в направлении превышающей ее цели урока, точно так же и эпизод, если он хочет быть началом знания, должен быть как-то организован. Эпизод должен быть разбит как эпизод, кроющий в себе самом свое достаточное основание, он должен явиться ребенку как нечто связанное с другими явлениями мира одними и теми же законами и постольку имеющее свое объяснение в другом. Фетишизм первобытного мышления, цепями чудесного приковывающий его к разрозненным, довлеющим себя событиям, должен быть разрушен. Удивление должно не успокаиваться констатированием чудесного, но питаться стремлением объяснить поразившее ум явление из его связи с другими. Оно должно вырастать в вопрос. Эпизод как враждебное знанию чудесное, должен переродиться в эпизод как проблему, которая есть подлинное начало знания. Все своеобразие проблемы состоит именно в том, что проблема означает неудоветворенность данным, искание того другого, в котором данное может получить объяснение. Своей ненасытностью в познании этого другого, приводящей к тому, что каждое решение ставит тотчас же новый вопрос, проблема и отличается от чуда, имеющего свое объяснение в свободном действии, т. е. таком, которое не вызывает далее уже никакого вопроса. Но именно потому, что решение проблемы должно быть самостоятельным делом ученика и, значит, предполагает упорство его познавательного стремления, обучение должно исходить из того, что ему «близко» и «понятно», — понятно не в своем научном объяснении, которое еще только ищется, но в своем жизненно-активном значении, в той своей прагматической ценности, ради которой оно должно быть знанием объяснено.
Но это значит, что в эпизодическом курсе эпизод не должен оставаться чем-то себе довлеющим и последним, а должен быть пронизан превышающим его началом, именно началом научной системы. Надо исходить из эпизодов, потому что знание, не интересуя, как таковое, ребенка, предполагает вместе с тем его познавательный, вопрошающий интерес. Смысл исхождения из эпизода, однако, состоит именно в том, чтобы разложить его как эпизод, вскрыть его ведущую к знанию проблематичность. Иначе говоря, ученик должен почувствовать позади эпизода объясняющую его систему, которая должна просвечивать в нем как поставленная его познавательной деятельности проблема. Задача эпизодического курса сводится, таким образом, к тому, чтобы анализом окружающих ученика эпизодов, интересующих его как деятельное существо, довести его до сознания основных элементов, из которых слагаются все эти эпизоды, и той системы, которая их все в себе объемлет как находящие в ней свое объяснение части. Мышление ребенка тем самым будет вплотную подведено к системе, которая явится ему уже не как нечто отвлеченное и навязанное извне, но как объясняющее ему то, что ему уже известно, как сводящее воедино уже накопленный им ранее материал, позади эпизодичности которого мысль его уже предчувствовала, ожидала и искала связующее его целостное единство. Поэтому мы можем вместе с Винекеном сказать, что задача эпизодического курса «открытие ребенком наук». «Для юного ума наука должна быть удовлетворением некоторой органической потребности, предложением на его спрос, средством, в котором мышление его нуждается как раз в тот момент, когда она к нему приходит». Но поэтому также учитель не должен анархически переходить от эпизода к эпизоду, перебирая все, что окружает ребенка и может его занять. Он должен выбирать из окружающей его действительности то, что особенно пригодится потом при изучении научной системы, и в таком порядке, который особенно способен привести ребенка к сознанию тех основных и немногих элементов, из которых слагается весь этот чудесный, множественный и сложный мир окружающих его разрозненных эпизодов. Ясная учителю, эта дидактическая тенденция должна быть сокрыта от ученика. Научная система должна быть не дана ученику, но искома им позади того материала, который дается ему во всей случайности своего существования, во всей фрагментарности своего бытия и, если образует понятное ему единство, то лишь постольку, поскольку он служит удовлетворению его потребностей как деятельного существа. А это значит, что в эпизодическом курсе эпизод должен быть только пронизан научной системой, быть к ней устремлен, но не преждевременно в нее превращаться. «В каждый данный момент мышление ученика должно быть преисполнено радостным удовлетворением от того конкретного, что составляет предмет рассмотрения, — будь это образ жизни зверя или судьба героя»7. Научная система должна просвечивать в эпизоде, но вместе с тем и быть сокрыта от взора ученика. Эпизод должен быть пронизан системой, но вместе с тем оставаться эпизодом. Не значит ли это, что система должна быть только задана в эпизодах, как их высшее педагогическое оправдание? Или, пользуясь терминами Платона, знание системы должно быть основано на знании ее незнания?
В современной методической литературе нет недостатка в попытках построения эпизодического курса отдельных учебных предметов. Не входя в разбор этих попыток, мы приведем здесь только ради иллюстрации несколько характерных примеров. Так, эпизодический курс геометрии исходит из понятных ученику в их практической полезности задач на измерение площадей (например превращение вырезанного из бумаги треугольника в могущий быть измеренным прямоугольник, а затем и в квадрат). Умелая постановка урока поведет к тому, что ученики, изучая этот геометрический эпизод, вплотную подойдут к понятиям перпендикуляра, единицы меры, периметра и площади, квадратуры, суммы углов и т. д. Сопоставление этого эпизода с аналогичными ему другими укрепит у них все эти зарождающиеся понятия об основных элементах планиметрии. Не беда, что они не смогут дать точного логического определения этих элементов. Когда придет пора систематического курса геометрии, предложенное им в нем определение этих элементов, также как соответствующие теоремы, устанавливающие их взаимоотношения, будут для них не чуждым и отвлеченным материалом запоминания, но логической формулировкой уже имеющегося у них интуитивного знания предмета. Логическое понятие будет не «пустой», лишенной содержания формой, но логическим освещением уже имеющегося у них материала, ответом на созревший уже в их мышлении вопрос. Постольку и самый этот материал, осознанный как логическая проблема, не есть «слепое» наглядное представление, предмет простого умения и навыка, но есть нечто, логически уже оформленное и постольку ведущее к знанию8. Так, обучаясь эпизоду превращения треугольника в квадрат, ученики изучают большее, чем эпизод, приходят к сознанию элементов геометрической системы. — Примером географического эпизода может служить экскурсия учеников к протекающему вблизи ручью. Наблюдая его высокий и низкий берега, образуемые его течением пороги и водопад, изменение русла и т. д., ученики получат интуитивное знание о работе основных геологических факторов, которое особенно укрепится при сопоставлении результатов наблюдения над ручьем с наблюдением над рекой, прудом и т. д. Элементы геологической научной системы будут, таким образом, интуитивно усвоены ими, наблюденный материал будет логизирован возникшим вопросом об общих причинах наблюденного, так что задача систематического курса географии будет заключаться только в том, чтобы придать уже знакомому материалу печать логического освещения. — Естествознание вообще дает особенно благодарный материал для эпизодического курса. Самые обыденные явления окружающей действительности могут здесь быть превращены в поучительный эпизод. Так, например, наблюдая кошку и устанавливая, как она подстерегает добычу, как ее ловит, как убивает и съедает, чем она питается, дети легко будут подведены к понятию хищного животного и через это к основным элементам морфологии и систематики животных. Элементы эти будут интуитивно усвоены ими, и систематическому курсу останется только систематизировать уже накопленный материал наблюдения и точной формулировкой элементов и классификацией явлений ответить на имеющиеся уже у учеников вопросы. — Что и история в не меньшей мере может быть предметом эпизодического курса, показывает не только пример учебных планов по истории начальных школ Запада (в этом отношении особенно образцовое значение имеют учебные планы мюнхенских начальных школ), оправданных многолетним успешным педагогическим опытом, но и многочисленная русская методическая литература предмета. Такие книги, как «Былое вокруг нас» Жаринова и Никольского, «Русская история в пословицах и поговорках» Волжанина, «Северская земля и северяне по городищам и могилам» Самоквасова, известная «Книга по русской истории для начальных школ четырех авторов (Вейхельт, Ковалснский, Петрушевский и Уланов)» показывают, что понятие эпизода достаточно укоренилось уже в русской методике начального курса истории. И здесь задача обучения состоит не в том, чтобы заинтересовать детей занимательным рассказом, но в том, чтобы путем наблюдения окружающих их памятников старины (этнологических, археологических, произведений живописи и литературы) воспитать в них умение ставить и разрешать исторические вопросы о том, что говорит данный памятник как исторический источник, как исторический его анализ воссоздает столь чуждую нашей жизнь минувших поколений, в каком взаимоотношении находятся между собой техника и хозяйство, торговля и государственность, воинское дело и сословное расслоение общества, умственная культура и искусство. Показать, как передается культура от народа к народу, от сословия к сословию, как наслаивается культура на культуру, — это значит не только дать почувствовать ребенку необходимость исторического процесса, конкретность исторического времени, привить ему вкус к постижению индивидуального как незаменимого этапа современного существования, но и подвести его к сознанию основных элементов («факторов») культурно-исторической жизни (техники, хозяйства, государства, права, науки, религии, искусства) и воспитать в нем стремление систематически ознакомиться с культурным развитием родного и соседних народов в его непрерывной полноте, чтобы тем самым разрешить для себя вопросы, которые анализ эпизодов только ему поставил9.
3
Было бы вторжением в сферу специальных методик, если бы мы, не ограничиваясь иллюстрацией идеи эпизодического курса, попытались здесь показать, как следует его на практике строить. Наша задача состоит не в том, чтобы предписать методистам новые приемы работы, а в том, чтобы философски осознать современное движение методической мысли. Тем важнее показать, в каком направлении возможно вырождение эпизодического курса.
Сущность его, как мы сказали, в том, что эпизод, оставаясь эпизодом, понятным ученику в его конкретной близости, должен быть пронизан научной системой, просвечивающей в эпизоде как искомое в нем задание. Равновесие обоих элементов — данного эпизода и заданной системы — необходимо поэтому для правильной постановки эпизодического курса, неизбежно вырождающегося как тогда, когда эпизод отрывается от системы и становится чем-то самодовлеющим, так и тогда, когда анализ эпизода преждевременно превращается в изложение по поводу эпизода элементов научной системы. В первом случае эпизодический курс вырождается в занимательное преподавание. Элемент чудесного преобладает тогда над элементом проблемы. Ум ученика анархически переходит здесь от одного поразившего его воображение эпизода к другому, и, вместо искусства наблюдать и анализировать предмет, распознавать сокрытую в нем научную проблематику, культивируется беспорядочное любопытство, получающее свое быстрое удовлетворение в ответе учителя. Классическим примером такого занимательного преподавания, в котором эпизод оторван от научной системы, является знакомое уже нам обучение Эмиля. Эмиль не анализирует эпизодов, не наблюдает окружающей его будничной действительности, но, пораженный беспорядочно показываемыми ему чудесами, спрашивает о них Жан Жака, который удовлетворяет его любопытство изложением соответствующих элементов науки. Потому-то и «Эмиль спрашивает, а Жан Жак отвечает». Как будто спрашивание, как таковое, уже гарантирует самостоятельность мышления, а не все дело в том, как ставится вопрос, правильная постановка которого сплошь и рядом предполагает спрашивание учителем ученика! Не обратная «катехизическая метода», с переменой ролей учителя и ученика, а живой диалог, в котором ученик иногда подробно обосновывает свой внутренний вопрос, не непременно выражающийся во внешнем спрашивании, и в котором он умеет защищать свое понимание предмета от часто в форме вопросов предъявляемых ему возражений учителя, есть естественная форма обучения. К тому же эпизод должен освобождаться в эпизодическом курсе от присущего ему характера чудесного, и потому эпизодический курс заключается не в нагромождении поражающих воображение ученика случаев, но в методическом обнаружении чудесного — вернее проблематического — в самых обыденных явлениях окружающей действительности. Только таким образом может поддерживаться и подлинный глубокий интерес к учению. «Дети инстинктивно чувствуют, что анархия ведет к скуке»10. Занимательность, бьющая на воображение, уничтожает себя самое подобно наказанию, преследующему чисто механическую цель устрашения. Воображение пожирает свой предмет, не насыщаясь им, и требует каждый раз все большей доли занимательности. Так воспитываются блазнированные натуры*, которых уже ничто не может поразить, которые ничему не удивляются, так как им все уже наскучило.
________________
*Блазнированные натуры — подверженные соблазнам. — Прим. ред.
Подлинный интерес питается работой мышления, приучающегося открывать чудесное в обыденном, новое в старом. Он возрастает, а не притупляется по мере переработки питающего его материала. Поэтому, несмотря на все различие и всю внешнюю случайность отдельных эпизодов, из анализ которых составляется эпизодический курс, каждый урок последнего должен ощущаться учеником не только как дающий ему нечто новое, но и как подвигающий его вперед в направлении искомых им элементов пока только предчувствуемой им системы. Поэтому также педантическое ограничение эпизодического курса материалом, который ученик непосредственно сам может наблюдать в оригинале, может повести к нарушению равновесия системы и эпизода. Конечно, все, что из окружающей ребенка среды может быть использовано для эпизодического преподавания, должно быть использовано учителем. Но этим не исключается желательность, а иногда даже необходимость, в интересах подготовки материала для будущего систематического курса, привлекать к анализу и обсуждению и более отдаленные эпизоды, могущие быть предложенными ученику только в виде модели или рассказа, ибо подлинная наглядность достигается не внешней данностью изучаемого предмета органам восприятия, а интуицией заданного в данном, методическим раскрытием научной проблематики, заложенной в предмете, хотя бы этот предмет и не воспринимался непосредственно органами чувств.
С другой стороны, и преждевременное превращение эпизодического курса в систематический, получаемое тогда, когда момент системы в нем чрезмерно подчеркивается и становится явным ученику, ведет к вырождению эпизодического курса. Примером этого второго типа вырождения может служить элементарный курс обучения, как он на практике осуществлялся Песталоцци. Основная идея начального курса Песталоцци, которому принадлежит и самый термин «элементарного» обучения, состояла в том, что первоначально должны быть усвоены элементы знания и притом усвоены не посредством отвлеченного знания, а путем деятельной и живой интуиции. Каждый элемент должен быть понят учеником, отыскан им в окружающей его действительности и многократно применен к жизни. Только после того, как он всесторонне будет схвачен живой интуицией ученика, которая есть одновременно и знание и деятельность, можно перейти к следующему элементу. В этом смысле преподавание должно быть непрерывным, т. е. оно должно неуклонно подвигаться от элемента к элементу, не оставляя никаких пробелов. Число, наглядное представление и слою являются теми тремя системами, из которых, по мнению Песталоцци, слагается знание человека, и элементы которых надлежит усвоить в течение элементарного курса обучения. Поэтому последний и протекает в направлениях арифметики, геометрии и языка, азбука которого должна быть дополнена «азбукой наглядного представления» и «азбукой числа». Усвоение этих «азбук» происходит следующим образом: учитель берет элемент (например прямую линию или гласный звук «а») и предлагает ученикам отыскивать его в окружающей их действительности (линия потолка, пола, парты; звук «а» в обозначающих находящиеся в классе вещи словах), затем активно порождать его в самых разнообразных формах и комбинациях (линию рисовать, лепить, вырезать из дерева, из картона и т. п.; звуки произносить, писать в сочетаниях ба, ва, га, …. аб, ав, аг, …. и т. д.). На каждый элемент при этом отводилось по несколько дней, а иногда недель, и только после того, как Песталоцци убеждался, что элемент всесторонне и прочно усвоен учениками, он переходил к следующему. — Нужно ли говорить, что такое преподавание, несмотря на все искусство Песталоцци оживлять его совместным с учениками анализом окружающей их жизненной среды, само собой вырождалось в механическое и скучное повторение показанного учителем и в беспорядочное отгадывание детьми желаемых учителем ответов? По-видимому, в последние годы своей жизни Песталоцци сам понял, что построенный и осуществленный им курс начального обучения не разрешает поставленной им элементарному курсу задачи: усвоения элементов знания в живой и деятельной интуиции. Целый ряд причин, обсуждение которых здесь завело бы нас слишком далеко11, помешали Песталоцци разрешить эту столь правильно им осознанную и точно формулированную задачу элементарного курса. Но одной из главных причин его неудачи было несомненно то, что момент системы получил в его курсе чрезмерный перевес над моментом эпизода. Система должна только просвечивать в эпизодах, но не поглощать эпизоды, деградируя их в простые иллюстрации составляющих ее элементов. Она должна всегда оставаться только искомым и предчувствуемым заданием, а не навязываться ученику в своей готовой и явной данности. Эпизодический курс должен подвести ученика к элементам научной системы, но исходить не из них, а из близкого ученику мира, составляющего для него жизненно-конкретное целое. В противном случае мышление ученика будет бесплодно истощаться в механическом применении к отдельным примерам ограниченных в своей замкнутой данности элементов.
Так, требования научного образования совпадают с требованиями образования нравственного. Эпизодический курс есть в первую очередь дидактическая необходимость: он есть лучшее средство ввести ученика в научное мышление и открыть ему чисто познавательную ценность научной системы. Но он же, как мы знаем, есть единственная форма, в которой в данном возрасте может быть воспитано уменье я интерес к работе. Не будь эпизодический курс первой ступенью научного образования, идея трудовой школы могла бы осуществиться на деле только в ущерб научному развитию человека. К счастью это не так. Не так, потому что процесс достижения знания есть тоже деятельность, есть труд, который может и Должен протекать согласно устанавливаемым теорией нравственного образования формам.
В эпизодическом курсе получает также свое удовлетворение и то течение современной педагогики, которое характеризуется неудачным, на наш взгляд, термином «родиноведения». Характерно, что даже Винекен, яснее других понявший задачу эпизодического курса, мыслит его все же в виде особых уроков (час в день) «родиноведения» (правда — Hcimatsunterricht, а не Hcimatskunde). Между тем, «родина» есть не особый предмет обучения и даже не особый его метод, а тот материал, из которого должно исходить первоначальное обучение. Этот материал, эпизодический и случайный с точки зрения научной системы, представляет собой жизненно-практическое единство, близкое и понятное ученику, который связан с ним тысячью определяющих его существование нитей. По мер того, как мышление ученика развивается, и восприятие его, становясь знанием, расширяется12, — расширяется и этот материал, «приближая» к ребенку постепенно все больший круг явлений. В этом смысле глубоко прав Винекен, считающий, что «родиноведение» должно переходить от «наглядного» к «незримому»13. Так постепенно созревает момент, когда обучение может перейти уже к изучению систематического курса наук, располагающих свой материал независимо от того случайного единства, в которое замыкает его эгоцентричный прагматизм примитивного мышления. Таким образом, расширение «родины» до пределов «мира», а не националистическое или областническое нарочитое ограничение кругозора ученика пределами данного «края» («краеведение») есть подлинная задача эпизодического курса. Но именно в силу этого относительного характера понятия «родины» термин «родиноведение» менее всего способен выразить задачу начального курса обучения. «Эпизод» безличнее и относительнее и включает в себя дидактически правомерный мотив «родиноведения». Это в значительной мере признали и методисты «родиноведения», понимающие ныне все более «родиноведение» не как особый метод преподавания отдельного предмета, а как «систему начального обучения», связывающую в единое жизненно-практическое целое все предметы первых лет обучения. Действительно, для эпизодического курса характерно, что в нем отдельные предметы еще не дифференцированы в особые науки, но, взаимно переплетаясь друг с другом, образуют совместно жизненно-практическое единство постепенно расширяющейся в своем объеме «родины»14.
Только научная система расчленяет знание на отдельные сравнительно замкнутые дисциплины, определяемые присущими каждой из них особыми элементами. Но это расчленение знания предполагает освобождение мышления от связывающих его первоначально пут прагматизма. Эпизодический курс поэтому не знает еще той дифференциации обучения по отдельным предметам, которая составляет характерное свойство систематического курса. Здесь нет еще ботаники, зоологии, арифметики, алгебры, языка, истории государства, истории литературы, но только нерасчлененное единство всех этих дисциплин. Расчленение лишь предчувствуется и ищется, как задание обучения, но не определяет обучения, как его данный уже исходный пункт. Ученик должен найти расчленение, исходя из еще нерасчлененного единства знания. В идеале поэтому начальное обучение должно сосредоточиваться в руках одного учителя, преподающего все предметы в их взаимно переплетенном единстве. Но так как, будучи сокрытым от ученика, расчленение знания на отдельные дисциплины должно быть хорошо знакомо учителю, который тогда только сможет пронизать эпизоды системой, когда будет сам хорошо знать научную систему знания, и так как энциклопедическое знание всех наук в настоящее время почти что недостижимо, то практически придется все же по необходимости поделить научное преподавание в начальной шкале между двумя учителями — учителем естественно-математических и историко-филологических предметов. Не беда, если даже и в этих пределах учитель по необходимости не будет «всего знать» и часто не сможет ответить на вопросы ушников. У него есть всегда возможность обратиться к книге. Такое признание своего незнания в правильно поставленном преподавании менее всего способно подорвать авторитет учителя. Обращение же к книге воспитает в учениках правильное к ней отношений как к советчику и другу, накопившему в себе коллективный опыт и знание человечества, и научит учеников самостоятельно пользоваться книгой для решения встающих перед ними вопросов15. Нерасчлененность эпизодического курса на отдельные дисциплины только повторяет ту недифференцироваиность знания первобытного человека, о которой мы говорили выше и которая объяснялась скованностью его познавательной деятельности подавлявшим его жизнь началом самосохранения16. Но если на заре истории практически-полезное закрывало от человека научную систему, то здесь, на первой ступени обучения, оно именно должно подвести мышление ученика к усвоению ее элементов. В этом пункте эпизодический курс опять-таки соприкасается с игрой: подобно тому, как игра представляет собой нерасчлененное единство переплетающихся взаимно сторон культуры, почему и может быть уподоблена мифу, в котором культура является в нерасчлененном образе природы17, точно так же и научно не расчлененная «родина» эпизодического курса кроет в себе нераскрытую еще целокупность отдельных научных дисциплин.
4
Нужно ли еще особо доказывать, что правильно поставленный эпизодический курс предполагает как у учителя, так и у ученика специальную подготовку? В самом деле, если старый курс начального обучения, начинавший с систематического изложения ученикам элементов соответствующего предмета, не предполагал у них ничего, кроме простой грамотности, то эпизодический курс предполагает у учеников развитую способность восприятия. Самостоятельное наблюдение окружающего ученика сложного мира требует развития глазомера, слуха, топкого различения цветов, вообще развития органов восприятия. Эпизодический курс есть в буквальном смысле слова чтение природы и памятников истории, и потому грамотность в обычном смысле слова, достаточная для чтения книг о природе и исторических учебников, здесь уже не достаточна. Понятие грамотности, предполагаемой эпизодическим курсом, должно быть расширено. Оно должно включить в себя и «развитие органов чувств». B этом и заключается правота Монтессори и Руссо, постольку правильно утверждавшего, что «первые наши учителя философии — это наши ноги, руки, глаза». В действительности, чувства, конечно, не учителя знания, но они являются необходимым орудием восприятия, методическое и последовательное расширение которого за пределы «видимого», т. е. перерождение которого в знание и составляет цель начального обучения. Детский сад надлежащим развитием органов чувств ребенка в направлении потребностей будущего эпизодического курса должен поэтому разрешить эту задачу подготовки ребенка к обучению в школе. В школу, где начинается его научное образование, ребенок должен вступить уже грамотным в широком смысле слова, настолько, что он самостоятельно сможет участвовать в общей познавательной работе класса. Кроме развития органов чувств сюда входит также и то, что принято называть графической грамотностью. Ребенок должен уметь не только читать и писать, определять па глаз расстояние, различать цвета и звуки, он должен также уметь пользоваться карандашом и красками для выражения своих мыслей и результатов своего наблюдения. Конечно, графическая грамотность в полном значении этого слова может быть дана только школой, так же как и словесная грамотность. Эпизодический курс, пользующийся не только всеми органами восприятия, но и всеми средствами выражения (слово, чертеж, рисунок), должен как раз развить эту грамотность в ребенке. Подводя ученика к элементам научной системы, он должен завершить собой обучение его грамотности в самом широком смысле этого слова18. Но начатки грамотности уже предполагаются эпизодическим курсом и должны быть даны поэтому в детском саду, подобно тому как уменье читать, писать и считать считалось естественным предположением самого элементарного обучения учебным предметам.
Не только ученик, но и учитель должен получить специальную подготовку для преподавания эпизодического курса. Знание учебника и программы здесь, конечно, уже не может почитаться достаточным. Умелая постановка эпизода предполагает, кроме основательного знания научной системы, которая должна в эпизоде просвечивать, знание окружающего ученика мира, так же как и «психологию» учеников, т. е. их интересов, стремлений и желаний. Отсюда необходимость знания учителем начальной школы по крайней мере систематического курса основных наук, т. е. наличие у него общего научного образования, даваемого прохождением полного курса средней школы. Отсюда, далее, необходимость знакомства учителя с местной природой и местной историей, местным языком и наречием. Не случайно поэтому, а совершенно законно программы учительских курсов последних лет отводят все большее место «краеведению». В частности, не случайно учителя истории все в большей степени привлекаются к разработке истории местного края. Учитель эпизодического курса не есть безличный преподаватель, могущий с равным успехом преподавать свой отвлеченный предмет и на Севере, и в Сибири, и в Туркестане и на Украине. Нет, он должен быть знаком с индивидуальными особенностями того края, в котором он преподает. Конечно, научно образованный учитель, пройдя еще соответственные повторительные учительские курсы, легко сможет ориентироваться в новой обстановке. Перемена обстановки, может быть, даже и желательна в интересах свежести преподавания, предотвращения образования у учителя рутины, ведущей к опасной в деле преподавания механизации. Но тем более она предполагает развитую сеть повторительных учительских курсов, включающих в свою программу, наряду с обще-педагогическими и научными дисциплинами, так же и специальные занятия, посвященные природе, истории и языку местного края.
Анализ понятия эпизодического курса с особенной наглядностью подчеркивает невозможность для учителя следовать в своем преподавании какому-нибудь одному учебнику и быть связанным точно предписывающей определенный учебный материал программой. Даже учебники и программы, специально приспособленные к особенностям местного края, могут иметь лишь образцовое значение для учителя, долженствующего каждый раз создавать свой собственный учебник, но этот свой самим учителям создаваемый и им непрерывно перерабатываемый учебник должен у него быть. Учитель должен знать не только то, что он преподает ученикам в течение года, но и в течение каждого урока. Цель урока, сокрытая от учеников, должна быть ясно и точно сознаваема учителем. Пусть экскурсия эпизодического курса представляется ученикам занимательной прогулкой, и открытия, которые они сделают во время нее, неожиданными. Эти открытия могут быть действительно неожиданными, но, готовясь к экскурсии и к уроку, учитель должен быть готов к этим неожиданностям, он должен точно знать, что могут его спросить его ученики, на что они могут натолкнуться в процессе самостоятельного наблюдения, и как надлежит ему использовать этот материла для подведения их к элементам научной системы, являющейся сокрытой целью и оправданием эпизодического курса. Без этой подготовки и приблизительного распределения материала эпизодический курс неизбежно выродится в анархическое и беспорядочное блуждание по отдельным эпизодам, которое не сможет Даже оправдать их внешняя занимательность.
Теперь нам легко будет также оценить и установить подлинный смысл столь излюбленного, но утратившего с течением времени всю свою определенность лозунга «наглядности». Не перебирая здесь всех значений этого термина, мы выделим два его понимания, которые резко различаются между собой философскими точками зрения, в них выраженными, и к которым тяготеют все другие менее определенные значения «наглядности». Наглядность в первом смысле слова можно назвать «эмпирической» наглядностью. Это есть наглядность иллюстративная, заключающаяся в приближении предмета обучения к органам восприятия и воображению ученика, преимущественно через использование зрительного чувства. Предмет не только называется ученикам, чем ограничивалось, например, средневековое преподавание, но показывается на картине или даже изображенным в модели. Эту наглядность ввел в теорию и практику педагогики Ян К о м е н с к и й, издавший первый, составивший его славу, иллюстрированный учебник («Orbis pictus»)19. С тех пор она стала прочным достоянием педагогической практики и, используя средства современной техники (фотография, кинематограф, граммофон, папье-маше), достигла поразительного совершенства. Свой естественный предел она имеет в демонстрировании самого изучаемого оригинала. Мы назвали эту наглядность эмпирической потому, что она соответствует эмпирическому пониманию знания как опытного восприятия: предмет должен быть воспринят органами чувств, чтобы быть схвачен умом. Это Локково понимание знания и лежит в основе тех педагогических теорий, которые к этой иллюстративной наглядности сводят искусство успешного преподавания20.
Именно против этого узкого понимания наглядности, а не против иллюстративной наглядности, как таковой, и должна возражать, на наш взгляд, здравая дидактика. Польза иллюстраций и моделей (и значение учебника Коменского) не может в настоящее время подлежать сомнению. Весь вопрос в том, исчерпывается ли данным пониманием подлинный смысл наглядности обучения. Когда Коменский противопоставлял чисто словесному преподаванию средневековой школы свой «иллюстрированный мир», он боролся против отвлеченности и механизма старого преподавания. И для его времени иллюстрация была достаточным новшеством, чтобы революционизировать выродившееся в рутину преподавание. Но не кроет ли она сама в себе элемента механизма и рутины? Как таковая, иллюстрация вряд ли существенно отличается от слова. Оба они являются равно символами отсутствующих предметов, внешними средствами, долженствующими приблизить уму ученика далеко отстоящую от него действительность. Чем символ-слово хуже символа-рисунка или символа-модели? Ведь есть слова, которые жгут сердца людей и воспламеняют их ум, как и есть картины и модели, которые оставляют сердце и ум людей холодными. Дело не в том, чтобы приблизить предмет восприятию ученика, но в том, чтобы зажечь его активное мышление. Иллюстративная же наглядность, как таковая, не способна этого сделать. Напротив, стремясь чисто внешними механическими средствами изображения приблизить предмет к ученику, она как бы хочет освободить его от активных усилий мышления, облегчить ему его усвоение. Эмпирическая наглядность есть по существу своему пассивная наглядность. И она так же может м е х а н и з и р о в а т ь с я, выродиться в дурную «словесность» (т. е. подмену предмета его вещественным знаком), так и чисто словесное, не наглядное преподавание средневековья. Тем самым мы подходим ко второму понятию наглядности, которое, соответствуя критической теории знания, было впервые особенно резко установлено в педагогической литературе П е с т а л о ц ц и и Ф и х т е и недавно вновь обосновано с исчерпывающей ясностью П. Н а т о р п о м21. Смысл этой наглядности есть не столько внешняя воззрительность предмета, пассивно воспринимаемого учеником, сколько внутренняя активность мышления учащегося в процессе познания им предмета. Самый русский термин наглядность, являющийся переводом немецкого Anschauung, сюда не подходит и должен быть заменен скорее термином «интуиция». Наглядность должна быть активной. Это значит, что в процессе усвоения учеником предмета, знание должно быть не пассивно им перенято с помощью обращающихся только к его воображению и памяти иллюстраций, но самостоятельно, хотя и с помощью учителя, найдено учеником, добыто и открыто его собственным мышлением. Ученик должен почувствовать, интуитивно «пережить» сокрытую в предмете его научную проблематику и уловить то направление, в котором эта проблематика может быть мышлением разрешена. Поэтому «наглядность» не есть нечто одинаковое, могущее быть достигнуто одними и теми же средствами иллюстрирования. На разных ступенях научного образования она различна, подобно тому как наказание не есть однообразное механическое средство устрашения, но различается по своим формам па разных ступенях нравственного образования. На ступени эпизодического курса наглядность означает не что иное, как интуицию учеником позади наблюдаемого им эпизода тех элементов научной системы, которыми он систематически построяется и, следовательно, научно объясняется. Обучать эпизодам так, чтобы ученик интуитивно чувствовал элементы системы, — это и значит наглядно обучать в эпизодическом курсе. Как мы увидим ниже, на ступени систематического курса, где система есть уже предмет явного преподавания, наглядность изменится. Она будет означать уже направленность мышления ученика на то, что находится позади системы, интуитивное постижение им того, что порождает самое научную систему, т. е. метода научного исследования. Но всюду наглядность заключается в том, чтобы обучать больше того, чему видимо обучаешь. Она состоит в сообщении мышлению учащегося толчка в направлении, следуя которому он сам придет к тому целому, только ограниченной частью которого является непосредственно наблюдаемый и изучаемый им предмет. Так самостоятельно найти позади кошки — хищника, позади ручья — геологию, позади разрытого городища — историю, так же как и позади педагогики диалектический метод философии, — в этом интуитивном постижении основания изучаемого предмета, в котором он существенно укоренен, и заключается подлинная внутренняя, активная наглядность22. Но она дается не тем преподаванием, которое суетливо старается занять все органы восприятия ученика, изображая ему подлежащий усвоению предмет красочными словами, картинами и моделями, как бы для того, чтобы освободить ученика от необходимости его помыслить. Нет, она дается только в моменты молчания сосредоточившейся в себе души и достигается только тем учителем, слова которого означают больше, чем говорят, который во всяком эпизоде умеет приоткрыть ученикам сокрытую в нем проблему и тем самым приобщить их к движению научной мысли.
Литература вопроса. 1. П о о б щ е й т е о р и и э п и з о д и ч е с к о г о к у р с а нет специальных работ. Срв. Д ь ю и. Психология и педагогика мышления. В и н е к е н. Schule und Jugendkullur, 1914 Гл. XIII (Heimatsunterricht).
<…>
3. О наглядности обучения срв. N а t о r р, Pesialozzis Prinzip der Anschauung. <…>
Примечания
ГЛАВА X
- Яснополянская школа. Собр. соч. ГЛ. IV, стр. 209.
- Идея единой школы со своей стороны содействовала также раздроблению старого школьного курса, подняв вопрос о самостоятельности первой (пока только обязательной) ступени обучения и необходимости отлить предлагаемый ею учебный материал в форму законченного в себе «концентра».
- Эти цитаты намеренно взяты нами из методики естествознания, предназначенной для гимназий и реальных училищ, в которых школьный кус естествознания не делится более или менее определенно на две ступени, но которая все же удачно отражает новейшие течения методической мысли и практики.
- Срв. интересную попытку — «The Oxford latin book» (1-ое изд. в 1912 г.).
- Таким образом, функцией действия является не з н а н и е, к а к т а к о в о е, а только д е я т е л ь н о с т ь же, направленная на достижение знания.
- См. выше, гл. 4, § 1.
- В и н е к е н, ц. с., стр. 135, 141.
- Срв. Кантову формулу: «понятия без наглядных представлений пусты, наглядные представления без понятий слепы», см. выше гл. 8, § 2.
- Об эпизодическом курсе грамматики см. ниже в гл. 13, § 4.
- В и н е к е н, ц. с., стр. 139.
- О дидактике Песталоцци см. Н а т о р п. Песталоцци (мало останавливающейся на ошибках Песталоцци).<…>
- Срв. сказанное выше о знании как «расширенном восприятии», гл. 9, § 2.
- Сам В. располагает материал курса родиноведения след. образ.: «I г о д. Н е п о с р е д с т в е н н о е явление (описание). Видимое движение светил. Год и день. Небесные пространства. Наблюдение животных и растений, биологические общества. Влияние теши. Термометр. Паровая машина. О человеческом теле: питание, дыхание. Гора и долина, реки, ручьи и т. д. Море. (В центре — описательное естествознание). 2 г о д. О п о с р е д с т в о в а н н о е я в л е н и е (причины). Действительное движение и форма небесных светил. Глобус, карты (вообще предпочтение географии). Тяготение. Простое из области механики (маятник и т. п.). Воздух. Погода. Ветер. Барометр. Система животных и растений. История земли. 3 г о д. Н е з р и м о е. Микроскоп. Подзорная труба. Магнитизм и электричество. Химия. Фотография. Минералы. (В центре преподавания — физика и химия). Срв. В и н е к е н, ц. с., стр. 138, 140.
- Срв. выше гл. 4, § 4. Тем самым на первой ступени обучения достигается столь желанная «концентрация» обучения. На второй ступени она может быть достигнута умело проведенной «фуркацией».
- Срв. В и н е к е н, ц. с., гл. XIII.
- Срв. введение, § 2.
- Срв. гл. 3, § 5.
- В этом именно заключается цель начального обучения, как завершенного в себе концентра, которую и имел в виду Песталоцци, составляя свои «азбуки» (ABC des Zahl и ABC der Kunst). Срв. Н а т о р п. Песталоцци, § 7 - 8.
- Около 1650 г. Мы говорим «составивший его славу», ибо другие более глубокие педагогические взгляды Коменского были только в последнее время изъяты из забвения, которому они подверглись в силу непонимания их современниками. Срв. Б л о н с к и й. Ян Амос Коменский. М. 1915 г.
- В своем предисловии к Orbis pictus Коменский прямо ссылается на основную тезу сенсуалистического эмпиризма, говоря — «ибо очевидно, что в уме нет ничего, чего бы не было ранее в чувстве. Следовательно, тщательно упражнять чувства в распознавании различий естественных предметов, — значит положить основание всякой мудрости, всякого красноречия и всякого доброго и благоразумного действия».
- Фихте — в «Речах», VI. 404 сл. Уже эмпирическая теория наглядности сделала решительный шаг от пассивной наглядности к активной, включив в число долженствующих быть вызванными во время восприятия ощущений не только зрительные, но и так называемые моторные, или двигательные ощущения. Дальнейшее экспериментальное исследование мышления еще более подтверждает высказанный уже ранее философской педагогикой взгляд, что подлинная «наглядность» есть не что иное, как активность мышления учащегося. <…>
- Во избежание недоразумений, к которым может повести частное употребление нами здесь термина интуиция, скажем, что интуиция, также как и чувственное наглядное представление, есть для нас только один элемент знания, требующий, в качестве второго своего элемента, формально-логического начала. Простого чувственного наглядного представления недостаточно для знания. З н а н и е чувственного объекта имеется только тогда, когда чувственный материал опосредствован логическими формами эмпирического знания. Эти последние в эмпирическом знании, правда, только непосредственно переживаются, они «интуитивно» даны ученому, рефлектирующему в нем на познаваемый им в этих формах чувственный материал. Поэтому именно самые формы знания в эмпирическом знании не познаются. Как только они познаются (уже в философском знании), они становятся материалом знания, почему и требуют своего оформления категориями уже философского знания, которые сами, однако, в этом последнем являются опять-таки лишь предметом интуиции и непосредственного переживания. Когда эти последние в свою очередь становятся материалом знания (в логике философии), то оформление их происходит как бы с помощью их самих, так что в логике философии познается то самое, что интуитивно переживается, т. е. форма и материя знания совпадают. Срв. L a s k, Logik der Philosophie, 1911. Поэтому задача обучения состоит в том, чтобы побудить ученика к интуиции, или к д е я т е л ь н о м у п е р е ж и в а н и ю ф о р м ы, находящейся как бы позади непосредственно познаваемого материала, освещающей его логическим светом знания и тем самым возводящей его в достоинство познаваемого. Элементы научной системы являются таким формальным моментом по отношению к эпизоду, метод научного исследования — по отношению к научной системе. Правота интуитивизма состоит лишь в том, что он расширяет понятие интуиции, или непосредственного восприятия, показывая, что воспринимать можно не только чувственные предметы, но и логические и другие философские «сущности». Однако, как ни необходимо для знания подобное «восприятие сущностей», п р о с т о г о их восприятия для знания все же недостаточно. — Срв. слова Ш и л л е р а из письма его к Гете (23. VIII. 1794): «В Вашей правильной и н т у и ц и и заключено в гораздо более полном виде все то, чего анализ с таким трудом ищет, и только потому, что это имеется у Вас как целое. Ваше собственное богатство с о к р ы т о от Вас, ибо, к сожалению, м ы з н а е м т о л ь к о т о, ч т о м ы р а з д е л я е м (scheiden).»
Глава XI. ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТУПЕНЬ ВТОРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
1
Если на ступени эпизодического курса элементы научной системы являются только сокрытой пружиной преподавания, явно направленного на «родной» ученику эпизод, то в систематическом курсе, по отношению к которому эпизодический был именно вводным, система становится уже явным предметом обучения. В отличие от эпизодического, систематический курс характеризуется тем, что он не приходит к элементам, а исходит из них, как из основных положений, выраженных в определениях и аксиомах или первых законах и фактах. Из этих элементов непрерывным образом построяется целое замкнутой в себе области знания, отграниченное от других областей и расчлененное в свою очередь на относительно замкнутые отделы. Систематический курс характеризуется, наконец, полнотой и законченностью, не в смысле, конечно, невозможного никогда исчерпания всех подробностей, а в смысле обзора всех тех отделов системы, в которых каждая неприведенная подробность должна занять свое определенное место. Тем самым в нем получают свое выражение основные свойства системы, указанные еще Кантом, а именно единство, расчлененность и непрерывность. Все факты и законы располагаются здесь в определенном порядке, который обусловливается чисто логическими требованиями, вытекающими из законов соответствующего научного метода. Все это в одинаковой степени относится не только к естественноматематическим и философским наукам, систематический характер которых не подвергается, вообще говоря, сомнению, но и к историческим наукам, из которых каждая образует тоже своеобразную систему, характеризующуюся в не меньшей мере, чем естественные науки, единством, расчлененностью и непрерывностью1.
Систематический курс в нашем понимании отличается не только от предваряющего его эпизодического курса. Он существенно отличается также и от старого школьного курса, только внешне носившего систематический характер, на деле же менее всего бывшего систематическим. В самом деле, старый школьный курс, следовавший в своем расположении материала логическому порядку системы, не мог открывать ученикам системы изучаемою ими учебного предмета, ибо система как целое была задавлена массою тех частностей, из которых слагался материал курса и позади которых терялось целое пауки. Система науки была не органическим единством, по механическим агрегатом отдельных частей, логическая связь между которыми как раз ускользала от учеников. Напротив, систематический курс, предваренный эпизодическим, только подводит итоги уже имеющемуся у ученика материалу, в который он вносит единство и непрерывность, заполняя пробелы эпизодического курса. Выводя, например, систематически из соответствующих теорем площадь треугольника, он только дает логическое объяснение тому, что практически уже известно ученику, почему мысль ученика может направляться не на самую выведенную частность, а на то место, которое эта частность занимает в система планиметрии и на способ доказательства ее как геометрической теоремы. Именно потому, что систематический курс отвечает на вопросы, уже имеющиеся у учеников, и объясняет знакомые им уже явления действительности, на первый план в его изучении выступает система науки, которая в старом школьном курсе была не видна ученику позади загромождавших ее и выступавших на первый план подробностей. Если в этом последнем всякая новая теорема и всякий новый выведенный учителем закон должны были, чтобы стать ученику понятными, иллюстрироваться многочисленными примерами и упражнениями, которые учитель (вернее учебник и задачник) должны были придумывать, то в систематическом курсе эти примеры и упражнения легко будут найдены самими учениками из того богатого материала, который они приобрели уже во время прохождения ими эпизодического курса. То же самое можно сказать и о следствиях из основных теорем и законов: ученики сами легко выведут их из основных положений систематического курса, так как на деле это «выведение» будет ни чем иным, как упорядочиванием и кристаллизацией вокруг сравнительно немногих основных положений наличествующего уже у учеников материала. Все это значительно разгружает систематический курс, так как из него легко может быть выключен весь тот материал, который в старом школьном курсе имел своей целью иллюстрирование, развитие и разжевывание основных положений, слишком отвлеченных и мало говорящих ученику для того, чтобы их можно было усвоить непосредственно. Поэтому по сравнению со старым школьным курсом систематический курс отличается прежде всего краткостью. Так например, курс геометрии, который раньше обнимал 3 года, в систематическом курсе легко сможет быть пройден в 1 1/2 года. И хотя общее время обучения, таким образом, быть может, и не испытывает сокращения, ибо эпизодический курс тоже требует времени для своего прохождения, краткость систематического курса, достигаемая при предварении его эпизодическим, делает более выпуклой систему соответствующего учебного предмета, так что курс обучения делается систематическим не только по внешнему расположению материала, как это было в старом школьном курсе, но и по существу, в том смысле, что система науки становится здесь подлинным предметом обучения. Новые учебники систематического курса должны поэтому отличаться прежде всего краткостью. «Наглядность» их должна заключаться не столько в красочности изложения и в снабжении их иллюстрациями, сколько в отчетливой ясности, с которой выступает в них не загромождаемое своими собственными частями целое системы.
Если эпизодический курс, будучи пропедевтическим, вместе тем и завершает развитие грамотности ученика в том широком смысле слова, которое было установлено нами выше2, то, с другой стороны, и систематический курс не только завершает и объединяет результаты предыдущей ступени обучения, но одновременно является и подготовительным. Дело в том, что система не есть высшее и последнее в науке. Выше ее стоит метод науки, порождающий и низвергающий отдельные научные системы, являющиеся только его ограниченными и исторически обусловленными кристаллизациями. Научные системы сменяют друг друга. Метод научного исследования, напротив, проходит сквозь сменяющие друг друга системы как тождественное им всем начало. Всякая научная система есть плод взаимодействия двух факторов — формального начала «метода» и материального начала «опыта», находящихся между собою в отношении постоянного взаимного напряжения. Это равно относится как к естественнонаучному и историко-филологическому, так и к математическому и философскому знанию, если только «опыт» понимать не в узком смысле данных чувственного восприятия, как его мыслит себе эмпиризм, но в том широком смысле слова, который ему в настоящее время придается интуитивизмом и который включает в себя наряду с чувственным опытом также и непосредственное «восприятие», или, лучше, «созерцание» нечувственных фактов математического мира и философских сущностей Истины, Добра и Красоты. Пронизанные методом «факты опыта» откристаллизовываются в гармоническое целое научной системы, в которой каждый из них занимает свое особое место, определяемое ему его связью с другими «фактами». Законы в естественно-математическом и индивидуальные связи в историко-филологическом знании являются теми звеньями порядка и организации, в которых реализуется овладевающий фактами метод. Они в совокупности своей и образуют схему научной системы. Будучи кристаллизацией метода науки, эта последняя, однако, никогда не есть нечто законченное. Она стремится охватить собой все большее число фактов и расширить тем самым ту опытную базу, на которой сама покоится. В этом расширении, к которому принуждает ее питающий ее метод, научная система наталкивается нередко на такие новые факты, которые уже не укладываются более в установленные ею законы. Проблематика этих новых фактов не разрешается в простое продолжение и развитие уже установленных системой связей, и, не находя себе места в системе, эти факты требуют, таким образом, ее коренной перестройки. Так на наших глазах перестраивается теперь здание физической системы: система Ньютона, распространившись на новую область электромагнитных явлений, наткнулась на такие факты действительности (опыты Майкельсона и Морлея), которые взорвали ее как бы изнутри. Новая физическая система Эйнштейна, идущая на смену Ньютоновой, тем и отличается от этой последней, что в ней эти новые факты получают свое надлежащее объяснение, благодаря чему между методом и опытом восстанавливается нарушенное было равновесие. Но было бы глубоко неправильно думать, что Эйнштейн проводит в своей системе какой-то новый метод физического исследования. Нет, он пользуется все тем же методом, которым пользовались в свое время Масквелл, распространивший механику Ньютона на открытые Фарадеем электромагнитные явления, и сами Ньютон и Галилей и отчасти даже Аристотель, физическая система которого была низвергнута исследованиями этих последних. Если бы новая система не продолжала предыдущей, то она не могла бы и оспаривать ее правоты, ибо не было бы того общего форума, которому обе системы могли бы представить доказательства своей истинности и который мог бы их рассудить. Именно потому, что каждая из них притязает быть реализацией одного и того же метода исследования, одна может становиться на место другой, как его более полная и глубокая реализация. Поэтому, как ни противоречат с виду определения Эйнштейном массы, объема, силы, времени определениям Ньютона, как ни отличаются основные законы движения в новой физической системе от законов движения Ньютоновой физики, законы и определения этой последней продолжают как бы жить в новых законах и определениях, которые, будучи их углублением и развитием, освобождают их от отличавшей их ограниченности и включают их в себя в их относительной и частичной истинности. Так, позади системы науки, или науки в ее кристаллическом виде, открывается нам наука в ее как бы расплавленном состоянии, в той ее вечной проблематичности, которая заставляет ее неустанно расширять рамки объясненного ею опыта, и в пламени которой то прокаляются, укрепляясь, то напротив, расплавляются кристаллы научной системы.
Постольку мы и говорим, что высшее в науке, составляющее последнюю цель научного образования, есть не система, но метод науки, порождающий и низвергающий сменяющие друг друга научные системы. Поэтому систематический курс, ставящий систему науки в центр преподавания, есть только переходная ступень обучения, подготавливающая ученика к овладению методом исследования. Но для того, чтобы систематический курс мог выполнить эту свою подготовительную функцию, научная система в нем должна быть пронизана превышающим ее методом, устремлена к нему. Научный метод должен просвечивать в ней так же, как она сама пронизывала эпизод на ступени эпизодического курса. При этом она должна оставаться, однако, системой, ибо, чтобы овладеть методом научного исследования, надо предварительно познакомиться с системой как продуктом метода. Преодоление системы предполагает знакомство с ней. Критически отнестись к системе может только тот, кто усвоил ее как законченное в себе целое. Ибо только тот выход за пределы данной научной системы плодотворен и чреват открытием новой системы, которому предшествовало исчерпание всех возможностей объяснения новых проблематических фактов в рамках старой системы. Систематический курс является поэтому необходимым этапом на пути к высшему научному курсу. Во многом он напоминает собою гетерономию урока. И в научном образовании, прежде чем создавать свои системы, надо образовать в себе умение подчиняться чужой системе.
2
Это значит, что система, являющаяся в систематическом курсе явным предметом преподавания, должна предлагаться не как нечто окончательно и последнее, что должно быть заучено как незыблемая научная догма, все познавшая и разрешившая все вопросы, но как нечто только временно последнее, подлежащее дальнейшему усовершенствованию и даже, быть может, полному преобразованию. Только тогда систематический курс откроет учащемуся глаза на всю сложность и трудность научного объяснения действительности, возбудит у учащегося интерес к научному ее исследованию, вкус к научной работе, или, по крайней мере, понимание ее и уважение к ней. Напротив, догматизм, все равно выступает ли он в форме вероисповедного учения и традиционно-консервативного понимания истории или в модернизированной форме дарвинизма и исторического материализма, поддерживает у учащегося иллюзию окончательно найденного объяснения действительности. Поэтому он менее всего способен возбудить интерес к научной работе. При догматическом преподавании научное исследование, поскольку оно не согласуется с принятой в основу преподавания системой, опорочивается в своих мотивах; поскольку же оно происходит в духе последней, оно интересует лишь, как подтверждение уже установленных взглядов, и мысль учащегося невольно направляется не столько на научное обоснование системы, сколько на те практические приложения, которые можно из нее вывести.
Дабы систематический курс не выродился в догматическое заучивание системы, необходимо, чтобы изложение системы в учебнике на заслонило собою самой систематически объясняемой действительности. В этом и заключается правота так называемого «лабораторного метода», о котором в настоящее время все больше приходится слышать не только в методической литературе естественнонаучных предметов, где лабораторная работа учащихся уже признана бесспорным атрибутом систематического курса обучения, но и в современных методиках математики и истории. Подобно тому, как в физике, химии, естествознании лабораторный метод в школе имеет своей целью изучение учащимися систематического курса на конкретном материале самих физических, химических и биологических явлений, ознакомление с элементарными лабораторными приемами работы (измерение, анализ, зоотомия) и повторение доступных в школьной обстановке классических опытов (например, опытов Пастера), — точно так же и лабораторный метод в математике и истории должен был бы иметь в виду ознакомление учащихся с тем материалом и приемами его исследования, которые привели к установлению изучаемых в соответствующих науках общих положений. Поэтому совершенно правильно в методической литературе по истории под «лабораторным методом» понимается ознакомление учащихся с летописным, литературным и документальным материалом исторического исследования и анализ ими избранных памятников, имеющий целью ознакомить их с приемами исторической критики и доказательства. Но совершенно уже в ином и вряд ли законном смысле термин «лабораторный метод» употребляется в методиках математики. Здесь он означает изучение математических (преимущественно геометрических) законов в лаборатории — с помощью приборов (измерение длины, объема, веса), геодезических инструментов, черчения и т. д., т. е. изучение математики «трудовым способом», или в ее практических приложениях3. Сам класс представляет в таком случае не столько лабораторию, сколько мастерскую или чертежную, и курс математики, преподаваемый таким способом, есть не систематический курс, а эпизодический. Между тем, глубоко неправильно обозначать изучение систематического курса на конкретном материале (происходящее в естественнонаучных предметах в лаборатории) и прохождение эпизодического курса «трудовым способом» (в связи с жизненно-практическими приложениями) одним и тем же термином на том только основании, что и здесь и там «знания даются не в готовом виде, не в догматической форме, а самостоятельно, хотя и с помощью учителя, отыскиваются, генетически раскрываются, выводятся, добываются, переживаются»4. Лаборатория тем и отличается от мастерской, что здесь в искусственном, вырванном из непосредственно окружающей «родной» обстановки и постольку в «отвлеченном» виде исследуется подлежащая научному познанию действительность. «Лабораторный метод» есть поэтому метод систематического, а не эпизодического курса. Он предполагает у учащихся наличие достаточного уже интереса к знанию ради знания, способность ценить знание и искать его независимо от возможности тотчас же применить его к жизни, т. е. развитие отвлеченного мышления, и это даже тогда, когда в лаборатории исследуется какая-нибудь чисто техническая проблема. Но отсюда также следует, что лабораторный метод не исчерпывает собою систематического курса обучения, а является только одним из его моментов. Систематический курс не может сплошь проходиться лабораторным методом не только потому, что такое прохождение удлинило бы его настолько, что система как целое была бы отодвинута на задний план частностями, но и потому, что систематический курс включает в себя не только «родное» и близкое, но чуждое и далекое, и никакая школа не в состоянии была бы снабдить свои лаборатории всем относящимся сюда материалом. Поэтому лабораторным методом могут проходиться только некоторые особенно пригодные для самостоятельного их изучения главы и вопросы систематического курса. Выбор их определяется яркостью проявления в них духа изучаемой системы, близостью и доступностью относящегося к ним фактического материала, жизненностью выводов, из них вытекающих, научным интересом и подготовкой учителя. В меру влияния этих последних факторов в различных школах могут избираться для лабораторного преподавания различные главы систематического курса, хотя последний, вообще говоря, не определяется местными условиями в той мере, как это было установлено нами для эпизодического курса.
Значение «лабораторного метода» заключается не только в его внутренней, или активной наглядности, благодаря которой учащиеся не просто заучивают готовые выводы науки, но и получают возможность заглянуть в те приемы и способы научной работы, которые привели ученых к установлению ими их научных положений. Он имеет громадное значение постольку, поскольку, открывая учащимся глаза на всю трудность и сложность научной работы, он предостерегает их от поспешных обобщений и преувеличенных ожиданий. Задача учителя, преподающего систематический курс, должна бы вообще состоять в том, чтобы не скрывать от учеников не разрешенных наукой проблем, но обращать их внимание на те вопросы, которые еще только являются предметом научного исследования. В этом отношении проведение резкой грани между фактами и законами, с одной стороны, и гипотезами, с другой, осторожность в развитии этих последних, объективность в изложении различных гипотез по одному и тому же вопросу и границ каждой из них, — являются обязанностью учителя5. Во всех науках, даже в математике, имеются такие вопросы. Пронизанность систематического курса научным сводится, таким образом, в сущности к его строгой научности: тем самым проблематика системы будет переживаться учащимися. Позади системы, в обнаруживающихся в ней пробелах они почувствуют питающее систему научное исследование. Как геолог, подойдя к расселине в земной коре, видит позади застывшей ее поверхности раскаленное тело земли в ее расплавленном состоянии, охлаждение которого отзывается на ее поверхности то более, то менее резкими переворотами, точно так же и учащийся в правильно поставленном систематическом курсе в проблемах изучаемой им системы откроет для себя науку в ее неустанной подвижности.
Но этим подведением учащегося к научному исследованию и должен ограничиваться систематический курс. Преждевременное превращение его в научный курс столь же опасно, сколь и приводящий к догматизму и чисто механическому заучиванию чужих мыслей отрыв его от научного курса. Школьный курс, стирающий совершенно грань между школой и университетом, способен опять-таки образовать не столько ученых, сколько дилетантов. Приступить к самостоятельному исследованию действительности, следовательно, к выработке самостоятельной научной теории, — можно только путем преодоления чужой системы, а не путем ее игнорирования. «Я не знаю, вообще, — говорит Гете, — большего самомнения (Anmassung), чем если кто выставляет притязания на дух, не ознакомившись до совершенной ясности с буквой». Как раз ошибка многих защитников лабораторного метода заключается в том, что они сводят весь систематический курс к «лабораторным» занятиям, так что эти последние служат не для ознакомления учащихся с приемами мысли и исследования, приведших к установлению изучаемых ими в систематическом курсе положений, но для самостоятельного исследования ими действительности. Особенно далеко идет в этом направлении П. Б л о н с к и й, совершенно не различающий между систематическим курсом и эпизодическим и от ♦ремесленно-трудового» преподавания предметов на первой ступени сразу переводящий своих учащихся в отдельные «студии». В этих полукружках-полусеминариях учащиеся обмениваются под руководством учителя результатами своих самостоятельных исследований, так что работа в них восполняет получаемое ими «на фабриках и заводах» «индустриально-трудовое» образование6. Даже В и н е к е н, несмотря на всю свою вражду к эстетизирующему дилетантизму, впадает в ту же ошибку, определяя задачу школьного курса как «усвоение одних только результатов знания» для получения «общей связной научной картины мира»7. Преподнесение ученикам одних только общих результатов чужих исследований, не дополняемое самостоятельной работою в одном-двух избранных ими предметах, вряд ли воспитает ту точность и добросовестность в работе, которые необходимы для всякого «рыцаря знания». Систематический курс постольку должен оставаться систематическим, поскольку основными требованиями, предъявляемыми в нем к самостоятельному мышлению ученика, должны быть: уменье точно передавать чужую мысль, добросовестно наблюдать с помощью уже установленных другими приемов, последовательно и детально развивать и применять однажды принятые положения. Только воспитание строгой точности в мышлении, соединенное с чутьем научной проблематики, может предохранить от дилетантизма, которого чрезмерная, вначале до суеверия доходящая вера в науку слишком легко и быстро вырождается в полное в ней разочарование. Сам дилетант слишком склонен искать причину этого разочарования, или «мизологии», по прекрасному образу Платона, в самой науке, тогда как на деле она коренится в его эгоистическом к ней отношении.
Мы менее всего склонны отрицать пользу самостоятельных работ учащихся на этой второй ступени обучения. Мы точно так же решительно против превращения этих самостоятельных работ в кропотливое исследование специальных научных вопросов, которому место только в университетском курсе. Учащийся на второй ступени обучения интересуется по преимуществу общими вопросами системы. Стремление обнять целое действительности одной теорией, которая разъяснила бы ему загадку мироздания, характеризует юношеский ум с его верой в разум и в гармоничное единство вселенной. Систематический курс должен считаться с этим оптимистическим рационализмом юности, и постольку Винекен, подчеркивающий необходимость ограничиваться общими результатами научного исследования, совершенно прав. Но именно потому, что самостоятельные работы учащихся не могут заключаться в самостоятельном научном исследовании действительности, а только в самостоятельном изложении, развитии и защите чужих теорий, особенно важно требовать от учеников точности в изложении чужой мысли, воспитывать в них уменье различать ее оттенки, отличать в ней доказанное от недоказанного, избегать преувеличений. В этом отношении большое значение могут иметь научные прения учеников, происходящие под руководством учителя в научных кружках и по темам своим примыкающие к проходимому в школе систематическому курсу.
3
Система по самому существу своему означает расчлененность и разделение. Поэтому систематический курс, в отличие от эпизодического, распадается на отдельные учебные предметы, разделенные между собою не только невозможностью преподавания их одним учителем, но представляющие собою относительно замкнутые в себе системы. Однако это разделение не должно вырождаться в чрезмерную специализацию: систематический курс должен прежде всего иметь в виду изложение целого науки, и потому раздробление одного научного предмета между несколькими специалистами (например, математики на алгебру и тригонометрию, естествознания на ботанику и физику, истории на всеобщую и русскую) представляется нежелательным. С другой стороны, разделение преподавания между несколькими преподавателями не должно приводить также к утрате взаимного общения между отдельными предметами, и притом не только между особенно близко стоящими друг к другу, как, например, физика и математика, история и литература, но и математика и естествознание, древний язык и история. В этом отношении согласование программ отдельных предметов между собою, на котором настаивает современная методическая литература, настоятельно необходимо. Это уже не та концентрация преподавания вокруг «родного» и «близкого», которая характерна была для эпизодического преподавания, но установление чисто научной зависимости между отдельными системами знания. Примером такой зависимости могут служить хотя бы выяснение причин шестиугольной формы пчелиных сот в биологии и использование чтения латинского автора для исторического комментария.
Если концентрация преподавания в эпизодическом курсе достигалась нерасчлененностью его на отдельные предметы и объединенностью принципом «родиноведения», то на ступени систематического курса она может быть достигнута, очевидно, только преобладанием какого-нибудь одного направления научного метода над другими. Но, так как ни один метод, как таковой, не имеет, сам по себе, преимущества перед другими, то, следовательно, выбор его должен определяться не его абсолютной ценностью, но относительной приспособленностью его к интересам и способностям учащихся. Так, начало разделения учебного плана на несколько путей, или принцип «фуркации», естественно вытекает из систематического курса. Эта «фуркация», поскольку она определяется интересами чисто научного образования, а не практическими соображения подготовки к будущей профессии учащегося, не должна, однако, опять-таки идти слишком далеко, предупреждая характерную для чисто научного курса свободу обучения. Подлинная свобода обучения возможна, как мы увидим ниже, лишь в атмосфере свободного исследования, предполагающего не только не доступную для школы по своей полноте организацию преподавания, но и предварительное прохождение систематического курса, без усвоения которого немыслимо сознательное сосредоточение интереса учащегося на той или иной специальной области знания. Поэтому крайняя фуркация на множество специальных отделений (математико-физическое, химическое, биологическое, географическое, техническое, историко-социологическое, историко-классическое и т. д.), которую предлагает, например, В и н е к е н, представляется нам примером того самого преждевременного превращения систематического курса в научный, к которому вообще склонна «свободная школьная община», стирающая грань между школой и университетом8. Научный метод должен только просвечивать в систематическом курсе, но он не должен совершенно взрывать систему, заменяя познание мира в его объясненной целостности исследованием отдельных его частей. Поэтому фуркация должна быть по возможности ограниченной. Границы эти естественно намечаются нашей теорией состава научного образования, из которой вытекают три равноправных пути учебного плана: естественнонаучный («реальный»), историко-филологический («гуманитарный») и философский. Ввиду того, что изучение философии, основная дисциплина которой — логика, будучи наукой о науке, предполагает основательное знакомство с наукой, может быть плодотворным лишь на основе широкого и всестороннего научного образования, философский цикл может быть потребует более продолжительного обучения. С другой стороны, преподавание философии, ввиду ее особенно отвлеченного характера, желательно проводить в тесной связи с ее практическими приложениями. Поэтому философский путь нам представляется преимущественно как путь педагогический. «Гуманитарная гимназия», «реальная гимназия» и «педагогическая гимназия» являются, таким образом, естественными типами научно-образовательной школы. Нужна ли еще особая «техническая гимназия»? — требование, на котором настаивает такой авторитет в педагогике, как К е р ш е н ш т е й н е р. Все науки (а не только философские) должны на наш взгляд изучаться в связи с их практическим приложением к жизни. В зависимости от известных условий и особенностей школы преподавание естественнонаучных предметов может быть с успехом дополнено специальным преподаванием какой-нибудь одной технической науки (технической химии, электротехники, агрономии), но особый технический путь научно-образовательной школы нам представляется излишним. Техника не есть особое направление научного метода. Тот, кто идет в высшую техническую школу, должен прежде всего овладеть методом естественнонаучного знания. Те же, кто ищут от школы непосредственной подготовки к жизни, должны овладеть не просто техникой, но получить ту или иную хозяйственную подготовку, что и достигается установлением в школе, наряду с тремя научно-образовательными путями, еще целого ряда профессионально-практических путей, определяемых уже требованиями не научного, а хозяйственного образования. Но и тогда мы будем иметь не «техническую гимназию», а сельскохозяйственную школу, ремесленные школы разнообразного типа, индустриальную школу, коммерческую школу, как это и имеет место в рассмотренных нами выше американской и швейцаркой школьных системах.
Если мы настаиваем на необходимости сохранения за школьным курсом его систематического характера, то отсюда не следует, что учебный план не должен считаться с особыми интересами учащихся к тому или иному учебному предмету, предоставляя им возможность более углубленных занятий в избранной ими области. Но эти занятия должны быть дополнением к систематическому курсу, а не определять собою самый учебный план, тем более, что этот индивидуальный интерес учащихся может быть направлен не только на ту или иную науку, но и на область искусства или на профессионально-практические предметы9.
Сколь ни вредно преждевременное превращение систематического курса в научный, большая опасность кроется в его совершенном от него отрыве. Этот отрыв может быть предотвращен только тем, что учитель учит науке, а не книге, а это уже предполагает его надлежащую научную подготовку. Раз научный курс должен просвечивать в систематическом, то, сокрытый от ученика, метод научного исследования должен быть, очевидно, знаком учителю. Учитель, университетское образование которого сводится к прочтению им нескольких учебников, благополучно сданных на экзамене, не сможет, конечно, надлежащим образом пронизать свое преподавание научным методом. Отсюда необходимость не только широкого университетского образования у преподавателя второй ступени, но и поддержание им постоянной связи с университетом и с наукой путем чтения им текущей научной литературы по своей специальности, участия в научных обществах и периодического возвращения в качестве слушателя в университет. Только тогда преподавание систематического курса не выродится в догматическую приверженность к учебнику, тем более опасную, что на ступени систематического курса учебник по необходимости играет большую роль, чем на первой и на последней ступени обучения. Если эпизодический учебник есть, в сущности, не что иное, как конкретно написанная методика преподавания, т. е. повествование опытного преподавателя о постановке им своего преподавания, то систематический учебник, напротив, имеет своей задачей — в яркой, выпуклой и возможно краткой форме изложить систему соответствующей дисциплины. Его роль лишь кристаллизовать перерабатываемый учениками материал, придавать ему точные и законченные формы, объединять и связывать в единое целое преподавание, которое именно потому должно прорывать отстоявшуюся кристаллическую поверхность изложенной в нем системы. Таким образом и для ступени систематического курса сохраняет свое значение все то, что выше было нами сказано вообще о роли учителя. Учебник не должен заменять собою учителя. Напротив, своим незаменимым руководством мышлением класса учитель должен сделать изучение учебника внутреннею потребностью учащихся. Тогда и учебник, особенно если он составлен мастером своей науки, приобретет для учащихся значение незаменимого руководства. Выбирая темы лабораторных работ, следя за точностью изложения учениками чужой мысли, за чистотой разработки ими ее деталей, руководя научными прениями класса и чтением учениками популярной научной литературы, учитель прежде всего должен мыслить в классе, быть в нем живым носителем научного мышления, передаваемого, как мы знаем, только через медиум устного предания. Поэтому подлинная наглядность преподавания и на этой ступени заключается не во внешней интересности изложения, достигаемой его изобразительной иллюстративностью, но в искусстве преподавателя вызвать к жизни самостоятельное мышление учащихся и поддерживать это мышление, обнаруживая позади кристалла научной системы сокрытую в ней и связанную ею проблематику метода научного исследования, эту систему порождающего и в ней просвечивающего.
4
Таким образом, ступени научного образования различаются между собою не количеством предлагаемой ученикам суммы сведений, а качеством проработки ими положенного в основу обучения материала. Нет ничего неправильнее той теории концентров, которая усматривает различие между отдельными ступенями обучения в объеме преподаваемого ученикам материала, ограничивающегося на первой ступени будто бы самими общими и простыми фактами и дополняемого на следующей новыми подробностями. С этой точки зрения и университетский курс должен был бы отличаться от школьного только обилием приводимых в нем подробностей, и так как чисто количественная градация не знает предела, то и ступеней обучения могло бы быть столько, сколько нашлось бы охотников писать все более и более толстые учебники. К счастью, такая дурная бесконечность не есть удел научного образования, бесконечность которого носит не количественный, а качественный характер. На известной ступени научного образования взору познающего действительно открывается безбрежное море истины, но эта безбрежность знания преодолевается компасом научного метода, пользуясь которым ученый не только ориентируется, но и подвигается вперед к определенной цели в бесконечном океане исследуемой им реальности. Поэтому и бесконечность знания должна открыться учащемуся лишь тогда, когда своей предыдущей работой мышления он достаточно подготовлен уже к тому, чтобы приступить к попытке самостоятельного исследования действительности. Показать, как должно руководить этими попытками начинающегося исследователя, составляет задачу теории университетского курса. Задача систематического курса выполнена достаточно, если учащийся созрел для этих попыток.
Если теория концентров страдает тем, что различия ступеней обучения выводятся ею из объема преподаваемого материала, то, напротив, односторонний формализм — судьба тех дидактических теорий, которые, отвлекаясь от особенностей материала преподавания, пытаются установить чисто формальные ступени обучения, пригодные для всех возрастов и пропускающие через себя любой долженствующий быть преподанным материал. Школа Гербарта особенно изощрялась в различении такого рода «формальных ступеней обучения». <…>
Неразличение психологии и логики знания составляет между тем основной порок уже гербартовской теории ступеней обучения. Фактический процесс мышления, изучаемый психологией, представляет собою слишком сложное и живое целое для того, чтобы его можно было уложить в прокрустово ложе четырех или пяти однообразно сменяющихся ступеней или даже в определенно чередующиеся акты индукции и дедукции10. В живом процессе познания «приложение», например, не следует непременно за «изложением», но часто предшествует ему как его «подготовление», как мы это видели в теории эпизодического курса. Поскольку речь идет о живом знании, подготовление, изложение, приложение представляют собою нераздельные стороны единого процесса, переплетающиеся между собой самым причудливым образом и не могущие быть расчлененными в последовательность сменяющих друг друга ступеней. Если мы, в свою очередь, различаем в процессе научного образования отдельные ступени, то мы исходим из логического анализа цели знания и его состава и устанавливаем те этапы, которые живое мышление человека в его нераздельной целостности Должно преодолеть, чтобы достичь желанной цели знания. Поэтому Мы и даем не рецептуру идеального урока, в однообразные формы которого учитель должен влить свое преподавание, но теорию различных курсов обучения. Каждый из них определяется в своем единстве особенностями тех заданий, которые стремящееся к знанию мышление человека должно последовательно разрешить, чтобы достичь последней цели знания, как она вытекает из его познаваемого логикой существа.
На примере Гербартовых ступеней обучения отличие нашей дидактики от формальной дидактики старого типа проявляется с особенной яркостью. Эта последняя полагала, что задача ее — установление наилучших приемов, с помощью которых любой материал может быть преподан учителем и усвоен учащимися. Она и рассматривала эти различные «методы обучения» («сократический», «катехизический», «акроаматический» и т. п.), выясняя сравнительные достоинства каждого из них. Она поэтому легко превращалась в рецептуру, в собрание правил, следование которым освобождает как бы учителя от обязанности самостоятельного творчества и, во всяком случае, научного мышления. Другие люди — именно ученые — где-то когда-то открыли уже научные истины, и задача учителя только передать другим эту уже готовую и данную «науку». Для этого и существуют особые приемы передачи знаний, которыми и занимается дидактика. Поэтому для учителя важно не столько знать свою науку, сколько знать ребенка, его психологию и экспериментально оправданные приемы обучения. Такой педагогический взгляд, разделяемый далеко не одной только экспериментальной педагогикой и школой Гербарта, соответствует старой логике, которая на знание смотрела лишь как на внешнее орудие овладения готовым материалом действительности и в различаемых ею основных методах знания (дедукция и индукция) видела только внешние приемы, с помощью которых познающий овладевает вне его лежащим бытием. Эти методы однообразно применяются в разных науках, направляются на любой материал с тем различием, что одни науки по преимуществу пользуются индуктивным, другие — дедуктивным методом, совершенно так же, как «формальные ступени обучения» способны пропускать сквозь себя любой материал всех учебных предметов. Мы знаем уже, что из формальной науки логика все более и более материализуется («трансцендента- лизируется»), проникает в самое тело науки и становится теорией знания, выясняющей его внутреннюю структуру. Даже старинное различение на индукцию и дедукцию все более обнаруживается как поверхностное, так что индукция и дедукция все более и более понимаются как неразрывные стороны единого процесса знания, позади которых логика раскрывает более глубокие различия, действительно разделяющие между собою отдельные направления знания11. Подобно тому и дидактика из чисто формальной науки о внешних приемах преподавания превращается в науку о логическом составе того материала, который преподается учителем и познается учеником. Ставя своей целью раскрытие логической структуры преподаваемого материала, она как бы въедается в самое тело учебного предмета, который она старается понять как организованное единым началом целое. Если логика превращается в общую теорию науки, так что методологии отдельных наук становятся ничем иным, как ее специальными ветвями, то дидактика подобным же образом превращается в общую методику, специальными ветвями которой являются методики отдельных учебных предметов.
Литература вопроса. 1. По общей теории систематического курса мы не знаем специальных работ, кроме указанных в предыдущей главе. Срв. также: Мюнстсрберг. Психология и учитель, гл. XXIII. — 2. Большая часть методической литературы посвящена разработке вопросов систематического курса, к сожалению только понимаемого в старом смысле этого слова.
Примечания
ГЛАВА XI
- Конечно, «система» исторических наук есть нечто совсем иное, чем философская система или система естественных наук. Но все же отрицать в исторических науках систему, как это делает, например, Р и к к е р т (Die Philos. des Lebens. 1920, стр. 48), нам представляется более, чем просто терминологической ошибкой.
- Срв. выше гл. 10, § 4. Грамотность в самом элементарном, хотя и широком смысле есть только п р е д п о с ы л к а даже первой ступени научного образования, а не его особая ступень. Поэтому, хотя во время эпизодического курса и достигается завершение грамотности, эпизодический курс есть все же первая ступень научного образования, распадающегося всего на три ступени.
- Срв. хотя бы, например, Ю н г. Как преподать математику, 1908.
- Срв. Р у м я н ц е в, цит. выше (гл. 10).
- Срв., например, замечания Ш е н и х е н а по поводу преподавания в школе теории дарвинизма: «это требование (подчеркивание гипотетического характера) особенное значение имеет для того случая, когда учитель входит в обсуждение п р и ч и н, действующих в процессе изменения органических существ. Ученики не должны здесь ни на мгновение оставаться в сомнении относительно того, что они находятся уже не на почве хорошо обоснованной научной теории, но вступили в область т у м а н н ы х и н е д о с т а т о ч н ы х г и п о т е з… Поэтому, если гипотезы эти вообще должны получить место в биологическом преподавания, то необходимо принять меры к тому, чтобы учащимся стало совершенно ясно следующее: п р и ч и н ы, о п р е д е л я ю щ и е х о д р а з в и т и я о р г а н и ч е с к о й ж и з н и, н е и з в е с т н ы».
- Срв. выше гл. 4, § 6.
- Ц. с., стр. 116 и л.
- Срв. выше гл. 5, § 2 и гл. 6, § 2.
- Во избежание недоразумений заметим, что мы совсем не предлагаем разделения учебного плана средней шкалы на три указанных пути. Теория Образования не занимается рецептурой, и между устанавливаемылш ею положениями и жизнью лежит еще значительное расстояние. Мы только говорим, что с т о ч к и з р е н и я н а у ч н о г о о б р а з о в а н и я самыми естественными являются три пути учебного плана систематического курса обучения. Но задача шкалы не исчерпывается научным образованием. Педагог-практик, приняв во внимание требования отдельных видов образования, должен попытаться гармонично сочетать их на деле.
- Срв. О единстве дедукции и индукции в мышлении ребенка — Психология и педагогика мышления.
- О единстве дедукции и индукции, являющихся сторонами единого процесса мышления, см. уже у З и г в а р т а. Логика, т. 2; срв. П у а н к а р е. Наука и гипотеза (гл. I), а из русской литературы: М. К а р и н с к и й. Классификация выводов, Н. Л о с с к и й. Обоснование интуитивизма.
Глава XII. СТУПЕНЬ НАУЧНОГО КУРСА, ИЛИ ТЕОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
1
До сих пор, на ступени систематического курса, метод научного исследования был только сокрытой пружиной и высшим оправданием преподавания. Систематический курс должен был только дать почувствовать позади системы порождающий ее метод и показать применение этого метода в пределах преподаваемой системы, но он не ставил себе целью передачу самого метода открытия истины, т. е. образование научных исследователей. Последнее есть уже задача высшей ступени научного образования, которая может быть названа научным курсом обучения. Если уже элементарное научное мышление и понимание чужой научной системы могут быть приобретены лишь путем «заразы», то овладение методом научного исследования — эта последняя цель научного образования — может быть достигнута только путем вовлечения учащегося в самостоятельную исследовательскую работу. Высшая научная школа должна быть поэтому прежде всего очагом научного исследования, ее преподаватель — активным исследователем, самостоятельным ученым, расширяющим своей научной работой область познанного, студент — участником исследовательской работы преподавателя и постольку начинающим ученым, место занятий — аудитория, лаборатория, семинарий - местом, где открываются новые научные истины, излагаются и проверяются результаты только что сделанных открытий. Высшая научная школа, или университет, есть поэтому нераздельное единство преподавания и исследования. Это есть преподавание через производимое на глазах учащихся исследование. Это есть исследование, которое ищет своего расширения и своего увековечения в школе последователей, могущих продолжить работу после того, как зачинатель ее сам уже выбудет из строя исследователей.
Университет, таким образом, не есть просто учебное заведение, хотя бы и высшего типа, но очаг научного исследования и только в меру развиваемой им научной деятельности также и высшая научная школа. Задача университетского преподавателя не в том, чтобы учить, а в том, чтобы работать в своей науке, которой он может учить лишь в меру своей исследовательской работы. Он не «преподает» свой предмет, а высказывает публично свои научные взгляды — потому он и называется профессором (от латинского profiteor). Учащийся не просто учится, но занимается наукой, он — studiosus Оба они, по прекрасному немецкому выражению, treiben Wissenschaft, т. е. двигают вперед науку. Учение и исследование здесь совпадают, и это равно касается как студентов, через учение приступающих в университете к самостоятельному исследованию, так и профессоров, через исследование продолжающих свое никогда не кончающееся учение. Студент тем лучше, чем больше он выказал самостоя ельности в научной работе, чем больше надежд подает он как будущий ученый. Профессор тем лучше, чем выше он как ученый, почему выбирается он соответственно своим научным заслугам. Большой ученый даже при минимуме имеющихся у него средств выражения всегда лучше как профессор, чем внешне превосходный лектор, но не работающий в своей области исследователь. Самое ораторское искусство профессора заключается не в легкости и отделанности стиля его речи, но в способности его мыслить во время речи, открывать на лекции новые доказательства и оттенки развиваемой им мысли. Поэтому внешняя шероховатость речи, поскольку она есть выражение борения мысли со словом, составляет часто подлинную прелесть научной речи. Это прекрасно видел еще Платон, в своем «Федре» противопоставивший диалектическую речь ищущего истину ученого вылощенной речи заботящегося только о словесной форме ритора1. Поэтому профессор, который слишком много сил и времени отдает преподаванию, — плохой профессор. Он тем лучший преподаватель, чем больше как во всей своей деятельности, так и в своей речи он направляет свои силы на исследование самого предмета, а не на способы удобопонятного изложения его учащимся. Конечно, некоторый минимум выразительных средств необходим для преподавателя научного курса. Но этот минимум необходим ведь и для ученого, самое исследование которого не ограничивается узрением истины, но включает в себя и работу над адекватным выражением увиденной истины, которую исследование должно именно удержать и закрепить в точной формуле. Чтобы быть преподавателем, ученый должен поэтому обладать еще энтузиазмом к своей науке, стремлением распространять свои научные взгляды. Но за редкими исключениями это стремление отличает всякого ученого, ибо интенсивная научная деятельность по существу своему социальна, заражает и завлекает, стремится создать школу. Это особенно следует сказать об ученых, находящихся на восходящей линии своего научного развития, еще не уставших и не удовлетворенных однажды достигнутыми результатами.
Может ли в таком случае существовать еще педагогика высшего научного преподавания? Не сводится ли она вся к правилу: неустанно познавай, научно твори и не теряй энтузиазма в деле распространения твоего научного убеждения? Не прав ли Ш е л л и н г, формулировавшей ее в следующем одном положении: «учись для того только, чтобы самому творить»? Действительно, «университетская дидактика», о которой в последнее время часто приходится слышать, означала бы не что иное, как предписание ученому правил его научного творчества, — задача, в виду индивидуального характера всякого творчества, по существу невозможная. Но не в таком ли положении находится и всякий учитель вообще? Ведь выше мы сами отвергли возможность для дидактики какой бы то пи было Рецептуры, следование которой разрешило бы проблему хорошего Урока. И все же между дидактикой научного курса и предшествующих ступеней преподавания имеется существенное различие. На ступени эпизодического и систематического курса преподавание представляло собою все же особую задачу, отличную от задачи простого познания учителем действительности. Соответственно этому и дидактика была приложением логики к психофизической действительности ученика, почему наряду с чисто логическими критериями она вбирала в себя и критерии психологические и утилитарные, определяемые особенностями ученика как объекта обучения. Поэтому преподаватель наряду с факультетским образованием, дающим ему знание преподаваемого им предмета, должен был иметь также педагогическое образование, дающее ему знание ученика, целей образования и той жизненной среды, в которой его преподавательская деятельность имеет протекать. На ступени эпизодического курса это было особенно ярко выражено. Но и ступень систематического курса выплачивала свою дань всем этим вне самого преподаваемого предмета лежащим требованиям преподавания. В научном курсе, где преподавание истины совпадает с ее исследованием, практическая логика (дидактика) сжимается как бы до минимума, совершенно вливается в чистую логику как учение о существе научного знания. Если на предшествующих ступенях научного образования из знания цели обучения, даваемого логикой как наукой о науке, вытекало знание средств, являющихся как бы мостом между природой ученика и целью преподавания (что и составляло специфическое содержание дидактики), то на ступени научного курса вся дидактика сводится к логике, к учению о науке как цели обучения. Поэтому, в отличие от учителя школы, педагогическое образование профессора исчерпывается его научным образованием2. Поэтому также методика преподавания научного курса не только обосновывается на методологии существующей науки, но прямо-таки совпадает с ней. Осознание преподавания есть здесь осознание самого исследования, т. е. логика. Сказанное лишит оттенка парадоксальности утверждение, что приспособление профессора к аудитории не только не улучшает преподавания научного курса, но вредит ему, отнимая у него характер научного исследования и тем самым низводя его до уровня систематического курса. В области научного образования повторяется, таким образом, то же самое, что мы наблюдали уже и в области образования нравственного. Как теория нравственного образования на ступени автономии с одной стороны вливалась в этику, а с другой переходила в политику3, точно так же и для дидактики научного курса, поскольку она не исчерпывается логикой, остается еще только чисто политический вопрос о тех формах организации научной работы — исследования и учения («des Wissenschafttreibens») —, при которых каждый ее участник — профессор и студент — наилучшим образом разрешит задачу науки — познание мира. Таким образом, дидактика научного курса сводится в сущности к университетской политике.
2
Основные принципы университетской организации непосредственно вытекают из установленного нами понятия университета. Единство исследования и преподавания означает прежде всего, что наука в университетском преподавании «рассматривается всегда как еще не совсем разрешенная проблема, как нечто, находящееся в процессе исследования, тогда как школа учит готовым и законченным познаниям»4. Университетское преподавание — в аудиториях ли, в семинарии или лаборатории — отзывается поэтому на все новые и даже спорные еще теории и открытия в науке. Всякое даже незначительное научное открытие стремится принять здесь словесную формулировку, т. е. быть передано другим5. И напротив, все отлившееся в кристаллическую форму системы, подвергается здесь вновь переплавке — ибо становится предметом критики и исследования. Университет можно уподобить резервуару, стремящемуся вобрать в себя все отдельные ручьи, из которых слагается поток научного предания, и в свою очередь изливающемуся в новых ручьях, продолжающих этот никогда не прекращающийся в своем течении и вечно бурлящий поток. Университет есть реализация самой науки в ее текучем, расплавленном состоянии.
Отсюда прежде всего следует первое основное свойство университета, о котором говорит уже самое его наименование. Пусть первоначально термин «университет» означал корпорацию, цех учащихся («схоларов», как в итальянских университетах) или учащих («докторов», как во французских и германских университетах). Существенно то, что уже со времени Эразма Роттердамского слово «университет» имеет в виду не совокупность учащихся и учащих (universitas scholarum et doctorum), а органическую целостность самой науки (universitas scientiarum). Только там, где представлены все науки, где полнота их обеспечивает возможность тесного их между собою взаимодействия и сотрудничества, преподавание может иметь действительно научный характер. Нет науки, которая в той или иной мере не была бы связана с другими, не нуждалась бы в других и не давала бы им оплодотворяющих толчков и указаний. Не нагромождая примеров, вспомним только, что электрический ток был открыт в результате физиологических опытов (Гальвани), что учение Мальтуса оказало громадное влияние на открытие Дарвином его теории естественного отбора, что языковедение не может сейчас работать без физиологии речи, что как хронология опирается на астрономические вычисления, так и решение многих астрономических вопросов требует специальных историко-филологических исследований и т. п. «Поддерживать это взаимоотношение всех исследователей и всех ветвей знания друг к Другу и к их общей цели в постоянном живом взаимодействии — вот великая задача университета»6. Только полнота науки уничтожает односторонность мышления, к которой по необходимости склонен всякий специалист, и обеспечивает широту кругозора и терпимость, являющиеся условиями живого научного творчества. В применении к университетскому преподаванию эту мысль особенно ярко высказал Шлейермахер. «Задача университета, — говорит он, — пробуждать в юношах идею науки, помогать им в овладении ею в той области знания, которой каждый из них хочет себя специально посвятить, так чтобы созерцание всего с точки зрения науки стало как бы их второй природой, т. е. чтобы каждый отдельный предмет они приучались рассматривать в его ближайших научных взаимоотношениях, постоянно имея в виду единство и целостность знания, так чтобы они постепенно выработали в себе способность самостоятельного исследования, открытия и формулирования истины»7. Полнотой представленного в университете знания и отличается университет от всех других высших школ. Но именно потому только он из всех высших школ дает подлинное научное образование. Нет ничего вреднее для постановки высшего научного образования в стране, как раздробление университета на самостоятельно существующие отдельные специальные учебные заведения. Отделите, например, медицину от целокупности научного знания, порвите те многообразные нити, которые связывают ее с физикою, химией, зоологией, политической экономией, статистикой и историей, психологией и педагогикой, и из науки, изучающей живого человека, она выродится в узкую технику врачевания, что приведет в конце концов к понижению даже уровня ее как техники8. Правда, полнота представленного в университете знания никогда не может быть абсолютной уже потому, что наука, будучи живым организмом и непрерывно дифференцируясь, порождает новые побеги, постепенно развивающиеся в обширные отрасли знания. Поэтому в разных университетах по необходимости одни отрасли знания всегда будут представлены сильнее, чем другие, иные будут совсем отсутствовать. Но абсолютная полнота, представляющая собою недостижимый идеал, и не необходима. Для единства исследования и преподавания существенно, чтобы в университете были по крайней мере представлены все основные ветви научного метода.
Так понятая полнота научного знания и составляет тот фундамент, на котором только и может утвердиться вытекающая из существа университета двуединая свобода преподавания и учения (Lehrund Lernfreineit)9. Если преподавание научного курса есть не что иное, как сообщение результатов своего научного исследования, выражение своего научного убеждения, то очевидно оно не должно быть ничем связано, кроме как требованиями, вытекающими из самого существа исследовательской работы. Никакие программы и никакие внешние предписания не могут предвидеть, куда именно приведет ученого внутренняя логика его научной работы. Поэтому также нет ничего гибельнее для духа университетского преподавания, как отличающий специальные школы обычай чтения профессорами из году в год одного и того же курса, ведения постоянно одних и тех же работ в лаборатории и семинарии. Университетское преподавание не есть сумма из году в год повторяющихся одинаковых занятий урочного типа, но совокупность самых разнообразных курсов и занятий, своим никакими программами не предвидимым многообразием, своей подвижной текучестью отражающих малейшие колебания научной мысли, отливы и приливы всегда меняющего свой уровень и свое русло потока научного творчества.
То же самое следует сказать и о свободе учения, неразрывно связанной со свободой преподавания. Уже последняя требует предоставления учащемуся права выбирать из массы ежегодно предлагаемых университетом курсов, те, которые, независимо от предписанности их учебными планами, отвечают его научному интересу. Наличие нескольких преподавателей одной и той же науки и свободный выбор учащимся учителя характеризуют дух университетского учения10. Из него необходимо вытекает также предоставление учащемуся возможности сосредоточиться на отвечающей его научному интересу группе наук и сочетать изучение ее с теми науками, к которым приводит его индивидуальный характер его научных занятий, а не предписанная извне программа преподавания. Чем определеннее и вместе энциклопедичнее учебный план, тем менее научный характер носит преподавание. Именно индивидуализация, одинаково не совпадающая ни со специализацией, ни с энциклопедичностью, и отличает университет от специальной школы. Означая свободу духовного передвижения, свобода обучения предполагает такую организацию университетского преподавания, которая позволяет свободу передвижеййя в буквальном смысле слова, ту «Frcizugigkeit», которая составляет завидное отличие германских университетов: это — свобода перехода с отделения на отделение," факультета на факультет, из университета в университет, столь часто вызываемая внутренним развитием научных занятий. Она состоит не столько в самом праве перехода, сколько в признании всего того, что на другом факультете или в другом университете уже сделано учащимся. Единство университетов, взаимное признание ими даваемых зачетов и степеней является предпосылкой свободы учения. Нужно ли еще говорить, что она требует низведения до минимума экзаменационного бремени, что она исключает систему конкурсных испытаний, дающих успех не самостоятельным исследователям, а тем, кто умет применяться к чужим требованиям, что центр тяжести она должна полагать на самостоятельную работу учащихся, на качество представляемых ими диссертаций, темы которых выбираются учащимися по добровольному соглашению со свободно ими избранным учителем и по которым только и можно судить о научной зрелости учащегося, выражающейся в его умении разработать отвечающую его научному интересу тему11.
Подобно всяким свободам, свобода преподавания и учения не должна вырождаться в произвол и вместо философского духа исследования культивировать поверхностный дилетантизм. В дальнейшем будет показано, что чем техничнее факультет, тем большим ограничениям по необходимости подвергается свобода обучения. Да и самому духу науки противоречило бы не требовать, например, от физика знания математики, от химика — физики, от историка древности — классической филологии. Но существенный принцип университета, отличающий его от специальной школы, состоит именно в том, что он проникнут духом свободы. Не свобода, а ограничения ее имеют за собой презумпцию зла, почему именно на них лежит onus probandi, т. е. только те ограничения допустимы, которые безусловно доказаны в своей необходимости. Судить об этом, т. е. следить за тем, чтобы свобода преподавания и обучения не вырождалась в произвол, устанавливать порядок в изучении отдельных наук и ограничительные требования в прохождении университетского курса, может быть только делом самого университета как автономного союза ученых, ибо только тогда ограничения свободы будут вытекать из потребностей самой пауки, т. е. будут поэтому не столько ограничениями свободы науки, сколько ее внутренними определениями. Самоуправление университета, или его автономия необходимо вытекает из существа университета как очага научного знания. Сюда входят не только право самоуправления в узком смысле (определение предметов преподавания, учебных планов, основания учебно-вспомогательных учреждений, избрание органов управления), но и право самопополнеиия (избрание профессоров и преподавателей, наделение учеными степенями). Способность самопополнеиия есть опять-таки отличительная черта университетов: тогда как в специальных учебных заведениях значительная часть преподавательского персонала (например, физики в медицинских школах, математики в технических учебных заведениях) получает свое образование в университетах, университет сам из среды своих собственных питомцев может и должен получать своих преподавателей. Он есть в буквальном смысле слова «самопродолжающийся союз», в себе самом носящий основу своего существования и своей способностью самопродолжения как бы символизирующий вечность потока воплощаемой в нем науки.
Указанными тремя принципами — полнота научного знания, свобода преподавания и учения и самоуправление — характеризуется идеальное существо университета как очага научного знания, обеспечивающего непрерывность научного творчества через организацию преподавания, и вместе с тем школы, дающей высшее научное образование через приобщение учащегося к исследовательской работе. Было бы, однако, глубоко неправильно думать, что в реальном университете, как он фактически существует в действительности, принципы эти осуществляются или даже могут быть осуществлены в своем чистом виде. Воплощаясь в университете в жизнь, наука сталкивается с другими силами культуры — государством, хозяйством, церковью, и в зависимости от удельного веса самой представленной в университетах науки идеальные принципы университета получают в нем то более, то менее полное свое выражение. Но даже и независимо от этого о р г а н и з а ц и я науки, как таковая, по необходимости порождает момент права, предполагающий наличие формулирующего право авторитета. Постольку полнота, свобода и самоуправление, которые в идее означают автономию самой науки, осуществляются в действительности в том своем толковании, которое придается им человеческим авторитетом. На примере философских школ древности, обладавших полною независимостью по отношению к государству и не знавших притязаний церкви, это сказывается с особенной наглядностью12. Авторитет, управлявший школой и определявший характер осуществляемой в ней свободы науки, был чисто научный авторитет. Но «глава школы» поставлялся все же не самой наукой, а людьми (путем преемственного назначения или посредством выборов), которые в первую очередь блюли интересы своего определенного понимания науки. Научная школа древности была поэтому не столько очагом научного знания как такового, сколько хранительницей определенного философского направления, и глава школы — блюстителем чистоты научного предания, этой философской школе свойственного. Если, таким образом, уже в школах древности, представлявших собою союз ученых и учащихся в своем наиболее чистом виде, идеальное существо университета подвергалось ограничению, то в тем большей степени это должно было сказаться в современных университетах, с самого основания своего находившихся в зависимости от церкви и государства. Идеальное существо университета есть поэтому не столько факт, сколько регулятивный принцип, тем более определяющий собою действительную организацию университетов, чем сильнее научный дух, их проникающий.
3
<…>
Анализ традиционного строения университета и скрытых в нем тенденций развития намечает, таким образом, следующее его строение: а) факультет естественно-математический, б) факультет историко-филологический, в) особый философский цикл преподавания, г) факультет медицинский, д) факультет общественных наук, е) педагогический институт. Как ни приближается такое строение университета к логической классификации наук, все же последняя реализуется в нем по необходимости в искаженном и ограниченном виде. Эти ограничения могут быть большими или меньшими. Но чтобы быть законными, они всегда должны быть оправданы в своей практической необходимости, и они никогда не должны идти так далеко, чтобы совершенно затушевать собой существо университета как «видимого воплощения» (Фихте) расчлененной согласно своему внутреннему закону целокупности знания.
То же самое можно сказать и о втором принципе идеального университета — свободе исследования и преподавания. Университетское преподавание заключается не столько в преподавании, сколько в исповедании ученым своих научных взглядов. Этой задаче в равной мере служат оба традиционно сложившихся типа университетских занятий — лекция, с одной стороны, и лабораторные и семинарские занятия — с другой. Существо лекции состоит в том, что она предлагает науку в ее расплавленном виде, в том ее особенно поучительном состоянии, когда исследование, только что законченное, еще ищет адекватного своего выражения в слове. Настоящая университетская лекция никогда не излагает просто результатов исследования; нет, она показывает, как ученый лектор пришел к этим результатам. Поэтому лекция неизбежно вводит в современное состояние излагаемого вопроса в науке. Поэтому она продолжает быть ценной и тогда, когда, опять-таки в отличие от книги, она по необходимости страдает неравномерностью частей, незаконченностью, даже фрагментарностью. Такая лекция не может быть заменена никакими книгами, и отменить ее — значит отменить самый университет. Поэтому все возражения против лекционной системы преподавания, указывающие на пассивность слушателей во время лекций, непосещение их студентами, ненужность их при наличии хороших учебников и т. п. свидетельствуют только об упадке научного духа в университете ведущем действительно к вырождению лекций в простое изложение некоторой «суммы сведений». Настоящей университетской лекции они однако даже не затрагивают, потому что смысл последней заключается в пробуждении именно активного отношения слушателей к науке, в возбуждении в слушателях стремления по-своему проработать использованный на лекции материал, дабы самостоятельно проверить те выводы, к которым пришел профессор. Будучи повествованием ученого о произведенном им исследовании, лекция должна не только воспроизвести его в главных его этапах но и привести тот материал, который слушатель должен сам проверить своим исследованием, и те или иные точки зрения, которые существуют по данному вопросу и которые слушатель должен сопоставить с развивавшимся на лекции взглядом, дабы он мог составить свой самостоятельный взгляд на предмет. Значение лекции, таким образом, не в том, что она заменяет чтение книги, но в том, что она побуждает к чтению и к самостоятельному исследованию прослушанного. Но в этом именно кроется недостаточность лекции как единственного способа преподавания. Чем выше профессор как ученый, чем сильнее и блестяще развиваемая им на лекции аргументация, тем большая опасность для учащегося быть подавленным им как исследователем, подпасть под его чрезмерное влияние. Значение семинарских занятии в том и состоит, что они противопоставляют критической способности учащегося менее сильную и искусную аргументацию. Нередко односторонности метода учителя становятся очевидными ученику через менее искусное применение его в работе своего товарища. Мы не говорим уже о том значении, которое имеют семинарские занятия, заставляя учащегося сосредоточиться на какой-нибудь специальной проблеме, подвергаемой им углубленному и самостоятельному исследованию, и позволяя ему видеть своего учителя и в роли критика, жестом мастера исправляющего контур мысли, проведенный неуверенной рукой ученика. Только плохие лекции и практические занятия противостоят друг другу13. Хорошие лекции и научно поставленные занятия дополняют и взаимно требуют друг друга. Задача и тех и других побудить учащихся к самостоятельному исследованию предмета, вовлечь их в исследовательскую работу научной мысли; если в лекциях профессор, развивая свой взгляд, вызывает ученика на критику, то в семинарских занятиях он в свою очередь выступает в роли критика произведенного учеником исследования. И подлинный профессор умеет ценить и чувствовать суд своей аудитории: нередко этому суду он обязан своими лучшими научными достижениями.
Уже из этой характеристики университетского научного преподавания видно, что свобода преподавания и учения является естественной стихией университета. Принудить к исповеданию своих научных взглядов так же невозможно, как невозможно с помощью принуждения вовлечь учащегося в поток научного творчества. Поэтому всякое ограничение свободы преподавания и учения приводит также к отступлению от существа университетского реподавания. Но вместе с тем такое ограничение является не только неоспоримым фактом университетской жизни, но и вытекает из неустранимых свойств университета, как реализованной в человеческом общежитии науки. Проблема университетской политики и здесь заключается в том, чтобы ограничения свободы, всякий раз оправданные в своей безусловной практической необходимости, не уничтожали самого существа университета.
Такие ограничения вытекают уже из самых потребностей преподавания. В самом деле, чисто научное преподавание, как мы его охарактеризовали выше, предполагает знание систематического курса соответствующих прилежащих наук. Так, научный курс физики предполагает знание систематического курса не только физики, но и многих отделов математики, научный курс древней истории — знание систематического курса истории и древних языков и т. д. Университет не может предполагать, что поступающие в него студенты имеют достаточную подготовку в смысле знания систематического курса всех тех наук, на которые опирается Уже чисто научное преподавание. Поэтому всякий университет организует наряду с чисто университетским преподаванием и преподавание систематического курса целого ряда наиболее основных предметов. Сюда относятся не только, например, такие вводные занятия, как «пропедевтические» курсы древних языков, но и «высшая математика» для биологов, техников и статистиков, «общая физика» для медиков и т. д. От систематических курсов школы такие курсы отличаются только своей большей приспособленностью к нуждам дальнейшего университетского преподавания и большей подробностью в некоторых своих отделах. Современная эволюция средней школы, которая, приобретая все более и более самодовлеющее значение, перестает быть просто подготовительной ступенью к университету, делает такой новый facultas artium прямой необходимостью университетского преподавания. Однако все подобные занятия систематического типа являются только вспомогательными и подготовительными. Это только подпорки, поддерживающие здание чисто научного преподавания, и если они поручаются не только преподавателям и лекторам, по иногда и профессорам, то лишь потому, что краткое систематическое и закругленное изложение обширного отдела науки, к тому же специально приспособленное к нуждам дальнейшего университетского преподавания, требует такого глубокого знания соответствующей науки, которое по плечу только заслуженному в ней мастеру.
Свобода учения предполагает пе только надлежащую научную подготовку учащихся, но и их практическую незаинтересованность. Такой незаинтересованности университет, однако, пе в праве предполагать. Государство и общество справедливо требуют в настоящее время для осуществления целого ряда так называемых интеллигентных профессий основательной научной подготовки. Будучи хранителем научного предания, университет обязан считаться с этими требованиями жизни и приобщить к методу научного исследования также и будущих практических деятелей. Но научная подготовка к практической деятельности кроме того предполагает также и приобретение целого ряда сведений. Она требует энциклопедического знания в области будущей практической работы, тогда как научное преподавание в подлинном смысле слова проникнуто духом индивидуализации: изучить научным образом в установленном выше смысле слова можно только ограниченное число наук. Так из потребностей профессионально-практического образования в свою очередь вытекает необходимость обрастания чисто научного преподавания в университете занятиями систематического характера. При этом чем более прикладной характер носит факультет, тем большим ограничениям подлежит свобода учения. Наиболее ограничиваемая на технических факультетах — медицинском и юридическом, она на некоторых отделениях факультета общественных наук может приближаться по своей полноте к свободе обучения обоих теоретических факультетов.
Внутри современного университета намечаются, таким образом, как бы три слоя преподавания: подготовительные занятия систематического характера, соединение систематических курсов с научными в целях профессиональной подготовки и чисто научное преподавание. <…> Резкое разделение внутри университета различенных нами трех слоев преподавания, закрепление их в резко отделенные друг от друга и последовательно проходимые ступени представляется опасным и нежелательным. Выделение научного курса, составляющего существо университета, в особую резко отграниченную ступень научно обескровит профессиональную подготовку массы учащихся и лишит чисто научное преподавание должного влияния в университете. Научный курс с присущей ему свободой обучения должен пронизывать собой весь университет в целом, а не быть только простым придатком к университетскому образованию, рассчитанным для немногих избранных. Поэтому германская система сосуществования взаимно переплетенных и могущих быть проходимыми одновременно программ преподавания (чисто научного и научно-профессионального) представляется нам все же наиболее соответствующей существу университета.
<…> Желательность особых институтов исследования, посвященных специальным научным проблемам, также не подлежит сомнению. Но такие «институты исследования», различные в разных университетах в зависимости от особенностей создавших их личностей и породивших их обстоятельств, должны органически вырастать из университета. Они не могут быть учреждаемы извне но определенному для всех университетов одинаковому плану. Они — естественные отпрыски университета, в котором наука бьет ключом и как бы переливается через край. Они хороши как резервуары для этого подымающегося выше обычного уровня потока, но именно потому они должны сохранять свою связь с университетом. Иначе, не питаемые более потоком университетской жизни, они иссякнут и захиреют. Обрастание университета «институтами исследования», в которых исследование приобретает перевес над преподаванием, есть естественное продолжение того развития, которое с конца XVIII столетия заставило университет обрасти библиотеками, лабораториями, музеями, кабинетами, семинариями и клиниками. Поэтому выделить «институты исследования» в какую-то особую ступень «сверхуниверситетского» образования означало бы рассечь и механически регламентировать то, что есть но самому существу своему непрерывный, живущий постепенностью своих переходов органический рост. Одна из самых плодотворных и привлекательных особенностей немецких университетов состоит в том, что в «privatissimis» выдающихся исследователей-профессоров принимают участие, наряду со студентами старших курсов, и самостоятельные ученые — профессора иностранных и иногородних университетов (часто преподаватели того же самого университета), и совсем молодые студенты, допущенные к занятиям ввиду своего исключительного научного к ним интереса. И именно из последних нередко рекрутируются наиболее ценные сотрудники и продолжатели научной работы профессора-исследователя. Будучи единством преподавания и исследования, университетские занятия по разному осуществляют равновесие обоих этих элементов. Университет и есть не что иное, как лестница постепенных переходов от занятий, в которых преобладает преподавание и которые только вводят в исследование, до занятий, в которых исследование почти всецело поглощает преподавание, сводящееся уже к простому сообщению другим результатов исследования. Выйти из университета в направлении науки нельзя. Он есть последняя ступень научного образования. И если университет выделяет из себя «институты исследования», то это выделение должно происходить не в виде расчленения живого тела университета, но в виде дифференциации все усложняющегося университетского организма.
5
Из существа университета, как очага научного знания, свободно исследующего и преподающего истину, естественного вытекают его самоуправление и самопополнение. И действительно, ничто не противоречит больше идее университета, как система бюрократического управления и опеки со стороны государства. Университет еще менее, чем только передающая, а не творящая науку школа, может управляться извне. Принужденное строиться согласно предписаниям постороннего науке авторитета, научное творчество перестает быть творчеством, ибо творчество по существу своему есть автономия, т. е. подчинение собственному закону. Вытекает ли бюрократическая система управления университетом из презрения к «идеологам», как у Наполеона, или узко-марксистского воззрения на науку, как на простой рефлекс экономических отношений, — все равно, в основе ее лежит взгляд на науку, как на простое орудие в руках преследующего благо населения государства. Наука отрицается здесь в своей самоценности и в своей внутренней самозакон ности.<…> Если союзу, преследующему интересы своих отдельных членов, свойственна система всеобщих выборов, а учреждению, являющемуся орудием вне его самого находящихся целей, — система назначения, то цеховое устройство с присущим ему аристократическим началом органического роста и самопополнения, по-видимому, больше всего соответствует идее университета, как союза, существующего ради того общего объективного дела, которому все его члены служат. Так думал, например, Фихте, считавший цеховое устройство наиболее отвечающим существу университета. Так было бы и на самом деле, если бы только незримая идея науки могла сполна получить свое воплощение в ограниченном человеческом союзе. Уже на примере философских школ древности мы видели, что отличавшая их неограниченная автономия имела своей обратной стороною их научно-сектантский характер. Еще более яркий пример вырождения университетов, замкнутых в аристократически-привилегированную цеховую организацию, представляют собою французские университеты со времени Реформации вплоть до Французской революции. Автономия науки здесь в полной мере выродилась в произвол ревниво блюдущего свои привилегии цеха.
И действительно, автономия науки менее всего должна вырождаться в «автономию профессоров». Самоуправление и самопополнение университета имеют цену не сами по себе, а как средства ограждения в нем свободы исследования и преподавания. Не та или иная наука в ее ограниченной и в своей изолированности стремящейся к омертвению форме, но наука вообще составляет подлинный предмет университетской автономии. Поэтому осуществляемое в форме самопополнения начало преемственности должно иметь своим основанием широкую базу живого потока научного творчества, для чего необходимо взаимодействие и обмен учащими и учащимися между различными университетами. Не терпя над собою никакого начальства, будучи последней ступенью в иерархии научного образования, университет живет, однако, в меру своего общения с другими университетами. Как свобода отдельного лица предполагает множественность свободных лиц, так и внутренняя свобода научной корпорации возможна лишь в общении отдельных очагов научного знания. Проникая собою все университеты, поток научной мысли должен объединять их в некую единую систему с единым кровообращением. Не предполагает ли единство системы наличия единого центра власти? И если этот центр власти должен быть чисто научным, то не правильнее ли всего возложить функции управления университетами на Академию Наук? <… >
Но именно потому, что авторитет в науке направляется на условную форму выражения истины, а не самое ее содержание, академия не может и не должна брать на себя функции управления университетами. Подчинение университетов академии наук обозначало бы не только обременение наиболее выдающихся представителей науки, собранных в академии, тягостным и научно непроизводительным трудом управления, но ввело бы в университетскую жизнь губительный для науки дух централизации. Как бы ни была компетентна и либеральна академия наук, она не сможет быть вполне беспристрастной и, осуществляя надзор за университетами, всегда будет отдавать предпочтение определенному научному направлению. Между тем, наука живет разнообразием своих течений. Система децентрализации и автономии университетов охраняет научную жизнь от подстерегающего ее догматизма: не получившее признания в одном месте научное течение всегда сможет при ней найти себе приют в другом университете. Добросовестно желая назначать всюду лучших ученых, академия невольно будет содействовать нивелированию научной деятельности. Право университета пополнять себя самого вытекает из самого существа его как очага научного исследования, ибо наука не знает абсолютной готовой истины, а только ее неослабное, разными путями идущее искание. Поэтому университет и не терпит над собою никакой, даже самой благожелательной, власти, он есть последняя ступень в иерархии научного образования. Конечно, есть худшие и лучшие университеты, как есть худшие и лучшие ученые. Но наделить лучших нравами власти и управления над худшими, — это значило бы утвердить господство не «научной компетентности», а враждебного науке догматизма.
«Федерализм» Кондорсе, заключавшийся в противопоставлении «нейтральной власти самой науки» политической власти государства, должен быть углублен еще далее в направлении истинного федерализма, включающего в себя момент децентрализации. Аристократическое начало самопополнения, присущее самому университету как очагу научного знания должно быть уравновешено началом назначения, также как и демократическим началом выборов органа власти. Будет ли это происходить в виде утверждения университетских выборов центральною властью или путем назначения ею профессоров из числа представляемых ей университетами кандидатов, будет ли орган центрального управления университетами избираться съездом высших учебных заведений или последние будут только посылать в пего своих делегатов, — это все подробности, зависящие от исторической обстановки и политических условий. Существенно то, что в основе организации университетского управления должен лежать принцип самоуправления и самопополнения, ограниченный другими началами постольку, поскольку это необходимо для предупреждения вырождения университетской автономии в произвол блюдущего интересы определенного научного направления или свои личные интересы цеха ученых. Принцип автономии отдельного университета как самостоятельной коллективной личности, представляющей собою особую духовную индивидуальность, должен сочетаться при этом с началом единства всех университетов.
Из сказанного уже явствует, что свобода исследования и преподавания, составляющая подлинное содержание автономии университета, не укладывается в рамки обычного либерального понимания свободы, как независимости от государственной власти. Университет не есть «частное учреждение», правовая сущность которого может быть конструирована в терминах частноправовой ассоциации. В средние века публично-правовой характер университета не подвергался сомнению. Университет был корпорацией, наделенной всеми правами публично-правовых союзов, в частности, даже правом суда над своими членами. Монополия учреждения его принадлежала Церкви в лице Папы. Только учредительная булла Папы возводила учебное заведение в ранг «studium generale», отличительной чертой которого было право наделения учеными степенями, взаимно признававшимися всеми университетами. После Реформации право учреждения университетов перешло к государственной власти, которая, за исключением Англии, поставила университеты под свой исключительный контроль и превратила их в содержимые на государственный счет учреждения. Впрочем, и в Англии специфическое отличие университета, а именно право наделения учеными степенями, продолжало быть привилегией, предоставляемой, однако, уже не папской буллой, а государством. Только в XIX веке доктрина либерализма, включавшая в свою программу и свободу обучения, выдвинула вопрос о «свободе высшего образования», как нраве частных лиц и организаций учреждать университеты независимо от признания их таковым государственной властью. Если исходить исключительно из принципа свободы слова и союзов, то свобода учреждения высшего учебного заведения не подлежит, по-видимому, никакому сомнению. Государственная монополия учреждения университетов представляется с этой точки зрения пережитком абсолютизма. Действительно, свободное учреждение школ и учебных заведений, на которые не распространяется принцип обязательности обучения, должно быть признано неотъемлемым правом лица, вытекающим из самого понятия свободы. Так ли, однако, обстоит дело с университетами в установленном нами смысле слова? Вопрос этот получил свое яркое освещение в конце 60-х годов прошлого столетия во Франции по поводу домогательств католической церкви, стремившейся к учреждению собственных университетов и ссылавшейся при этом на либеральный принцип свободы образования. Приглашенный тогда сенатской комиссией дать свое заключение по этому вопросу, Р е н а н решительно высказался против частных университетов, этих, по его словам, «болотистых местечек для человеческого духа». Он им противопоставил «широкий простор германских университетов, открытых всем идеям, представляющих собою обширные арены умственной деятельности, где свобода нейтрализует заблуждение и охраняет истину». «Свобода высшего преподавания заключается, по мнению Ренана, не в праве каждого гражданина открывать школу высших занятий, но в нраве каждой хорошо подготовленной головы принять участие в публичном преподавании». Действительно, высшее научное образование требует организации публично-правого характера. Свобода высшего преподавания заключается не в праве каждого открывать школы, в которых нарушалась бы свобода исследования и учения, а в такой организации университета, которая обеспечивала бы внутри него указанные свободы, возможность постоянного и непрерывного его обмена с другими университетами, способность противодействия всем покушениям на свободу науки, откуда бы они ни исходили, при одновременной возможности, однако, максимального использования университета всеми теми, кто в нем как в очаге и хранителе научного знания нуждается. Свобода высшего образования состоит поэтому не в том, что наряду с государственными университетами будут еще университеты католические, православные, монистические, антропософские, социалистические, а в том, чтобы университет, кем бы он ни был основан и содержим, оставался прежде всего научным. Только наука должна определять его в его внутреннем бытии, а не посторонние науке интересы государства, вероисповедания, секты и партии.
Именно потому отношение университета к государству носит по необходимости двойственный характер. Поскольку государство есть союз, имеющий свои особые (хозяйственные, политические и другие) задачи и цели, и отличающийся от других союзов только превосходящею всех их мощью, университет, даже если он учреждается и содержится государством, должен быть от него независим. Поскольку государство, напротив, есть в настоящее время высший орган правового авторитета, поскольку его признание необходимо ныне для того, чтобы союз получил публично-правовое бытие, постольку университет есть «государственное учреждение». Это и значит, что университет есть автономная личность, пользующаяся правами публично-правового союза. Публично-правовой характер его выражается не только в принадлежащем ему нраве наделения учеными степенями, но и в праве каждого лица по отношению к университету: а именно, в праве учиться в нем и учить в меру своей научной подготовки, независимо от своей социальной, политической, религиозной и сектантской принадлежности.
Эволюция американских университетов, бывших еще в середине прошлого столетия частными учебными заведениями, подтверждает публичный (и в этом смысле «государственный») характер университета. Чрезвычайное размножение в Соединенных Штатах учебных заведений, присвоивших себе наименование университетов и выдававших ученых степени, заставило в 1900 году группу главных университетов, но своей организации действительно соответствовавших идее университета, объединиться в «Ассоциацию американских университетов». Одним из главных пунктов этой ассоциации является взаимное признание всеми входящими в нее университетами выдаваемых ими ученых степеней и распространение на них свободы передвижения (Freizugigkeit). Пусть эта ассоциация носит «частный», а не «государственный» характер. Существенно то, что учреждение университета ассоциация эта делает зависимым от удовлетворения определенных требований научного характера, что однажды учрежденный университет наделяется особыми правами и вступает в союз пользующихся теми же правами корпораций, и что этому самопроизвольно, самою жизнью порождаемому нраву подчиняются и «государственные» университеты, домогающиеся своего вступления в «Ассоциацию». Так сближаются между собою обе системы межуниверситетской организации: система «частной ассоциации», все более приобретающей значение публично-правового авторитета, и система государственной монополии и контроля, все более и более опирающаяся на общественное мнение самих университетов. В этом их естественном сближении обнаруживается логика самого принципа университета и вытекающей из него идеи университетской автономии, которая, равно отличаясь как от свободы действия отдельных лиц так и от свободы действия государства в деле высшего научного образования, стремится стать автономией самой организованной в университете науки.
Противоположность «частного» и «государственного» неспособна, таким образом, охватить существа университета как организованной в человеческом обществе науки. Даже содержимый всецело на государственные средства университет должен осуществлять в себе начала, вытекающие из существа университета как очага научного знания. Этим началам государство обязано так же подчиняться, как всякое другое лицо, основывающее и содержащее университет. Более того: как орган права, государство должно блюсти свободу науки в университете, этот «реальный интерес» науки, все более и более приобретающий самостоятельное значение14. В лице университетов наука вступает в правовое общение, как особый реальный интерес внутри культурного общества, требующий для себя такого же признания и такой же охраны со стороны права, как и интересы и свобода отдельных «частных лиц». Как ни относиться к идеалу «корпоративного социализма», несомненно, что нормальное отношение университета к государственной власти точнее всего схватывается именно в терминах его намечающейся правовой теории. Наука, воплощенная в автономных, но и образующих единое целое университетах, вырисовывается здесь как самостоятельная корпорация, которая вступает как бы в договорные отношения с другими корпорациями, представляющими иные реальные интересы культуры, так что государству остается только блюсти заключенные между последними договоры, охраняя права этих воплощенных в корпорациях реальных интересов. Пусть все это музыка далекого будущего. Но ее можно расслышать уже сейчас в тяготении университета к децентрализации, в стремлении его сочетать в своем управлении аристократический принцип самопополнения с началами назначения и выборности и в превращении как государственных так и частных университетов в своеобразные союзы, имеющие публично-правовой характер. В этих тенденциях современного развития университета все более и более осуществляется его последнее назначение как высшего хранителя научного предания, «передающего последующему поколению для преумножения научное достояние современности», в силу чего Фихте и мог назвать университет «видимым изображением бессмертия человеческого рода».
Литература вопроса. 1. О б щ и е п р и н ц и п ы и с у щ е с т в о у н и в е р с и т е т a: S c h e l l i n g, Vorles uber die Methode des akademischen Siudiums. 1803. — J. G. F i с h t e, Deduzierier Plan einer zu Berlin zu errichtenden hoheren Lehranstali. 1807. — Fr. S c h l e i e r m a c h e r. Gelegentliche Gedanken uber Universitalen im deutschen Sinne.1807 — H. S t e f f e n s. Ueber die Idee der Universitalen. 1809. — (Последние три сочинения изданы вместе в 120 томе «Philoslphische Bibliothek» под ред. E. S р г а n g е г' а под общим заглавием «Ueber das Wesen der Univcrsilal». 2 Aufl. 1919). — W. Humboldt, Ueber die innere und aussere Organisation der hoheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. 1810 ). — Р у с с к а я л и т е р а т у р а: H. П и р о г о в. Университетский вопрос (собр. соч.); J1. И. П е т р а ж и ц к и й. Университет и наука, т. 2 1906.
<…>
Примечания
ГЛАВА XII
- Phadr., начиная с 260 Е до конца. В «Федре» Платон вообще излагает свой идеал высшего научного преподавания, почему некоторые исследователи Платона (еще Шлейермахер, в наст, время — N a t о r p. Plalos Ideenl. 2 изд., §§ 59 — 62 и стр. 484 сл.) и приурочивают написание «Федра» к открытию Платоном Академии, видя в нем как бы программное сочинение на тему о существе высшей научной школы.
- Возражая против одно время имевшего своих защитников требования учреждения специальной) педагогического учебного заведения для подготовки профессоров (аналогично педагогическим учебным заведениям для подготовки преподавателей средней школы), П а у л ь с е н (ц. соч., нем, изд. 1902 г., стр. 279 — 286) остроумно замечает, что это требование, если его последовательно развить до конца, уничтожает себя самого. В самом деле, учителя средних школ получают свою подготовку в высшей школе. Профессора высшей школы в высшей школе для профессоров высшей школы. Ну, а профессора этой последней? Очевидно, в этом направлении можно идти без конца, или, напротив, где-нибудь придется остановиться. К счастью, остановка эта дается самым существом университета, основным свойством которого является единство преподавания и исследования, почему обучение исследованию и есть, тем самым, обучение преподаванию.
- Срв. выше, глава 7. § 1.
- Н и m b о l d t, ц. соч., стр. 205 (изд. Phil. Bibl.).
- Срв. S c h l e l e r m a c h e r, ц. соч., стр. 110 (Phil. Bibl., Bd. 120), где мы читаем: «первый закон всякого направленного на познание стремления, это — сообщение (Mitlheilung); и в невозможности хотя бы только Для самого себя породить что-нибудь научно без языка, сама природа дала этому закону совершенно явное выражение».
- Срв. поучительную речь Гельмгольца «Ueber das Verhaltnis der Naiurwissenschaften zur Gesamtheit der Wissenschafi». Popul. wissensch. Vortrage, Heft I, 1865. стр. 25 сл., 29.
- Ц. соч., стр. 118.
- Срв. М и н о р, ц. ст. — Как известно, Наполеон на месте разрушенных Революцией университетов создал во Франции систему изолированных высших специальных учебных заведений. К концу Второй Империи и началу Третьей Республики французские высшие школы сами с поразительным единодушием начинают требовать своего соединения в факультеты единых университетов. Именно с этого соединения, окончательно произведенного в 1896 году, и началось еще и поныне не законченное преобразование высших научных школ во Франции в направлении объединения в них преподавания и исследования. Срв. L о t, ц. соч., и L i а r d, Universiles et facultes.
- Об академической свободе срв. специально замечательную речь Гельмгольца — «Ueber akademische Freiheit» В. Rectoratsrede, 1877.
- В этом оправдание института не связанной постоянными штатами приватдоцентуры, отсутствие которого составляет, по мнению L о t'a, существенный недостаток французских университетов. Ц. соч., стр. 44 сл.
- Срв. L o t: определенные программы преподавания «сводят роль факультетов к роли школ, готовящих к экзаменам», стр. 26; система конкурсов противоречит духу науки (там же мнения Олара и др.) стр. 31; преимущества германской системы свободы обучения, стр. 48 и 60; свободы передвижения в университете, стр. 123.
- О них срв. прекрасный очерк U s е n е r'a «Die Organisation der wissensch. Arbeit im Allertum» в цит. выше (гл. 9) «Reden und Aufsatze».
- Поэтому весь спор о преимуществах той или иной системы преподавания, представляется нам бессодержательным и свидетельствующим только о падении научного духа в университете. Последняя вспышка этого спора в России относится к 1905 — 1906 г. г. Срв. Петражицкий, ц. с., где дана блестящая защита лекций. К сожалению, увлеченный своей психологической теорией науки, П. обрушивается на практические занятия. Справедливо высмеивая различные проекты практических занятий не научного характера, он недооценивает значения семинарских занятий. Если бы, как полагает П., «зараза научным мышлением» состояла в пассивном повторении учащимся мыслительных процессов учителя, то действительно можно было бы согласиться с ним, что лекции, показывая учащемуся совершенную ♦мыслительную работу» владеющего методом науки ученого, превосходят по своей образовательной ценности семинарские занятия, в которых учащийся, следя за сплошь и рядом ошибочной работой своего товарища, повторяет его несовершенные ♦мыслительные процессы». Но усвоение метода не есть повторение мыслительных процессов владеющего методом человека. Каждый владеет одним и тем же методом по своему. И не в п о в т о р е н и и мыслительных п р о ц е с с о в профессора состоит польза прослушанной лекции, а в выработке в себе к р и т и ч е с к о г о о т н о ш е н и я к его мыслительным приемам.
- Монополизация в настоящее время права государством и вытекающее отсюда понимание особенно публичного права, как права, установленного государством, затрудняет конструкцию университета как публичного и все же не непременно государственного учреждения. С другой стороны, само государство все больше проникается началами права и начинает понимать монополизированное им правотворчество не как навязывание своей, принципом блага руководимой, воли, но как открытие и формулирование права, порождаемого в процессе борьбы различных общественных сил между собою. С этой последней точки зрения, независимость университета от государства не противоречит его «государственному» характеру, как публичного учреждения.
ЧАСТЬ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До сил пор мы исследовали образовательный процесс в его отдельных видах. Эти виды, на которые распалось для нас понятие образования, были даны нам строением самой культуры, приобщение к которой и составляет задачу образования. Не свидетельствует ли, однако такое изолированное исследование отдельных сторон образовательного процесса о некоторой ограниченности всего нашего подхода к проблеме образования? Установив порознь требования нравственного, правового и научного образования, не должна ли педагогика показать, как в жизни все эти отдельные требования сочетаются в целостное и гармоничное единство? Не утрачивается ли в противном случае позади отдельных видов образования само образование как единое и нераздельное целое? не прав ли Платон, говоривший, что предмет философии не отдельные добродетели, но одна и та же добродетель, определить которую в ее тождественной сущности и составляет задачу философского знания? Не должна ли и философская педагогика, вместо того, чтобы ограничиваться отдельными сторонами образования, обратиться к исследованию его тождественной в себе и неизменной сущности?
Несомненно, сущность образования не должна раствориться в отдельных его видах. Но, с другой стороны, несомненно также, что тождество есть лишь момент многообразия, не могущий быть познанным оторвапно от этого последнего, так же как и многообразие, в свою очередь, постигается знанием, лишь будучи пронизано тождеством. Педагогика в этом отношении разделяет судьбу философии, приложением которой она является. В своем стремлении познать целое культуры, философия неизбежно распадается на ряд дисциплин, исследующих порознь отдельные культурные ценности. Целое культуры, ее абсолютное начало не может быть познано философией отдельно, оторван но от многообразия тех ценностей, в которых оно проявляется. Оно может быть только интуитивно почувствовано в множественности культурных ценностей, которые в своей относительной ограниченности познаются, однако, всегда отдельными дисциплинами. Абсолютное открывается лишь в относительном, так же как и относительное познается только как момент пронизывающего его абсолютного. В этом и состоит «дискурсивность» знания, которое в своем стремлении постичь целое принуждено однако познавать лишь отдельные его части.
Если, таким образом, знание частей и включает в себя интуицию целого, то последняя есть лишь момент знания, продолжающего в силу своей «дискурсивности» пребывать в частях. Поэтому философская «основная наука», которая позади отдельных ценностей знания, добра и красоты познавала бы еще и тождественную их сущность, как их последнюю и абсолютную первооснову, так же невозможна, как невозможно познать и абсолютную первооснову, или целое природы. Такая метафизика культуры столь же рационализирует идею целого, как ее рационализировала до Канта натуралистическая метафизика. Конечно, все отдельные философские дисциплины в последнем счете представляют собою единое целое. Но, пронизывая собою множественость, от которой оно даже мысленно не может быть оторвано, это целое философии есть не особый предмет, исследование которого в его отдельности увенчивает собою более «частные» философские дисциплины, но единство метода, единство подхода всех философских дисциплин к своему предмету, осознаваемое в «логике философии». И мы надеемся, что сущность образования, не могущая быть познанной отдельно от его видов, открылась интуиции читателя в единстве того метода, который мы старались проводить в нашем исследовании отдельных видов образования и тождество которого свидетельствует о том, что распадающееся для педагогической науки на множество видов образование в последней свой сущности едино.
Но именно в последней своей сущности. Ибо, как целые культурные эпохи часто живут под знаком ожесточенной борьбы между собою отдельных культурных ценностей (науки и религии, религии и искусства, нравственности и «внешней культуры»), так и отдельные виды образования едины только в идее. В действительности они слишком часто вступают между собою в трудно разрешимые конфликты. С примерами конфликтов, возникающих между требованиями нравственного и научного образования, мы познакомились выше. Примеры эти умножились бы, если бы мы дошли до конца нашего исследования и дали намечаемую нами теорию художественного, хозяйственного и религиозного образования. Не входит ли, однако, в задачу педагогики указать пути и способы преодоления конфликтов, возникающих между отдельными сторонам образования? Не должна ли она исследовать образование не только в его продольных разрезах (нравственное, научное, художественное и т. д.), но рассмотреть его и в его как бы горизонтальных сечениях, дав для разных возрастов целостное описание образовательного процесса в живом единстве всех его продольных сторон. И да и нет. Нет, потому что по самому существу своему проблема эта может быть разрешена лишь на конкретном материале случившихся конфликтов. Теоретически строить возможные конфликты между отдельными сторонами образования и абстрактно разрешать их — значило бы впасть в бесплодную казуистику, аналогичную той, в которую впал Кант при разработке своей подробной теории нравственности. Конфликт возникает только в живой действительности и разрешается также не теоретическими рассуждениями, а свободным, творческим действием. Не потому ли и непознаваема тождественная сущность образования, что единство образования есть предмет не знания, а творческого усилия, предмет нашего педагогического действия? Культура едина и внутренне согласна, — в этом порукой нам та интуиция целого, которую мы переживаем, когда видим, как самые различные проблемы образования вскрываются тождественным методом в их родственной друг другу проблематике. Поэтому также мы можем быть уверены, что конфликты внутри культуры — неизбежные постольку, поскольку культура есть не мертвая схема, а живой расчлененный организм — не безнадежны, но поддаются разрешению с помощью творческих усилий.
Образование существенно едино, но эта тождественная сущность образования непознаваема. Это и значит, что она есть только идея, т. е. предмет нашего творческого действия. Она создается нами, а не познается как мертвая и готовая данность. Но если теоретическая педагогика вынуждена ограничиться исследованием отдельных продольных разрезов образования, то отсюда не следует, что о конфликтах внутри культуры и образования невозможно никакое повествование. Гармоничное и согласное в себе целое образования не есть предмет нашего знания. Да, но оно было предметом действия для многих выдающихся педагогов, и ознакомиться с тем, как на деле разрешалась ими эта задача сочетания отдельных требований образования во внутренне единое и согласное в себе целое, достаточно поучительно и интересно. В этом и состоит громадное значение повествовательной педагогической литературы, классический образец которой, «Яснополянская хроника», нам так хорошо известен, и задача которой заключается в изложении опыта педагогического творчества, истории возникших при осуществлении педагогических задач конфликтов и попыток их действительного разрешения. Т е о р и я образования, однако, должна быть довольна, если, с возможной точностью установив требования и задачи отдельных видов образования, она тем самым поможет педагогу-практику у в и д е т ь эти конфликты, так часто сокрытые под толщей педагогических двусмыслиц и предрассудков. Ибо, чтобы разрешать конфликт своим творческим действием, надо прежде всего осознать его во всей выдвигаемой им для действия проблематике.
В двух пунктах нам придется, однако, в заключение выйти за пределы продольного исследования отдельных сторон образования и пойти плоскостями как бы горизонтальных его сечений. Мы имеем в виду проблемы так называемого национального и физического образования, понятия которых обыкновенно употребляются вперемежку с понятиями образования нравственного, научного и художественного. Можно ли говорить о национальном и физическом образовании в том же самом смысле, как мы говорим о нравственном, научном, художественном и хозяйственном образовании? Разрешение этого и связанных с ним вопросов поможет нам точнее уяснить наше понятие образования и отграничить теорию образования от других смежных с нею дисциплин.
Глава XIII. ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
B проблеме национального образования причудливым образом сплетаются самые разнообразные течения педагогической и политической мысли. С одной стороны, национальное образование выдается как бы за монополию консервативных кругов. Так у нас в России оно парадоксальным образом насаждалось М. Катковым и Д. А. Толстым с помощью классической школы. С другой стороны, национальное образование выдвигается радикальными учительскими кругами, в своем требовании «национальной» школы (украинской, татарской и т. д.) совпадающими с политическими защитниками прав угнетенной национальности и обосновывающими свое требование началами свободы и права. С одной стороны, о «национальном образовании» говорят Робеспьер и Лепеллетье, идеологи единого и неделимого отечества, враги всякого федерализма; с другой стороны, о национальном образовании говорят защитники «провансальского» возрождения, т. е. представители федеративного принципа, стремящиеся к культивированию местных национальностей в пределах или даже вне большой, «государственной» нации. И если мы обратимся к идеологам национального> образования — хотя бы к Фихте в Германии и к Ушинскому в России, — то нас поразит, как теории их смогли стать исходным пунктом и оправданием столь различных политических и педагогических устремлений. Ибо на них в равной мере ссылаются как близкие к славянофильству круги национально-консервативной педагогики, так и демократически-радикальные защитники «инородческой» школы. — И нельзя сказать, чтобы те и другие были совершенно неправы со своей точки зрения. Нет, о «национальном образовании» по праву говорят для обозначения своих устремлений и Робеспьер, и провансальцы, и Д. А. Толстой, и защитники украинской школы. И если у нас этот термин употребляют по преимуществу эти последние, а во Франции, напротив, представители централистической и эгалитарной доктрины Французской революции, то в этом сказывается только «хитрость языка», далеко не всегда следующего логике в своем развитии. Не терминологической неясностью, а сложностью и многогранностью сокрытой здесь философской проблемы — именно проблемы нации — объясняется действительное соприкосновение между собой различных отмеченных нами течений и их, видимо, столь парадоксальное смешение. Наиболее известное у нас обоснование идеала национального образования принадлежит К. Д. Ушинскому. Мы и начнем с анализа этой несколько элементарной, но интересной попытки, тем более, что мысли, в ней выраженные, продолжают быть скрытым мотивом большинства относящихся сюда теорий.
Основным фактом, из которого исходит Ушинский, является наличие у всех великих народов своей национальной системы воспитания. В основе каждой из этих систем лежит свой особый принцип, определяющий образовательную систему в ее целом и сообщающий ей ее специфический характер. Так, принципом германской системы воспитания является наука. Германские университеты, являющиеся очагами научного знания, представляют собою средоточие всей германской образовательной системы. Принципом английского воспитания является выработка характера, свободное самоуправление, идеал гражданина. Этот идеал определяет собою среднюю школу Англии, так и английский колледж и университет, дающий не столько научное образование, сколько общее образование, необходимое будущему политическому деятелю свободного государства. Для Франции, напротив, характерно ее стремление к внешнему приложению научного знания. Техника является самым сильным местом французского народа. Отсюда — позитивизм и утилитаризм господствующей в ней философии. Отсюда профессиональный характер ее системы высшего образования и система конкурсов, обращающая внимание больше на внешний лоск, на стиль и блестящее разрешение поставленной задачи, чем на глубину мысли и содержания. Наконец, для американской системы образования (Соединенных Штатов) характерно безудержное стремление вперед, неустойчивость, заставляющая американцев всегда стремиться к новому, искать новых методов и форм образования. В ней отражается лихорадочная поспешность, с которой строит свою жизнь этот новый, не имеющий исторической традиции и свободный от предрассудков народ пионеров. Одним словом, каждый народ имеет свой особенный идеал человека, который он и осуществляет в своей национальной системе воспитания. «Основания воспитания и цель его, а следовательно и главное его направление различны у каждого народа и определяются народным характером, тогда как педагогические частности могут свободно переходить и часто переходят от одного народа к другому».
Установив факт различия образовательных систем отдельных народов, из которых каждая преследует свою особую цель, определяемую характером данного народа, Ушинский возводит затем этот факт в норму. Русские до сих пор не имеют еще своей особой системы воспитания. Они пока ограничивались подражанием другим системам. — Поэтому воспитание и не могло принести своих плодов, и русский народ остается и поныне необразованным. Надо отказаться от подражания чужим образцам и, прикоснувшись к народу, создать свою собственную национальную систему воспитания, отвечающую стремлениям и потребностям народной души. Ибо русский народ существует как народ, у него есть своя история, свои мечты и желания. «Всякая живая историческая личность есть самое высокое и прекрасное создание Божие на земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника». Наше воспитание, бывшее до сих пор отвлеченным подражанием иностранным образцам и потому беспомощным, должно стать народным, проникнуться идеалом народной души, прикосновение к которой придаст ему силу и мощь. В чем же состоит этот идеал русского народа? Каков тот принцип, который составляет отличительную особенность русской души и который, следовательно, должен стать целью нашего воспитания? Это, очевидно, не наука, не право, не техника, не лихорадочная жажда прогресса, составляющие особенность великих западно-европейских и американских народов. Замечательно, что, когда дело доходит до определения русского народного характера, Ушинский, которого уже в определении американской системы образования оставила точность и ясность изложения, становится еще более расплывчатым и неясным. Принцип русской народной души и нашего воспитания ему так и не удается закрепить в одном слове или даже в краткой формуле. Вот в каких выражениях он его описывает. «Глубокие задушевные принципы патриархального быта, чуждые, с одной стороны, строгости римского права, более или менее легшего в основу быта западных нардов, а с другой — меркантильной жесткости и расчетливости; преобладание то льющегося неприметным ручьем, то расстилающегося широкою рекой славянского чувства, порывистого, неровного, но имеющего достаточно силы, чтобы иногда одним натиском вынести человека из самой глубины нравственного омута на вершины человеческого достоинства; необыкновенная, изумляющая иностранцев восприимчивость ко всему чуждому, льется ли оно с востока или Запада, и вместе с тем стойкость в своей национальности, хотя часто бессознательная; наконец, древняя православная религия с ее всемирно-историческим значением, религия, превратившаяся в плоть и кровь народа: вот что должно проявиться в народности русского воспитания, если оно хочет сделаться действительным выражением народной жизни, а не насильственным, чуждым народности подражанием, не растением без корня, которое, беспрестанно увядая, беспрестанно должно искусственно подновляться и вновь пересаживаться с чужой почвы, пока наша вновь его не испортит»1.
Мы старались с возможной точностью передать ход мысли Ушинского, приведший его к установлению требования национального воспитания. Как видно, идеи славянофильской метафизики о самобытной душевной субстанции, составляющей характер народа, сплетаются здесь с демократическими требованиями конкретного и близкого народу воспитания. Практически последняя тенденция у Ушинского преобладала, свидетельством чего является известное «Родное Слово», в котором Ушинский показывает, какое громадное значение для общего образования могут иметь уроки родного языка, если на язык смотреть как на живой организм, в котором отражаются судьбы, думы и стремления народа и усвоение которого означает тем самым погружение в сокровищницу национальной культуры. Характерно однако, что при выборе отрывков для чтения Ушинский менее всего руководствовался славянофильским идеалом патриархальной древней Руси, но старался собрать в своем «Родном Слове» наилучшие образцы русской литературы послепетровского периода, доступные пониманию народа. Идти в народ для того, чтобы поднять его до уровня образованного слоя общества, являющегося в настоящее время единственным носителем и владельцем богатств национальной культуры, — это чисто народническая мысль определяла собою всю практическую педагогическую деятельность Ушинского.
Уже из этого видно, что обоснование Ушинским своего взгляда при помощи понятия народного духа, как некоей готовой и законченной в себе субстанции, мало соответствовало его собственным практическим устремлениям. Национальное образование есть не столько проявление фактически уже существующей в виде готовой данности народной души, сколько приобщение парода к культурному преданию, накопленному в его среде творческими усилиями его сынов. Народнически настроенный Ушинский готов даже признать — лучших его сынов, т. е. образованного слоя, до уровня которого и надлежит поднять широкие народные массы2. Нация, таким образом, есть не готовая субстанция, неизменное существо которой может быть выражено каким-нибудь одним «принципом». Нация никогда не закончена, но всегда творится. Жизнь нации есть не простое выявления какого-то готового начала, но непрерывное развитие, сопровождающееся расширением разрешаемых нацией задач, поставлепием ей себе все новых и новых целей деятельности. Поэтому так поверхностны и неопределенны все попытки определения той народной души, выявлением которой будто бы являются отдельные нации. Характеристика Ушинским отдельных народных душ ничуть не лучше в этом отношении аналогичных попыток «исторической школы» и находившихся под влиянием последней наших славянофилов. В самом деле, можно ли в настоящее время серьезно утверждать, что техника есть отличительная черта французского народного духа, что германский народный дух исчерпывается наукой, а английский — началом свободного самоуправления?
Замечательно, что в основе всех подобных определений лежит не столько вера в неограниченные возможности развития нации, сколько, напротив, убеждение в заведомой ограниченности ее будущего развития, вытекающее из одностороннего, исключительно на прошлое направленного взгляда. Допустим, что германская нация действительно до сих пор преимущественно культивировала науку, французская — технику, а английская — право, и что каждая из них означает одностороннюю гегемонию одной культурной ценности над другими, укрепившей свое господство на Почве неразрешенного внутри культуры конфликта. Следует ли отсюда, что так будет и должно оставаться и впредь? Может ли техника обходиться без науки, обе они — без нрава, а это последнее — без нравственности? Так думали, например, славянофилы в отношении нрава, ненужного будто бы русскому народу как носителю непосредственной, конкретной и избегающей всяких твердых формул нравственности3. На деле, однако, отдельные стороны культуры слишком переплетены между собой и обусловливают друг друга Об этой их внутренней связи свидетельствуют возникающие между ними конфликты, и если действительно до сих пор конфликты эти разрешались большей частью путем насильственной гегемонии одной ценности над другими, а не путем гармоничного их сочетания, то нет никаких оснований этот факт прошлого принимать за норму для будущего. Из того, что до сих пор Россия не проявила своего особого лица ни в науке, ни в праве, ни в технике, следует ли что так будет и так должно оставаться и впредь? Не следует ли отсюда, напротив, как это и указывал Ушинскому В. Я Стоюнин4, что, ввиду нашей отсталости в областях права, науки и техники, особенностью нашей национальной системы образования в настоящий момент должно быть преимущественное культивирование именно этих до сих пор пренебрегавшихся нами ценностей? Если для личности отдельного человека справедливо выдвигается идеал гармоничного всестороннего развития, т. е. приобщения ее к полноте культурного творчества, то почему коллективная личность народа должна быть заведомо исключена из этой полноты, должна заведомо отказаться от гармонии в пользу односторонней и насильственной гегемонии какой-нибудь одной культурной ценности? Оснований к тому тем меньше, что коллективная личность народа не подпадает в такой степени, как единичная личность, власти разделения труда, составляющего трагедию культуры.
Но даже и с этой точки зрения представляет ли нация особую цель образования в том самом смысле, как мы говорим об образовании научном, нравственном и художественном? Очевидно нет, ибо своеобразный характер нации усматривается здесь не в особой цели, привходящей к тем ценностям, которые в совокупности своей составляют культуру, а в одностороннем разрешении в пользу той или иной из этих ценностей возгоревшегося между ними конфликта. Национальное образование сводилось бы в таком случае ни к чему иному, как к насильственному культивированию одного только научного, или правового, или технического образования.
2
Иначе и глубже определяет задачу национального образования Фихте в своих «Речах к немецкой нации». Произнесенные в Берлинском Университете в 1807 году, когда Пруссия и вместе с нею вся Германия переживала время французской оккупации, «Речи» Фихте имели целью поднять германский народ из состояния крайнего унижения и безразличия, в котором он находился, и вселить в него веру в самого себя. Средством возрождения германского народа должна была служить, по мысли Фихте, новая система образования. Образование пе должно быть при этом просто образованием народа, но должно быть «своеобразным немецким национальным образованием»5. Оно должно быть не наносным перенесением на немецкую почву иностранных влияний, а соответствовать духу немецкого народа, вытекать из самого его существа. В чем же своеобразие немецкого народа, отличающее его от «иностранщины» (Ausland), под которой Фихте разумеет всегда романский Запад? Фихте далек от того, чтобы национальный характер немецкого народа определять особенностями его готового и сложившегося уже культурного предания. Точно так же и своеобразие романских народов, противопоставляемых им немецкому, он видит не в их особой приспособленности к тому или иному виду культурного творчества. Напротив, всю проблему нации он ставит в иную плоскость, переносит ее из плоскости культуры, как таковой, в плоскость о т н о ш е н и я н а р о д а к к у л ь т у р е. Своеобразие немецкого народа, так же как и романского Запада, надо искать не в том, что сделано ими в области культуры, а в том, как это ими сделано, в самом их отношении к культуре. И с этой точки зрения отличительной чертой немецкого народа является, по мнению Фихте, его «первоначальность», или «самобытность» (Ursprunglichkeit), его способность к воодушевлению и свободе. Эта особенность немецкого народа проявляется прежде всего в характере его языка. Тогда как германские племена романского Запада усвоили язык побежденного ими романизированного населения, немецкий народ сохранил свой язык во всей его самобытности. Вместе с языком романские народы утратили свободное и непосредственное отношение к культуре. Они чисто внешним образом должны были перенять римскую культуру, сломившую их самобытность, непосредственность и свободу. До сих пор поэтому культура есть у них нечто наносное и искусственное, перенятое, а не творчески созданное, чужое, а не свое. Отсюда ее по преимуществу формальный характер: так во французской поэзии форма господствует над содержанием, готовое и канонизированное прошлое над живым настоящим. Отсюда также разрыв между образованным классом и нардом: язык культуры до сих пор чужд языку народа, и в этой оторванности интеллигенции от народа продолжается основной факт истории романского Запада, а именно победа в нем готовой и мертвой культуры с ее законченным языком над надломившейся под тяжестью ее душой некогда свободного народа. Отсюда, наконец, также мертвый и законченный характер языков романского Запада, которые, оторванные от питающей их народной почвы, застыли в своем механическом формализме. В противоположность этому немецкий народ, сохранивший всю самобытность своей речи, сохранил также свою свободу по отношению к римской культуре. Она не поработила его, но он переработал ее по-своему, взял из нее то, что могло быть в полной мере им усвоено. В этом состоит также решающее значение Реформации в истории немецкого народа: она есть подлинно народное движение, восстание его против наносной и чужой культуры с ее чужим языком, восстание в двенадцатый час, в тот момент, когда народ был уже готов совсем сломиться под ее бременем. Реформация вернула интеллигенцию к народу, уничтожила разрыв межцу ними, готовый уже стать непреодолимым. Своеобразие немецкого народа в том и состоит, что культура его доступна народу и черпает свои силы из народа: народ и интеллигенция говорят здесь одним языком, почему и язык не есть нечто мертвое и законченное, но представляет собою живое развивающееся целое. В том, как романский Запад и немецкий народ отнеслись к классической Древности в эпоху ее Возрождения, ярко сказалось все их различие: тогда как романский Запад пассивно воспринял ее, немецкий народ создал из классической древности нечто свое, самобытный и своеобразный идеал образованности6.
Историческая и лингвистическая неправильность всех этих утверждений Фихте очевидна. Сказать, что романские языки — мертвые языки, что романская культура — мертвая культура, и что на Западе пропасть между интеллигенцией и нардом глубже, чем в Германии, — значит игнорировать целый ряд явных фактов истории и насильственно истолковывать последнюю в угоду отвлеченной точке зрения. Это признают в настоящее время даже наиболее восторженные немецкие поклонники автора «Речей». Но не в этих философско-исторических выводах смысл и значение Фихтевой теории национального образования. Значение ее в том, что Фихте первый проблему национального образования увидел в о т н о ш е н и и н а р о д а к предстоящей ему внешней к у л ь т у р е. Проблема образования народа оказывается, таким образом, тождественной с известной уже нам проблемой образования личности. Как задача нравственного образования отдельной личности заключается в сохранении личностью при восприятии ею внешней культуры своей самобытности и свободы, своей непосредственности и целостности, точно так же и задача образования народа состоит в том, чтобы давление внешней культуры не перевесило свободной самобытности его творческих устремлений и не разрушило его внутренней целостности. Эту мысль Руссо, развитую самим Руссо по отношению к личности отдельного человека, Фихте применяет к коллективной личности народа. И заманчивой задачей для историка философии было бы, на наш взгляд, проследить непосредственное влияние Руссо на автора «Речей»7. Отсюда своеобразное отождествление Фихте понятий «немецкий» и «национальный»8. Для Фихте свобода, целостность, самобытность по отношению к внешней культуре являются основными свойствами нации как таковой. Народ, утративший их, перестает быть нацией в подлинном смысле этого слова. Поэтому романские народы и не представляют собой наций в отличие от немецкого народа, который есть народ по преимуществу. «Быть немцем» для него это все равно, что «обладать характером», быть личностью. «Все, кто живут, или сами творя и создавая новое, или по крайней мере готовые отдаться потоку самобытной жизни; все эти самобытные люди, если рассматривать их как народ, представляют собой пранарод (Urvolk), народ но преимуществу (Das Volk schlechtweg), все они — немцы»9. Но именно потому также национальный, или «немецкий» пе противоречит «человеческому», а совпадает с ним. В отличие от других народов немецкий народ непосредственно и свободно, не надламывая тем своей внутренней целостности, воспринимает и усваивает культуру чужих народов, по своему перерабатывает все человеческое, откуда бы оно ни шло. Не в противопоставлении «своего» человеческому сила немецкого народа. Напротив, его подлинно национальный характер заключается именно в том, что все общечеловеческое он умеет делать «своим». Свободная и творческая работа его над общечеловеческими ценностями созидает из него нацию, совершенно так же как личность, как мы знаем, созидается через творческое тяготение ее к сверхличным ценностям10. Фихте до того далек от воинствующего национализма, противопоставляющего свое чужому и в господстве своего над чужим видящего существо национального идеала, что высказывает прямо-таки пророческие слова. По поводу «так часто проповедуемой немцам в наши дни свободы морей» он говорит: «О если бы счастливая судьба оградила немцев от косвенного участия в добыче других стран так же, как она оградила их от непосредственного в ней участия! О если бы легковерие и алчное стремление жить так же роскошно, как другие народы, не вызвало в нас потребности в тех ненужных товарах, которые производятся в других странах? Пусть лучше, удовлетворяясь необходимым, мы предоставим нашим свободным согражданам сносные условия жизни вместо того, чтобы пытаться извлечь выгоду из пота и крови несчастных рабов за океаном. В таком случае мы по крайней мере не дадим сами повода предстоящей нам тогда судьбе и не будем побеждены, как откупщики, и уничтожены, как базар»11. «Свое» для Фихте не есть нечто противоположное «чужому», но стиль усвоения народом чужого. И нация, таким образом, не есть нечто противоположное общечеловеческому, но стиль творческого усвоения народом общечеловеческого культурного содержания.
Только этим и объясняется тот факт, что национальное образование Фихте менее всего носит национальный характер в смысле ограничения образования исторически-традиционным «национальным» содержанием или даже придания последнему особенной роли в образовании. Напротив, национальную систему образования Фихте усматривает в педагогической системе Пссталоцци, этого столь мало «национального» педагога: воодушевленного скорее общечеловеческим идеалом в духе сделавшей его своим гражданином первой Французской Республики. Система Пссталоцци потому, по мнению Фихте, национальна, что она вся построена на принципе самодеятельности, творческой интуиции и свободы. В культивировании этих начал и заключается, таким образом, национальный характер образования, и если Фихте в отдельных пунктах не соглашается с Пссталоцци и, идя дальше него, развивает свою теорию трудовой школьной общины, то критика его направлена не па космополитический характер системы Песталоцци, а на остатки в ней механизма и на недостаточное проведение в ней принципа самодеятельности12. Национальное образование таким образом совпадает для него с образованием личности и свободы в человеке. Это не есть особый вид образования, примыкающий к другим его видам, как некая новая и отличная от них цель образования. Нет, это есть не что иное, как нравственное образование народа. Ибо образование личности и свободы отдельного человека и только оно одно способно сохранить и упрочить самобытность народа в целом, его свободу по отношению к культуре и его благородную способность зажигаться энтузиазмом на служение общечеловеческим целям, что и составляет характерные свойства нации как таковой. Только творческая работа над сверхнациональными заданиями культуры может настоящее поколение народа включить как индивидуальное звено в ту вечную и устойчивую череду поколений, которая составляет нацию, охватывая как прошлые так и будущие поколения народа. Поэтому Фихте заклинает настоящее поколение немецкого народа отдаться работе над национальным образованием именем не только ныне живущего поколения и именем всего человечества, но именем предков, труды которых притязают на то, чтобы продолжаться в трудах современников, и именем «еще не родившихся потомков», которые говорят: «позаботьтесь, чтобы с вами не оборвалась цепь; сделайте так, чтобы мы могли гордиться вами и через вас, как безупречное звено в этой цени, примкнуть все к той же славной череде»13.
Прав ли был Фихте, отождествляя национальное образование с нравственным? Верно ли, что национальность есть не особая цель творчества, а естественные форма, стиль, в которых по необходимости проявляется работа народа над общечеловеческими ценностями, если только народ сумел сохранить по отношению к культуре свою свободу, целостность, воодушевление и самостоятельность? Верно ли, что национальное образование есть не особый вид образования, а естественный стиль всякого подлинного образования? И если да, то достаточно ли покрывается оно началами самодеятельности и творческой интуиции, перенятыми Фихте у Песталоцци? Чтобы подойти к этим вопросам, необходимо, однако, дать более точное определение понятий «национальный» и «человеческий», так часто по-видимому вступающих между собою в конфликт.
3
Этот конфликт «национального» и «человеческого» выражается в известной антиномии национализма — космополитизма, играющей по отношению к коллективной личности народа ту же роль, что антиномия индетерминизма — детерминизма имеет по отношению к личности отдельного человека14. Теза космополитизма совершенно аналогична тезе детерминизма: как последний отрицает самобытность и самоопределяемость личности, так первый отрицает своеобразие и субстанциальность нации как особого самостоятельного начала. И как детерминизм слагает личность человека из простой суммы рядоположных и извне определяемых психических фактов, точно так же космополитизм видит в нации простую сумму индивидов, лишенную внутреннего единства и чисто механически и временно связанную давлением внешних фактов (географических, экономических, государственных). Нация и человечество мыслятся им одинаково как простая сумма частей, реальны только эти части — отдельные индивиды, также как и для детерминизма личность человека по необходимости распадается в простой «пучок восприятий». «Душа народа» и «мировой дух» — это только абстракции, отвлеченные понятия, которые мы образовали, суммируя чисто временные свойства, наблюденные нами в жизни той или иной группы совместно живших людей, и объяснять этими сущностями исторические события так же ненаучно, как объяснять с помощью vis dormitiva усыпительное действие лекарства. Они требуют объяснения, а не только что сами могут служить принципами объяснения. Так как реальны только отдельные люди и возникающие между ними экономические отношения, то именно этими факторами не национального, а межнационального характера и надлежит руководствоваться в своих действиях. Мы должны стремиться к общечеловеческому, национальные ограничения суть только временные перегородки, которые будут и должны быть со временем сняты братством всех людей.
Противоположная теза национализма, напротив, вполне аналогична индетерминизму: как последний считает, что свобода и личность суть несомненные факты нашей жизни, отрицание которых делает бессмысленным наше нравственное существование и беспредметной ответственность нашу за наши действия, точно так же и национализм считает, что отвлеченное понятие человечества слишком бессодержательно, чтобы мы могли руководиться им в своих действиях. Помогать всем и служить всем это значит — никому не помогать. Всякая борьба и всякое действие должны исходить из конкретных задач, прилагаться к определенным людям. Такая конкретность и определенность дается живым реальным целым национального союза. Отдельный человек есть живое реальное существо, лишь поскольку он член нации, которую он впитывает в себя вместе с речью матери. Благодаря национальному коллективу, стихийно объемлющему нас с первого дня рождения, мы становимся реальными индивидами. Ему обязаны мы всем, что составляет смысл и самую основу нашего существования. Нация не есть простая сумма отдельных людей, но живая сила, подлинная субстанция каждого человека, который, оторвавшись от нации, ведет отвлеченное и бездейственное существование. Ибо только то творчество ценно, долговечно, реально, которое «субстанциально», т. е. вытекает из народною духа, составляющего нашу подлинную основу. Искусство, право, религия, государственный строй, наука в величайших своих достижениях глубоко национальны. Они вырастают из реального начала народного духа, обнаружениями которого они только и являются и которым они только и могут быть объяснены в своем единстве, своеобразии, взаимном родстве отдельных моментов. Культура народа есть самобытное действие народного духа, как и наши поступки суть для индетерминизма продукты свободного выбора нашего Я.
Замечательно, что последовательно проведенный национализм так же себя уничтожает, как до конца продуманный индетерминизм приводит неизбежно, как мы это видели15, к отрицанию свободы. В самом деле, отвергая человечество как превышающую нацию начало, рассматривая его как простую отвлеченную сумму единственно реально существующих частей — наций, национализм оказывается бессильным отграничить нацию и понять ее самое как единое целое. Часть, оторванная от целого, сама распадается на множество между собой несвязанных частей. Нация, провозглашенная самодовлеющим и высшим началом бытия, подменяется неизбежно своей собственной частью, притязающей на роль подлинной хранительницы и носительницы национального духа. Так национализм германский неизбежно вырождается в прусский, этот последний в гогенцоллерно-бранденбургский, так же как российский национализм, переходя в великорусский, постепенно мельчает до московско-суздальского. В этом раздроблении и измельчании нации как бы продолжается движение распада и раздробления, усвоенное нацией через отрыв ее от целостности человечества. Нация, поставившая себя самое последней целью своего существования, испытывает судьбу личности, «положившей ничто в основу дела своего Я»: она распадается. Мелочи старого быта, устарелый государственный строй, никогда не представлявшие собою нации в целом, самозванным образом начинают говорить от имени нации. Часть выдает себя за целое. И это измельчание нации в национализме приводит к тому, что все своеобразие нации утрачивается. Давно уже было отмечено, что нет товара более безличного, более пригодного к экспорту в чужие страны, чем национализм. Все национализмы как две капли воды похожи друг на друга Простой подменой терминов русский национализм без всякого труда можно перевести на немецкий, на французский, на турецкий язык. Это все тот же идеал господства, самодовления, великодержавия, один и тот же дух отвлеченного утверждения своей исключительной ценности, выражающейся большей частью даже сходными терминами. В этой нивелировке национализма, как бы налагающей на него столь противоположный ему с виду штамп безличного космополитизма, особенно ярко проявляется его внутреннее противоречие. Подобно тому, как свобода улетучивается в индетерминизме, вырождается в произвол и в «иллюзию нашего незнания», точно так же и нация улетучивается в национализме, утрачивает присущий ей дух индивидуальности и своеобразия.
Причина этого саморазрушения национализма та же, что и известная уже нам причина крушения индетерминизма. И индетерминизм и национализм оба ищут, первый — личность отдельного человека, второй — коллективную личность народа, в плоскости готового бытия. Нация для национализма — готовое и данное бытие, принцип объяснения и познания исторической действительности. В плоскости бытия нация и человечество действительно представляются исключающими друг друга началами, и антиномия национализма — космополитизма кажется неразрешимой. Так ли это, однако, на самом деле? Совпадают ли человечество и нация с суммой ныне живущих людей, а если нет, то следует ли отсюда, что нация есть скрытая живая сила, народный дух, сам из себя порождающий свое содержание? Категория задания, как предмета нашего действия, достаточно знакома уже нам из данного нами выше (гл. 2) анализа понятия личности, чтобы мы могли ее применить теперь и к понятиям человечества и нации. Отождествлять человечество с суммой ныне живущих людей, как это делает космополитизм, не только поверхностно, но и просто-таки невозможно, ибо человечество не исчерпывается своим мгновенным в данный момент существованием. Но выход за пределы* мгновения заставляет нас сразу же включить в человечество, как в единую вечную череду, и наших предков и наших потомков. Тем самым сразу понятие человечества, как понятие о факте, превращается в ценностное понятие «человечности» — в совокупность тех культурных заданий, которые предстоят ныне живущему поколению как предмет его творческого труда16. Понятое в этом смысле человечество уже не противостоит нации как исключающее ее начало, но предполагает и требует последнюю. Одно и то же задание по разному разрешается отдельными народами, к нему ведет множество путей. Общее, как задание, не исключает многообразия, но, напротив, осуществляется в нем. Понятая как предмет действия, а не как принцип познания и объяснения действительности, нация кроет в себе человечество, как высшее свое задание и оправдание. Ибо только в меру осуществления народом общечеловеческих ценностей становится он индивидуальностью, занимающей свое особое незаменимое место в общечеловеческой культуре, т. е. становится нацией.
Человечество, как устойчивое, последовательно разрешаемое человеческим творчеством задание, требует от всякого приступающего к творчеству, чтобы свои усилия он примкнул к усилиям и достижениям предыдущих поколений. Оно требует совокупного, или соборного действия: в творчестве настоящего поколения должны продолжаться усилия предков, трудившихся над теми же задачами. И сколь бы ни было индивидуально творчество отдельного человека, всю силу свою и мощь почерпает оно от того, что в нем мы чувствуем разрешенными поставленные предками задачи, усилия которых продолжают жить таким образом и получают свое оправдание в достижениях отдельного творца. Задание, таким образом, требует предания как своей предпосылки. Но это и значит: человечество как совокупность культурных заданий требует нации, как переходящего от поколения к поколению предания. — К тому же выводу мы придем, исходя из понятия нации как культурного предания. Усвоить наследие отцов, сохранить его от забвения и разрушения можно, не пассивно его воспринимая, но активно продолжая работу предков, разрешая все глубже и глубже поставленные ими задачи17. Только преумножая культурное достояние предков, можно его сохранить, ибо дела предков живут не в нашей пассивной памяти, но в наших творческих усилиях и достижениях. Только творческая работа над теми же заданиями, которые предстояли и нашим предкам, осуществляет чудо сохранения прошлого. В этом смысле мы и говорили уже выше, что предание, как сохраненное в настоящем прошлое, возможно только через возвышающееся над временем задание. Но это и значит: нация, как наследие предков, возможна через человечество как объединяющее все нации культурное задание. Понятые как предметы нашего действия, как восставленный пред нами долг нашего существования, человечество и нация не только не исключают, но взаимно проникают друг друга. Истинный космополитизм и истинный национализм совпадают.
Ограниченность космополитизма заключается в том, что он игнорирует момент предания, без которого немыслимо, однако, никакое подлинное культурно творчество18. Ошибка эта проистекает от того, что человечество понимается им как познаваемый разумом факт, а не как предстоящая нашему действию «человечность». Ограниченность национализма, напротив, в том, что он понимает нацию как законченный в себе и готовый народный дух, как независимый от нашего действия факт. Ошибка его в том, что он игнорирует момент задания, которым только и оживотворяется и сохраняется прошлое народа. Этим и объясняется то замечательное явление, что космополитизм и национализм в своих высших достижениях до неразличимости сближаются друг с другом. «Националист» Фихте и «космополит» Лассаль, наши западники и славянофилы в героическую эпоху их московских споров в тридцатых годах прошлого столетия различаются между собой не столько своими утверждениями, сколько трудно уловимыми симпатиями и настроениями. Нам понятно теперь, что, вспоминая эти споры, Герцен мог сказать: «Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»19. Да и как могло быть иначе, когда западники Грановский и Герцен со взором обращенным на историю Запада, ставя вопрос: «что нужно для того, чтобы спасти общечеловеческую культуру?», искали в прошлом русского народа задатков того, что поможет этим новым варварам оздоровить одряхлевшее человечество, а славянофилы Киреевские, зачарованные прошлым русского народа, искали в истории Запада оправдания своей вере в его всемирно-историческое призвание, своей надежде на то, что русский народ по-своему разрешит неразрешенную еще пока человечеством задачу и тем самым передаст Западу обновленным и оживотворенным свое историческое достояние. Только эпигоны тех и других превратили разную направленность взора в исключающую друг друга враждебность: но для этого нужно было, чтобы одни задачу п р о д о л ж е н и я культуры Запада подменили идеей пассивного ей п о д р а ж а н и я, а другие — задачу оправдания русской истории н о в ы м и достижениями на благо всего человечества подменили идеей простого с о х р а н е н и я русского прошлого и механического господства его над человечеством.
Этой нераздельностью предания и задания в нации, структура которой, как коллективной личности народа, родственна структуре личности отдельного человека, и объясняются трудности определения понятия нации, уловления в точной абстрактной формуле всех отличительных ее признаков. Несмотря на поиски многочисленными исследователями такого признака, который позволил бы точно отграничить понятие нации, до сих пор его пе удалось найти. Ни единство расового происхождения (большинство современных наций — продукт смешения самых разнообразных племен), ни оседлость на определенной территории, ни государственное единство (есть нации, принадлежащие к разным государствам, и государства, обнимающие разные нации) не составляют, по ближайшем рассмотрении, необходимых и достаточных признаков национального единства, хотя каждое из них порознь и содействует образованию нации. Такого признака нельзя найти уже потому, что нация есть не готовая и законченная данность, но живой и постепенно осуществляющийся процесс. Подобно личности отдельного человека, нация не просто есть или не есть, но более или менее есть, она имеет свои степени интенсивности, ступени своего осуществления. Подобно тому, как свобода осуществляется лишь в той напряженности, с которой она стремится преодолеть достигнутую уже ею ступень, точно так же и нация жива лишь в напряженности своего культурного творчества, ведущего ее все выше и выше по ступеням национального бытия.
Когда, отказавшись от нахождения определенных материальных признаков нации, современные исследователи самых разнообразных направлений ограничиваются ф о р м а л ь н ы м ее определением, как «исторического в нас» (Мсйиске) или как «культурной общности» (Бипдер), как «совокупности людей объединенных в общность характера общностью исторической судьбы» (Отто Бауэр), то этим только подчеркивается ныне понятное нам обстоятельство, что нация есть не антропологический и не социологический факт, имеющий точно очерченные и познаваемые признаки, и не данная в своей достижимой определенности цель, но своеобразный стиль народного существования, форма, которую с а м о с о б о ю принимает творчество народа, направленное на разрешение общечеловеческих культурных задач. Точно так же мы выше и личность отдельного человека определили не как факт его бытия, порождающий его действия, а как оттенок этих действий, как созидаемый ими и выражающийся в них стиль человека. Не материальное «что», а формальное «как» существования народа составляет его национальный характер. Поэтому так и бессмысленно полагать нацию как цель личного и народного творчества. Глубоко прав Н.В. С т а н к е в и ч, говоря: «Чего хлопочут люди о народности? Надобно стремиться к человеческому, свое будет поневоле. На всяком искреннем и непроизвольном акте духа невольно отпечатывается свое, и чем ближе это свое к общему, тем лучше… Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя — можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее человеческое и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему. Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом — это никуда не годится»20. Тот, кто полагает нацию как цель своей работы, делает ее тенденциозной. Работа эта утрачивает как раз то, что она ставит себе как цель — свой творческий и самобытный, созидающий нацию характер. Нация не есть предмет заботы, а естественный плод усилий, направленных на достижение сверхнациональных задач21.
Естественней плод, то, что дается поневоле, само собой — этим намечается еще один очень существенный момент нации. Нация созидается творческими усилиями отдельных лиц и народа в целом, направленными на объективные задачи культуры как таковой. В результате этих объективных по целям своим действий «поневоле», «сам собою» раскрывается национальный характер в своем «естественном», а не умышленном своеобразии. Это значит, что нацию не только нельзя избрать по своему произволу, как можно выбрать партию, научную и художественную школу, даже религию, но и нельзя приобрести ее путем нарочитой, умышленной выучки. «К нации принадлежит тот, кто о т р о ж д е н и я в р о с (hineingeboren) в совокупную живую культуру народа, кто обладает ею как своим прирожденным, а не благоприобретенным путем выучки достоянием»22. Этим оправдывается и собственный смысл слова «нация» (от латинского nasci), связь его с «рождением». Правда, это есть рождение в духе, а не во плоти, и, несмотря на кроющийся в ней смысл прирожденности и «естественности», нация остается все же не естественно-научным, антропологическим, а культурно-историческим, ценностным понятием. Этим объясняется также и та исключительная роль, которую фактор языка играет в образовании национального характера но сравнению со всеми другими факторами. Утверждать вместе с Бауэром, что национальные различия совпадают с языковыми, конечно, нельзя уже потому, что имеются разные нации, говорящие на одном и том же языке (американцы и англичане), и люди с различным родным языком сплошь и рядом справедливо могут быть отнесены к одной нации (великороссы и украинцы, провансальцы и бретонцы). Но что язык есть наиболее сильный из всех факторов, созидающих нацию, и что, по мере роста нации, ее «интенсификации» в указанном выше смысле, первоначальные языковые различия все более поглощаются в единстве литературного языка, — это вряд ли подлежит теперь сомнению. Заслуга Ушинского в русской педагогической литературе состоит как раз в том, что он с классической ясностью показал, какое значение имеет родной язык в процессе образования нации. Родной язык, в котором откристаллизовались достижения, надежды и ожидания культурного творчества народа и который усваивается без выучки, а естественно, вместе с молоком матери, есть тот естественный медиум, через посредство которого и самая культура усваивается не как приобретаемая путем выучки, а как «прирожденная». Поэтому также национальная свобода есть по преимуществу свобода родной речи, проблема национального образования — проблема языка обучения. В отличие, однако, от Ушинского мы хотели бы более подчеркнуть что, будучи фактором, созидающим единство нации, национальный язык в свою очередь растет вместе с ее ростом и в своем возрастающем единстве отражает рост единства национального.
Нация не просто есть или не есть, но имеет степени своего осуществления. Этим объясняется текучесть и неопределенность национальных границ, только приблизительно и внешним, впрочем для правовой организации быть может и достаточным, образом совпадающих с языковыми границами. Поэтому часто так трудно бывает в конкретном случае определить точно национальную принадлежность отдельного лица или целой группы. Это особенно следует сказать о тех слоях населения, которые О т т о Б а у э р о м были удачно названы Hintersassen der Nation («батраками нации») и которые составляют как бы пассивную материю национального целого. Сюда относятся экономически порабощенные классы народа, которые хотя и участвуют своим трудом в культурном творчестве нации и создают ее единство, но исключены от участия в политической и правовой жизни нации и в научном и художественном ее творчестве. Принимая в культурном творчестве нации чисто пассивное участие, они обычно не сознают своей национальной принадлежности и относятся индифферентно к национальному единству. Национальное культурное достояние, от участия в котором они устранены, не является в их глазах ценностью, нация не сознается ими как естественный плод их культурного творчества и как необходимая предпосылка такового, но представляется им частным делом образованных и господствующих классов. Национальное сознание этих пассивных элементов нации поэтому весьма элементарно и непрочно, легко уступает место революционному космополитизму, отрицающему предание и историю как продукты и проявления векового угнетения их привилегированными классами. Только в тех случаях, когда господствующие классы относятся к другой национальности (например, поляки в Галиции, мадьяры в Хорватии и т. д.), революционное настроение связывается с самосознанием просыпающихся к самостоятельной жизни народных масс. Если, таким образом, революционный космополитизм низших слоев нации объясняется их пассивной ролью в культурной жизни народа, тем что нация, созидаемая в процессе культурного творчества, не есть прямой и очевидный для них предмет их действия, то пассивностью же утративших свою руководящую роль в культурной жизни народа классов объясняется и отличающее именно эти классы тяготение к консервативному национализму. Пока какой-нибудь класс остается реальным организатором народного хозяйства и творцом культурных ценностей, он является подлинным носителем национального единства и сознания. Таковыми классами в средние века и в эпоху расцвета сословной монархии были дворянство и духовенство, а начиная с конца XVII века во все возрастающей степени — буржуазия. Не без основания поэтому до Французской революции термин «нация» формально обозначал дворянство и духовенство, пока Сийэс в своем знаменитом памфлете «Что такое третье сословие?» не показал, что именно это сословие давно уже стало средоточием и носителем «нации». Замечательно, что как раз те классы, которые, будучи активными участниками культурного творчества, являются подлинными носителями национального единства и сознания, мало склонны к консервативному национализму, особенно если их правовое и политическое положение не соответствует фактическому их значению в культурной жизни народа. Нация, являющаяся естественным продуктом их творческой культурной работы, предстоит им как предмет их действия и потому ощущается ими укорененной в общечеловеческих культурных ценностях. Консервативный национализм по преимуществу характеризует те классы, которые уже утратили или утрачивают реальное значение свое как подлинных организаторов хозяйственной жизни и творцов высших культурных ценностей, но сохраняют еще свое привилегированное положение в политической жизни народа. Если, таким образом, революционный космополитизм есть следствие и симптом того, что соответствующие классы еще не участвуют активно в культурном творчестве народа, то консервативный национализм, напротив, свидетельствует о том, что проникнутые им классы уже не участвуют в нем. И в том и другом случае нация не есть предмет действия, но отношение к ней чисто пассивное. Тем самым подтверждается развитая нами выше мысль о том, что космополитизм и национализм, будучи противоположными искажениями тех же идей, имеют общим своим основанием чисто пассивное отношение к нации и человечеству, которые мыслятся ими как познаваемые данности, а не как разрешаемые творчеством задания23.
Чем более экономически угнетенные классы освобождаются от своего угнетения и приобщаются к высшей культурной жизни народа, тем более они утрачивают первоначально присущий им революционный космополитизм и начинают ценить национальное предание как отправной пункт и естественный стиль собственного культурного творчества. Отказ современных право-социалистических партий от наивного революционного космополитизма старых дней подтверждает это наше утверждение.
4
Отсюда нетрудно уже вывести первое, самое общее понятие национального образования. Если нация кроет внутри себя разнообразные ступени своего осуществления, начиная от бессознательного участия и творческого овладения преданием в его высших проявлениях то задача национального образования, т. е. создания и упрочения нации, сводится, очевидно, к приобщению всех слоев народа к культуре и, в частности, к образованности как высшему ее проявлению. Вовлечение всего народа в образовательный процесс — вот единственное средство уничтожить чисто пассивное отношение низших слоев народа к нации и тем самым разбудить их пока еще только дремлющее национально сознание. Это демократическое понятие «национального образования» было выдвинуто с особенной силой деятелями Французской Революции. Оно как нельзя более соответствовало ее «патриотизму», руководившемуся идеалом «единого и нераздельного отечества». В этом смысле все проекты народного образования, выдвигавшиеся в эпоху Французской Революции деятелями Законодательного Собрания и Конвента, называли свою систему народного образования национальной24. Нация, до сих пор включавшая в себя духовенство и дворянство, должна быть расширена, она должна обнять весь народ. Образование должно создать единую волю народа, во имя которой Французская Революция, как известно, так решительно боролась со всяким «федерализмом», запрещая даже всякого рода партийные организации. Этим духом централистического патриотизма и были проникнуты проекты Таллейрана (1790), Кондорсе (1792) и проект М. Лепеллетье, представленный Робеспьером Конвенту во II год Республики (1793). Это первое понятие национального образования, как видно, совпадает с знакомой уже нам идеей единой школы, вытекающей из принципов нравственно-правового образования. Никакого нового принципа, особого по сравнению с принципами последнего и их дополняющего, оно не выдвигает. Термин «национальное образование» констатирует только тот в свое время нами отмеченный факт, что правильно поставленное правовое образование народа создает нацию и, как мы можем теперь добавить, разрушает наивный революционный космополитизм пассивных элементов народа. В приложении к понятию «образование» термин «национальный» не есть, таким образом, ограничивающее его объем определение, но эпитет, не образующий особого в и д а образования.
И действительно, идеал национального образования Французской Революции, как он изложен во всех упомянутых проектах, менее всего может быть назван национальным но своему содержанию. Скорее всего он должен быть назван даже космополитическим, до того игнорируется в нем национальное историческое предание Франции и до того легко может он быть применен к любому народу и к любой стране. Мало того: особенностью его является не только его отвлеченный рационализм, но и централизм, игнорирующий во имя отвлеченно понятого равенства также и все местные особенности отдельных областей Франции. Заметная уже в проектах Таллеурана и Кондорсе, эта уравнительная тенденция получила свое наиболее яркое выражение в проекте Лепеллетье, следующим образом формулирующего равенство образования: во всех школах Республики ,дети должны получать одинаковое образование. «Они все должны подвергаться одинаковому обращению, одинаково питаться, быть одинаково одеты, одному и тому же обучаться. Тогда равенство будет для юных учеников не простой отвлеченной теорией, но практикой, непрерывно осуществляемой в жизни». Как известно, эта доктрина Французской Революции и определила собою всю историю народного образования во Франции в XIX веке25.
Можно ли удовлетвориться этим первым понятием «национального образования?» Национальное в указанном формальном смысле, не должно ли оно стать национальным и по своему содержанию? Поневоле, извне привитое, игнорирующее местные особенности и местные потребности образование, — не сломит ли оно живой личности народа, лишив ее самобытности и свободы? Не будет ли навязанное таким механическим способом образование чем-то наносным и чуждым народу, тем чисто формальным внешним лоском, опасность которого так хорошо чувствовал Ушинский и так точно формулировал Фихте? Несомненно, образование нации, как и образование личности отдельного человека, должно быть живым процессом, использующим самодеятельность самого образовываемого: оно должно пробуждать дремлющие в народе силы, а не навязывать извне чуждый ему материал. В этом очевидная правда теории национального образования Фихте. Постольку его образование более национально, чем идеал национального образования Французской Революции. И если бы Фихте не ограничился изложением одних только общих принципов, а дал и детали педагогической теории, то он, несомненно, пришел бы боле явно к тому второму, более глубокому и жизненному понятию национального образования, которое было развито только в самое последнее время защитниками так называемой «областной педагогики». Эта точка зрения областного национального образования получила особенное значение в Австрии, культурное развитие которой за последние пол-столетия ее существования проходило под знаком возрождения угнетенных национальностей (чехов и словенцев в Австрии, хорватов и словаков в Венгрии, русин в Галицин) и вызванной этим фактом национальной борьбы. Большое значение оно приобрело также за последние годы в России, где вопрос о так называемой «инородческой школе» оживленно дебатировался радикальными педагогическими кругами, требования которых получили свое наиболее полное выражение в постановлениях «инородческой секции» Первого Всероссийского Съезда по народному образованию 1913 года. Наконец, в связи с возрождением областных культурных течений, в частности провансальского языка и литературы, «областная педагогика» получила свое интересное выражение во Франции и отчасти также в Англии (уэльзское возрождение), не говоря уже об Ирландии. При этом если в австрийской литературе вопрос чисто педагогический оттеснялся на задний план политическим вопросом о правах национальных меньшинств, то во французской литературе, напротив, чисто педагогические вопросы подверглись особенно тонкой и подробной разработке. Соответствующая русская литература вопроса в значительной мере характеризуется как смешение политических вопросов с педагогическими.
В самом деле, в Австрии вопрос об областной национальной школе был вопросом о праве национального меньшинства иметь школу на своем родном языке. Ввиду того, что, за исключением быть может русинов, все австрийские национальности, боровшиеся за свои права, имели уже к концу XIX века развитую литературу и вполне пригодный для преподавания в школе язык, проблема национального образования сводилась к политической задаче обеспечения за национальным меньшинством его права на свою школу. Педагогический вопрос сводился к необходимости включения в программу народной школы одного иностранного языка, а именно государственного, всюду бывшего чужим языком, и необходимость преподавания которого, никем впрочем не оспариваемая, оправдывалась практическими и политическими, а не педагогическими соображениями. Так поставленный вопрос получил свое крайнее решение в известной юридической конструкции национальности, как экстерриториального публично-правового союза, в исключительном ведении которого находится народное просвещение, включая право школьного законодательства, управления и налогового обложения в образовательных целях. Эта конструкция была выставлена кружком венских социал-демократов. В основе ее лежал взгляд на государство, как на союз, определяемый преимущественно экономическими факторами, а не национально-культурными, и потому по необходимости включающий в себя различные национальности. Свое правовое разрешение, впрочем далекое еще от того, чтобы быть осуществленным в действительности, проблема обеспечения национального образования меньшинств получила в так называемом «трактате о меньшинствах», включенном в Сен-Жерменский мирный договор 1919 года, в польскую, чехословацкую и другие конституции государств бывшей Австро-Венгерской монархии и поставленном под защиту «Лиги наций». Среди других прав национальных меньшинств в этом трактате устанавливается о б я з а н н о с т ь с о о т в е т с т в у ю щ и х п р а в и т е л ь с т в принять должные меры к тому, чтобы в местностях, где значительная часть граждан имеет своим родным языком негосударственный язык, в публичных начальных школах образование детям этих граждан давалось на их родном языке с предоставлением этим школам «справедливой доли» в общем бюджете народного просвещения, а также п р а в о н а ц и о н а л ь н ы х м е н ь ш и н с т в создавать за свой счет школы и другие учебные заведения со своим языком преподавания. При этом школы эти, управляемые соответствующими обществами, должны, при выполнении общих педагогических требований, предъявляемых государством к своим собственным школам, пользоваться правами государственной школы26.
Существенно педагогический характер носит, напротив, «областная педагогика», развитая в целую систему представителями провансальского возрождения во Франции. Сюда прежде всего относится книга Ж. Оруза, дающая ее наиболее полное и законченное изложение. Оруз исходит в своем обосновании из чисто педагогических соображений, притом, в отличие от Ушинского и Фихте, из соображений не педагогически-национальных, а теории образования отдельного человека. Как лингвист, он подробнее всего останавливается на проблеме преподавания языка. Старая «эгалитарная» педагогика, показывает он, игнорируя местный диалект, не давала подлинного языкового образования. Французский литературный язык усваивался провансальцем как нечто чужое ему, внешнее, механически навязанное, а не органически привитое, как язык школы, а не как язык семьи, жизни и родной ему среды. Несмотря на громадную трату времени и энергии, результаты обучения национальному языку оказываются весьма плачевными. На целом ряде примеров Оруз показывает, как форма по необходимости убивает дух, буква — живую речь в таком обучении. С величайшим трудом достигается более или менее правильная орфография, но ценою какой бедности выражения, пустоты стиля, однообразия выученного, а не органически усвоенного словаря! Понятно поэтому, что после школы быстро наступает рецидив безграмотности, и взрослый крестьянин начинает говорить на какой-то смеси диалекта и литературного языка, утратив непосредственность родной речи и не приобретя правильного языка литературного. Тем самым формализуется и засыхает литературный язык, который вместо того, чтобы черпать из диалектов все новое содержание, только искажается, а не оплодотворяется ими. Так, разрушая живую самобытность народной речи, эгалитарная педагогика не дает и подлинного знания речи литературной. Она только обезличивает в языковом отношении учеников, не говоря уже о трудности и неинтересности для последних уроков языка, которые, вместо того чтобы возбуждать самодеятельность самих учащихся, навязывают им чисто внешним образом чуждый им материал. В этой критике эгалитарной педагогики мы видим своеобразно соединенными знакомые нам мотивы Руссо и Фихте. Оруз показывает, как должна измениться вся картина преподавания языка, если учитель будет исходить из живой речи учащихся, в частности, из могучего красочного «языка дъока» (провансальского), являющегося ближайшим родным братом «языка дъойля», сделавшегося литературным национальным языком. Подробно проводя читателя через все отделы грамматики — фонетику, орфографию, словарь и стиль — он показывает, как таким образом ученики не только осознают свою родную речь в ее чистом и наилучшем проявлении, но и органически усвоят родственный ей литературный язык в его своеобразии и особенностях, и как при этом их языковая самодеятельность и чувство языка возрастут от такого совместного преподавания. Не только чувство языка, но и его научное знание. Постоянное сопоставление литературной речи и диалекта откроет ученикам глаза на целый ряд основных законов языка, объяснит им смысл и значение многих грамматических правил, которые будут усваиваться ими не механически, а сознательно. Грамматика будет объяснять им тогда знакомый им уже языковый материал, сводить в одно и систематически освещать то, что им интуитивно уже известно. В частности, преподавание литературного языка с помощью родной речи даст ученикам начальной школы то, что в средней школе несовершенным образом, и то только в случае удачного преподавания, должен был бы дать латинский язык: именно практику переводов с чужого языка, незаменимую для основательного изучения родной речи. Вместо того, чтобы в якобы самостоятельных «сочинениях» обнаруживать только бедность мысли и словаря, ученики упражнениями в переводах с диалекта на литературный язык будут приучаться к точному выражению на нем своих мыслей, уменью оценить и взвесить каждый оттенок выражения, т. е. усвоят стиль литературного языка в подлинном смысле этого слова. Переходя от языка к другим предметам — к истории, географии, естествознанию, Оруз показывает и здесь, какие громадные преимущества получаются от того, что преподавание будет исходить от окружающей ребенка среды, от родного ему и близкого, от предания, флоры и фауны его края. Такая децентрализация, требующая, конечно, и соответствующих политических форм областничества, не только не уничтожит общенационального единства, но теснее спаяет между собой отдельные области Франции: национальное единство будет достигаться не механически, а органически вырастать из любви к своему краю. Ибо подлинная высшая форма единства не противоречит многообразию, но на нем основывается и вбирает его в себя.
Уже из краткой характеристики этой «областной национальной педагогики» видно, что она не представляет для нас ничего нового, не привносит к установленным уже нами принципам никаких новых начал. Она только своеобразным образом подчеркивает уже знакомые нам принципы трудовой школы и эпизодического курса. В частности ее заслуга в том, что, не употребляя этого термина, она дает подробно развитую теорию эпизодического курса грамматики, показывая, что и грамматику можно изучить, не изучая ее, и что такое изучение ее гораздо более научно и приводит к более глубокому знанию языка, чем та ненаучная смесь грамматики и логики, которая преподается в младших классах для того, чтобы основательно быть забытой впоследствии. Не подтверждается ли тем самым и для этого второго понятия национального образования, что «национальное» в приложении к образованию есть не определение последнего, но чисто формальная характеристика? Как нация есть не цель культуры, а ее естественный стиль и форма, достигаемые тогда, когда нация, как таковая, не полагается в качестве особой цели достижения, так и национальное образование есть не особый вид образования, а есть просто хорошее образование. Всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а не разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное нравственное, научное и художественное образование, хотя бы оно и не заботилось специально о развитии национального чувства. Поэтому, если Ушинский и прав, говоря, что в его время мы были единственным из великих народов, не имеющих своей национальной системы воспитания, то не потому, что мы мало заботились о развитии, вернее — сохранении «патриархальных начал» славянского народного духа, а потому, что у нас вообще не было системы народного образования, более или менее удовлетворяющей началам правильной педагогики. Говорить о национальном образовании в сущности так же неправильно, как говорить об образовании личном, ибо и личность есть естественный плод образования, направляющего человека к сверхличным целям при сохранении им его внутренней свободы. Таким образом, и то дополнение к Фихтеву понятию национального образования, которое, совершенно в духе Фихте, дается областной педагогикой27, не привносит к формально понятому национальному образованию нового м а т е р и а л ь н о г о момента. Стиль нации, ее чисто формальная структура мыслятся здесь только более конкретно, более расчлененно. И сама нация, будучи органической частью единого человечества, которое она носит в себе как свое подлинное оправдание и которое она осуществляет своим особым и незаменимым образом, обнаруживается в свою очередь как единство многообразия, как целостность, пронизывающая собою множество объединяемых ею частей, как живой синтез индивидуальных областей, своим культурным творчеством вносящих всегда нечто свое в целокупную жизнь нации и тем самым оплодотворяющих ее и как бы всегда заново ее созидающих. Принцип конкретной целостности получает, таким образом, и здесь свое осуществление, заменяя собою утомительное однообразие отвлеченной общности. Политической формой его, обеспечивающей надлежащим образом и «областную педагогику», является начало децентрализации и федерализма, сохраняющее за федеральной властью преимущественно сферы хозяйства и права, а культуру в ее высшем слое образованности предоставляющее самодеятельности областей.
Если теперь мы обратимся к проблеме так называемой русской инородческой школы, то мы должны будем различать три типа «инородческих» школ и соответственно этому три проблемы, обыкновенно обсуждаемые совместно. К первому тину инородческих школ относятся школы тех национальных меньшинств, которые имеют свой национальный язык, свою культуру и часто даже свою государственность. К этой группе в России относятся, например, немцы, поляки, финны. Проблема этих школ есть чисто политическая проблема охранения национальных прав меньшинства, и поскольку необходимость преподавания даже в начальной школе государственного языка и государственной истории никем в сущности не оспаривается, педагогическая проблема сводится здесь только к умелому конструированию эпизодического курса этих предметов. Ко второй категории относятся школы тех ветвей русского народа, речь которых отличается существенными диалектологическими особенностями от обще-русского литературного языка и положение которых в семье русского народа аналогично положению провансальцев и бретонцев внутри французской нации. Сюда относятся школы украинского, белорусского и северно-великорусского населения. Проблема этой школы есть проблема «областной педагогики» в установленном нами выше смысле слова28. Именно в интересах органического изучения русского литературного языка, живая связь которого с его наречиями способна лишь его обогатить и придать ему ту силу и самобытность, которая, как это показал Фихте, отличает всякий подлинно народный живой язык, необходимо в этих школах исходить из местного наречия, сопоставление которого с литературным языком только и может правильно поставить преподавание эпизодического курса грамматики29. Что исхождение из истории природы местного края единственно только может обеспечить правильное преподавание эпизодического курса соответствующих предметов, — об этом мы уже достаточно говорили выше. Однако именно для этой категории школ следует особенно помнить нашу основную тезу, а именно, что национальность есть естественный плод, а не нарочитый умысел образования. Беда «обрусительной» педагогики заключалась не в том, что она была национальной, а втом, что, прививая эту национальность умышлено и извне, чисто механическим образом, она ради национальности жертвовала требованиями нравственно-правового, научного и художественного образования. Она была просто дурной педагогикой, как дурно всякое тенденциозное искусство и наука, и потому не достигала ею же самой поставленной себе цели — создания нации. Она не только не была способна пробудить национальное сознание, любовь к преданию, по не достигала и более скромных целей, например, органического усвоения литературного общерусского языка. Но в ту же ошибку склонен, увы, слишком часто впадать и наивный национализм угнетенных наций. Стремление придать наречию значение литературного языка, допустить общерусский язык к преподаванию в школах лишь в крайнем случае в качестве иностранного языка, провести преподавание на наречии во всех решительно школах, в том числе и высших, хотя бы для этого, за отсутствием учителей и учебной литературы, пришлось бы до крайности понизить уровень преподавания, ограничить преподавание истории историей одной ветви русского народа, вопреки историческому факгу единства русской истории, как это хотели бы сделать некоторые крайние представители украинского и белорусского национализма, — это значит опять ввести тенденцию в педагогику, пожертвовать ради миража своей национальности реальными требованиями нравственного образования и научной объективности. Тем самым будет менее всего достигнута желанная цель создания нации, ибо на тенденциозности, обмане, механической нарочитости нельзя построить великого дела образования личности народа. Мы не говорим уже о том, что национальные дифференциация, раздробление, своеобразие обладают ценностью не сами по себе, но лишь постольку, поскольку в них обнаруживаются общечеловеческие начала, в силу чего только своеобразное и становится незаменимым, т. е. индивидуальным30. А приобщение к мировой культуре отдельных ветвей русского народа гораздо легче, конечно, будет осуществляться через посредство общерусской культуры, охватывающей областные разветвления и ими питаемой, чем при самодовлеющем существовании областных национальностей в их неприступной и враждебной целому обособленности.
Если проблема обоих указанных типов «инородческой школы» разрешается сравнительно легко, то практически гораздо больше трудностей встречает проблема национального образования третьей группы национальностей, «инородческих» народностей в узком смысле этого слова. Сюда относятся народности, язык которых, не будучи наречием русского языка, слишком мало развит для того, чтобы он мог служить языком преподавания. Это народности, еще только просыпающиеся, не имеющие ни своей культуры, ни своего предания или давно уже утратившие и утрачивающие таковые. Сюда относятся калмыки, киргизы, буряты и, думается, также татары и говорящие на «жаргоне» евреи, несмотря на всю культурность последних. Однако установленное нами понятие национального образования может и в данном случае, как нам кажется, послужить достаточным руководством. Что родной язык учащихся должен служить и здесь необходимым орудием при первоначальном обучении, и что учитель должен быть знаком с материнским языком учащихся, — это не вызывает по-видимому ни у кого сомнений. Что государственный язык при этом должен быть предметом обучения, — тоже представляется бесспорным. Спорным является лишь вопрос, должно ли происходить все преподавание непременно на родном языке31. Да, если оно может происходить без ущерба для качества преподавания, для той цели, которую ставит себе образование, — цели приобщения учащихся к мировой общечеловеческой культуре. Решительно нет, если преподавание непременно и исключительно на родном языке способно только, за невыработанностыо языка, отсутствия литературы и образованного учительства, понизить качество преподавания и восставить преграды приобщению учащихся к потоку современной культуры. И здесь основным принципом национального образования остается: образование тогда только подлинно национально, когда оно — хорошее образование, когда оно удовлетворяет требованиям научности, художественности и нравственности. Если, чтобы удовлетворять последним, оно должно быть «ненациональным», то ради самой же нации оно должно быть таковым32. Развитие самой народности, первоначально приобщающейся к общечеловеческой культуре через чужое, покажет затем, действительно ли данная народность способна выработать свой национальный характер или нет. Если да, то, в меру ее культурного роста, и образование ее сможет и должно будет становиться все более национальным, охватывая собою постепенно все высшие ступени школ. Если нет, значит история в свободном состязании не судила почему-либо данной народности стать нацией. Но и здесь национальность должна быть естественным и органическим ростом, а не продуктом механически проводимого умысла. Задача государственной власти сводится в данном вопросе к тому, чтобы, не уничтожая свободной борьбы и естественного состязания наций и потому предоставляя широкий простор частной и общественной инициативе в школьном деле (при условии выполнения требований хорошего образования), облагораживать конкуренцию, ввести ее в рамки права, лишить ее момента насилия, дабы тем самым обеспечить победу действительно достойному и помочь истории совершить свой нелицеприятный и справедливый суд.
Литература вопроса. 1. К. Д. У ш и н с к и й. О народности в общественном воспитании. Родное слово (Собр. пед. сочинений. Т. I). В- Я. С т о ю н и н. Собр, пед, сочинений. 1892. П. Ф. К а п т е р е в. История русской педагогики. 1910, гл. XXI и XXII.
2. Ф и х т е. Reden an die deuische Nation (цитаты по полн, собр, соч. 1846 г., т. VII).<…>
3. О п о н я т и и н а ц и и: лучшее, что написано на рус. языке — Вл. С о л о в ь е в. Национальный вопрос в России (втор. изд. полн. собр. Т. 5); Свр. также О т т о Б а у э р. Национальный вопрос и социал-демократия (цит. по нем. изд. 1907).
<…>
Примечания
ГЛАВА XIII
- У ш и н с к и й. Собр. соч., т. 1 «О народности в обществ, воспитании», стр. 274.
- В этом отношении «Родное Слово» Ушинского было гораздо более проникнуто литературно-интеллигентским духом, чем например «Наш друг» бар. Корфа.
- Замечательно, что как у Руссо и Толстого морализм маскируется отрицанием культуры, так и, наоборот, отсутствие у русского народа своей прочной культурной традиции выдается славянофилами и Ушинским за положительное призвание русского народа, творчество которого, по их мнению, имеет своим средоточием не сферу внешней культуры, а внутреннюю область нравственности.
- В. С т о ю н и н. Заметки о русск. школе (в Собр. пед. соч.). Срв. К а п т е р е в, стр. 346 сл.
- «Речи», 1-я речь, S. W„ VII, стр. 277.
- Особ. 4-я — 6-я речи. — Аналогичные мысли впоследствии, под несомненным влиянием Фихте, повторил в применении к германскому Северу известный датский педагог и филолог Г р у н д т в и г, основатель «высших народных школ» в Дании. Срв. глава 7, прим. 19.
- Бергман делает это в своей книге, срв. 1-ю часть и часть 3-ю, стр. 252 сл. Однако, противопоставляя взгляды Фихте педагогике Руссо, он не видит отмеченного нами глубокого их родства.
- Совершенно соответствующее первоначальному значению слова «deutsch» — народ.
- 7-я речь (VII, 364).
- Особ. 8-я речь, в частн. VII, 382.
- 13-я речь (VII, 466).
- Особ. 9-я и 10-я речи. Об отношении Фихте к Песталоцци — у Бергмана, стр. 246 сл.
- Речь 14-я, VII, 497.
- Срв. к этому параграфу нашу статью «Идея нации» в сборнике «Вопросы мировой войны», Птгр. 1916.
- См. выше гл. 2, § 2.
- Срв. выше, гл. 7, § 1.
- Срв. Фихте, VII, 329 (5-я речь). Срв. Гетево: «Was Du ererbt von Deinen Valern hast, erwirb es, urn es zu besitzen».
- В современном интернационализме это отрицание предания сказывается в отрицании всей предыдущей культуры как буржуазной и в стремлении создать на ее месте совершенно новую культуру.
- Былое и Думы. Гл. XXX (ч. IV). Изд. «Слово», II, стр. 333.
- Срв. Г е р ш е н з о н. Молодая Россия (глава о Станкевиче).
- Уже по окончании настоящей главы мы встретили в прекрасной книжке проф. Радбруха (G. R a d b r u c h, Kulturlehre des Sozialismus, b. 1922) почти дословно совпадающие с нашими формулировки: «О нации можно сказать то же, что было сказано о личности: даже самое пылкое старание достичь ее к ней непосредственно не приводит. Она только дар и благодать. Нарочитые «отечественное искусство» и «отечественная поэзия» остаются всегда в художественном смысле творениями второго сорта, великое человеческое искусство напротив, того не желая, есть вместе с тем подлинное национальное искусство: Корнет куда «национальнее», но сколь более немец Гете!.. Было часто замечено, что националисты по ту и по сю сторону границы походят друг на друга, как две капли воды»… Стр. 18, 19, 29 сл., 33. — Эти же мысли в классической форме еще раньше высказал Вл. Соловьев в «Нац. вопросе», особ, в «Открытом письме к И. С. Аксакову» (1884 г.). Срв. собр. с оч., 2-ое изд., стр. 42, 46 сл.
- См. B i n d e r, стр. 293.
- Революционный космополитизм и консервативный национализм хорошо охарактеризованы О т т о Б а у е р о м, хотя и не объяснены им в единстве общей им предпосылки. Им же даны характеристики нации в средние века и в новое время.
- Напр. Лепеллетье говорит о своем проекте: «Я ищу образования о б щ е г о д л я в с е х, приспособленного к п о т р е б н о с т я м в с е х, которое есть долг Республики по отношению ко всем, одним словом — образования п о д л и н н о и у н и в е р с а л ь н о н а ц и о н а л ь н о г о». Срв. об этом проекте Ист. Франц. Револ. (т. IV, стр. 390 сл.) Мишле, называющего его «евангелием педагогики». О педагогике Франц. Революции срв. вообще: D u m e s n i l. La pedagogie revolutionnaire. Paris. 1885.
- Или из того же проекта: «Я требую, чтобы вы декретировали, чтобы, начиная с пяти лет до десяти для мальчиков и до одиннадцати для девочек, все дети, без различий и без исключений, воспитывались сообща за счет Республики, и чтобы все они, подчиняясь священному закону Равенства, получали одинаковую одежду, одинаковую пищу, одинаковое образование, одинаковое воспитание». Срв. Dumesnil, ц. соч.
- Срв. Сен-Жерменский договор 1919 г., ст. 67 и 68. Аналогичное постановление включено и в германскую конституцию 1919 г., ст. 144.
- Мы остановились так подробно на французских представителях «областной» педагогики потому, что идея национального федерализма (быть может из оппозиции к традиционному французскому централизму) в ней выражена особенно ярко. Германская педагогика идет по аналогичному пути уже с 1867 года, когда известный германский филолог и педагог Руд. Г и л ь д е б р а н д выпустил свою знаменитую книгу «О преподавании немецкого языка в школе и о немецком воспитании и образовании вообще». В этой книге Г. выставил следующие тезисы: «1) преподавание языка должно вместе с языком открывать также и с о д е р ж а н и е языка во всей его полноте, свежести и теплоте; 2) преподаватель немецкого языка не должен ничему учить, чего ученики не могут н а й т и сами у себя, но должен обучать лишь тому, что они могут сами открыть под его руководством; 3) центр тяжести должен быть положен на ж и в у ю р е ч ь (gesprochene und gehorte Sprache), а не на письменный и усваиваемый глазом язык; 4) в е р х н е н е м е ц к и й я з ы к, б у д у ч и ц е л ь ю п р е п о д а в а н и я, д о л ж е н п р е п о д а в а т ь с я н е к а к н е ч т о с а м о с т о я т е л ь н о е, н а п о д о б и е л а т и н с к о г о я з ы к а, н о в т е с н о й с в я з и с н а р о д н ы м я з ы к о м, н а к о т о р о м г о в о р и т к л а с с» (стр. 5 — 6 2-го изд., 1879 г.). И далее: «Верхненемецкий язык должен преподаваться не в своей противоположности к народной речи, но он должен для ученика вырастать из этой последней, он должен ему являться не как вытесняющий народную речь и заменяющий ее язык, но как облагороженный се образ, наподобие праздничного платья наряду с будничным» (стр. 60). Относительно национального образования: «Hauie время стоит перед задачей заполнить те пагубные пропасти, которые разрезают надвое нашу жизнь: пропасть между слишком уже ученым книжным миром и слишком уже неученым житейским миром…, пропасть между оторвавшимся от самого себя немецким духом и питающимся от собственного своего источника немецким народом, между нашим настоящим и нашим прошлым» (стр. 112.). В этой книге (переведенной на русский яз. под заглавием «О преподавании родного языка и о национальном воспитании и образовании вообще», изд. Сабашникова, М.) дана, между прочим, замечательная критика той педагогики, которая ставит в центр преподавания языка орфографию и в этой вечно меняющейся, часто под влиянием совершенно случайных факторов слагающейся форме языка видит какое-то особое национальное достояние, на которое кощунственно будто бы посягать. О ненаучности подобной точки зрения срв. стр. 33 сл. — Идея эпизодического курса грамматики впервые была высказана в сущности еще Г е р д е р о м (Reisejournal 1769 г.): «Все должно быть предметом живого занятия! Нужно только поздно и мало записывать; притом то, что записывается, должно быть самым живым, наилучшим и тем, что более всего достойно вечности памяти. Т а к г р а м м а т и к а д о л ж н а и з у ч а т ь с я и з я з ы к а, а н е я з ы к и з г р а м м а т и к и. Так стиль должен изучаться из живой речи, а не речь из искусственного стиля». Срв. Г и л ь д е б р а н д, 75. Уже в 1891 г. съезд учителей в Познани высказался «за сохранение и культивирование диалектов».
- Такого именно взгляда на украинскую школу придерживался в сущности и родоначальник украинского движения М. П. Д р а г о м а н о в. Что украинцы есть составная часть русского народа, и положение их внутри русского народа аналогично положению провансальцев внутри народа французского — срв. Чудацкi думкi, стр. 92, 93, 112. О вреде украинского национализма: «Если мы будем исходить из мысли, что национальность есть первое и главное дело, то мы либо погонимся за призраком, либо станем слугами того, что силится повернуть вспять человеческий прогресс, и подвергнем риску, если не погубим совсем, нашу национальность. Если же мы будем исходить из мысли, что главное дело — личный и общественный прогресс, прогресс политический, социальный и культурный, а национальность есть только почва, форма и способ, то мы можем быть уверены, что, служа благу и просвещению нашего народа, мы послужим тем самым и его национальности: сохранению и росту в ней того, что в ней есть доброго», стр. 115 (заключ. слова книги). — О языке: «Мова не святощ, не пан людини, народа, а слуга його», стр. 113 — О приоритете педагогических соображений: «так в какие-нибудь 5 — 10 лет одною силою педагогических соображений начальные народные школы у нас стали бы национальными, если бы даже из них и не был вытеснен совсем русский язык», стр. 101. — Вообще основная мысль Драгоманова была, что «средством возвращения украинской нации в семью наций культурных является политическая свобода», в частности — областное самоуправление, ограничивающееся чисто культурными вопросами. Срв. «Вольный союз» опыт укр. пол.-соц. прогр. 1884 г. (цит. по «Собр. полит, соч. М. Драгоманова» Париж. 1905, т. I, стр. 290 301 и др.).
- Срв. с этим слова Оруза о результатах обучения франц. языку эгалитарной педагогики: «результаты оказываются самыми плачевными, они напоминают одежду арлекина, скроенную из кусков французских материй, но сохраняющую провансальскую кройку», ц. соч., стр. 110.
- Срв. полемику Бауэра против Риккерта в цит. книге, стр. 149 сл. Конечно, Бауэр прав, говоря, что «нация не обладает уже исторической индивидуальностью только потому, что она есть нечто просто своеобразное, отличающее ее от других. Для того чтобы стать индивидуальностью, она должна обладать ценностным своеобразием». Это совершенно верно: в наших терминах это означает, что индивидуальное укоренено в сверхиндивидуальном, национальное — в сверхнациональном, т. е. в общечеловеческом. Но Риккерт в сущности это именно и утверждает, подчеркивая ценностный характер индивидуального. Что простая своеобразная единичность не есть еще индивидуальность, — об этом см. выше гл. 9, § § 2 — 3.
- Как этого требовала «инородческая секция» 1-го Всеросс. съезда по народному образованию 1913 г.
- В свое время Петр Великий противопоставил «национальному» образованию требование хорошего образования — и создал этим нынешнюю русскую нацию.
Глава XIV. ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ понятия национального образования привел нас к выводу, что всякое образование национально, и что именно потому нет особого вида национального образования в том смысле, как мы говорим об образовании нравственном, научном и художественном. Постольку понятие национального образования явилось не столько опровержением, сколько подтверждением нашего основного положения об единстве понятий образования и культуры и о делении понятия образования на виды соответственно культурным ценностям. — Как обстоит дело с физическим образованием? Что составляет его подлинную задачу? Является ли физическое образование особым видом образования, и, значит, человеческое тело — особой ценностью в составе культуры, или, в сочетании с термином «физический», понятие образования употребляется в ином смысле, чем тот, который мы старались развить и обосновать в предыдущем изложении?
1
Еще в середине прошлого столетия под физическим образованием понимали гимнастику, — слово, в древности обозначавшее физическое образование вообще, ныне же обозначающее только один и притом наиболее механический его вид. К тому, что древние понимали под гимнастикой, в наше время более всего, пожалуй, подходит термин «спорт», постепенно вытесняющий гимнастику, и не только в англо-саксонских странах, где он давно уже стоит в центре физического образования, но и на континенте. Если «спорт», с присущим ему моментом состязания и преследования определенной последовательно все более и более затрудняемой цели, обнимает физические упражнения взрослых и детей старшего возраста, то подвижные игры являются как бы предваряющей его ступенью в детстве. Наконец, к области физического образования относится и знакомое уже нам развитие внешних чувств, которое только частично соприкасается с гимнастикой, в общем же представляет собою самостоятельную и в настоящее время подробно разработанную отрасль физического образования. Гимнастика, развитие внешних чувств, подвижные игры, спорт — таковы главные виды физического образования, под которые легко могут быть подведены и такие, например, различные течения в этой области, как ритмическая гимнастика или бойскаутизм. Замечательно, что не только эти последние течения в области физического образования, явно уже выходящие за пределы чисто телесного воспитания, но и почти все новые его системы обосновываются их создателями соображениями не столько физического, сколько общекультурного порядка. Так Далькроз и его последователи усматривают преимущества системы ритмической гимнастики в том, что она воспитывает чувство ритма, художественный вкус, музыкальность, внимание, силу воли и точность в работе, т. е. видят в ней также могущественное средство художественного и нравственного образования. Точно так же воспитание мужества, решимости, готовности к действию и самопожертвованию, послушания, презрения к боли, товарищеской солидарности составляют основные задачи бойскаутизма. Практикующиеся в нем телесные упражнения и характерная для него походная жизнь являются только средствами нравственного и, главным образом, государственно-гражданского воспитания, отчасти даже имеют прямой своей целью военную подготовку молодого поколения. Мы знаем уже, как Фребель обосновывал свои подвижные игры, а Монтессори — развитие внешних чувств: и там и здесь физическое образование имеет своей последней задачей не столько развитие тела, сколько достижение определенных художественных, нравственных и научных задач, почему об этих его видах и была у нас речь выше в соответствующих отделах теории нравственного и научного образования1. Аналогичным образом обосновываются в своем педагогическом значении и отдельные виды спорта — здесь особенно выдвигается момент общественности и самоуправления, и мы сами видели выше, как именно спортйвные организации учащихся являются средоточием самостоятельной общественной жизни англо-саксонской молодежи. Наконец, и наиболее распространенные системы гимнастики — немецкое Turnen и шведская гимнастика — обосновывались в своем значении мотивами общественного и государственно-национального порядка. Известна роль, которую Ян и другие основатели немецкого Turnen сыграли в эпоху прусского и германского возрождения начала XIX века.
Таким образом естественно навязывается мысль, что физическое образование есть в сущности не что иное, как сочетание нравственного, художественного и научного образования в применении к телу человека, как к своему материалу, и что у него нет своей особой задачи, которая но ближайшем рассмотрении не разложилась бы на уже известные нам образовательные задачи. Этот взгляд кажется тем более вероятным, что нет ни одного вида образования, который не предъявлял бы к телу человека определенных требований и, значит, ни одного отдела педагогики, в котором в той или иной форме не обсуждались бы вопросы образования тела. В пользу такого взгляда говорит, по-видимому, и то обстоятельство, что, в отличие от всех других видов образования, педагогика не может признать «культуры тела» самоцелью: еще Платон, подобно всем эллинам чрезвычайно высоко ценивший гимнастику, говорит, что, когда она у профессионального атлета вырождается в культуру мускулов как таковых, она обезображивает человека. И не свидетельствует ли в наше время популярность профессионального атлета не столько о торжестве идеала физического образования, сколько о падении вкуса толпы, о победе цивилизации над культурой, о торжестве механического начала над духовным содержанием культуры?
Однако сказать, что физическое образование не имеет своей собственной цели, но живет целями других видов образования, было бы явно ошибочно. Прежде всего, защитник самостоятельности физического образования мог бы возразить, что позади нравственных, научных и художественных целей, осуществляемых воспитанием тела, у последнего остается еще одна цель, не растворяющаяся в предыдущих, а именно — победа человека над его собственным телом. Человеческое тело должно стать покорным орудием в руках человека, его верным и как бы добровольным слугой, всегда готовым разрешать задачи, поставляемые ему человеком. Такое преодоление человеком его собственной телесной природы есть в своем роде бесконечная задача, отнюдь не совпадающая с нравственными, научными и художественными задачами воспитания тела. Эта задача совершенно аналогична задаче хозяйства, имеющего своей целью победу над природой, преображение ее слепой механической стихии в как бы добровольно осуществляющий цели культуры организм. Не есть ли и преображение тела, его подлинное очеловечение, освобождение его от власти слепой стихии — достойная задача образования? Прикрытая в наших системах физического воспитания другими целями, задача эта явно выступает во всей своей значительности в гимнастических системах Востока. И если зрелище индусского факира и вызывает в нас внутреннее несогласие и даже протест, то самый характер этого протеста, столь отличный от того возмущения, которое мы испытываем при зрелище циркового атлета, — не свидетельствует ли он о том, что протест наш направляется в данном случае не против самой цели подчинения человеком себе его собственного тела, но лишь против той односторонней гегемонии, которую эта цель за собою утвердила, подобно тому как и односторонний морализм, односторонний интеллектуализм и эстетизм вызывают в нас внутреннее несогласие?
Однако именно сравнение указанной цели с целью хозяйства показывает, что она не может служить искомой целью физического образования, способной выделить последнее в особый вид образования.<…> В силу того, что на тело человека, как непосредственного носителя его нравственной личности, переходит индивидуальный и абсолютно-ценностный характер этой последней, победа над человеческой природой, в отличие от победы над внешней живой и мертвой природой, не представляет собой никакой особой цели культуры, отличной от нравственной цели освобождения человека. Победить свою природу, направить ее на служение сверхличной цели, сделать ее послушным орудием долга, — это входит в задачу нравственности, осуществление которой преображает психофизический организм человека в сосуд его свободной личности. Достигнутое человеком господство над его собственным телом внушает нам уважение именно в силу обнаруживаемой им нравственной мощи личности и свободы. В сущности весь аскетизм ставил себе всегда эту задачу, разрешению которой нередко должна была служить строго разработанная система телесных упражнений. Но именно эти — преимущественно восточные — системы аскетической гимнастики, хотя бы упражнения факира, благодаря которым он достигает совершенно исключительной виртуозности в подчинении себе своей телесной природы, менее всего могут быть отнесены к физическому воспитанию. Скорее напротив: они характеризуются полным пренебрежением требованиями тела как такового. В этом игнорировании человеческой природы и состоит существо аскетизма: победа над своей собственной телесной природой из подчиненного момента нравственности возводится им в самоцель, свобода лишается тем самым своего положительного содержания, и победа над природой вместо обладания ею понимается как ее чисто механическое подчинение2. Но именно поэтому победа над телом, как таковая, не может служить целью физического образования. Даже мирской аскетизм Канта, умевшего каждое движение своего тела использовать в направлении положительного содержания своего долга, мы не отнесем никак к физическому образованию.
Поэтому, в поисках своеобразной цели физического образования, нам остается обратиться к области техники, в частности, к области медицинской техники, как направленной на тело человека. И действительно, новейшие течения в области физического образования определенно становятся на почву чисто физиологического его обоснования. «Физиологические цели являются единственным критерием общей подготовки тела», — говорит один из самых интересных представителей новейших течений в области физического образования К а р л Дим. Эти цели были до сих пор чрезмерно осложнены посторонними целями, именно моментом состязательности в его разнообразных формах. Подлинные цели физического образования сводятся к чисто физиологическим целям, а именно к «развитию органической силы, мускульной силы, выносливости, быстроты и ловкости»3. Не нравственная цель победы человека над находящимся в его распоряжении телесным организмом, а чисто техническая цель максимального повышения жизненной энергии и физиологической работоспособности данного организма составляет специфическое содержание физического образования. Только в этом смысле и говорят иные представители физического образования о гармоническом развитии тела как о цели физического образования. Гармоническое означает здесь не «равномерное» и не «соответствующее определенному идеалу красоты», но такое, при котором достигается максимум равновесия всех жизненных сил организма и тем самым максимум его физиологической работоспособности.<…>
2
<…>
Физическое воспитание, поскольку оно не есть… нравственное, научное, художественное и хозяйственное образование тела, но имеет свою самостоятельную задачу, есть, предмет не столько образования, сколько гигиены в широком смысле этого слова. Теория физического воспитания относится, таким образом, к группе медицинских дисциплин, составляя часть широкого понятия теории гигиены. Гигиена вообще в настоящее время совершенно немыслима без мероприятий, направленных на повышение сопротивляемости и работоспособности организма, т. е. физического воспитания. И только безнадежной отсталостью большинства наших учебников школьной гигиены, а также и нашей школьной практики в гигиеническом отношении следует объяснить обычное отсутствие в них отделов, посвященных гимнастике, спорту и другим видам физического воспитания. Ибо невозможно провести принципиальной границы между классической проблемой традиционной школьной гигиены — отысканием средств, п р е д у п р е ж д а ю щ и х, например, искривление позвоночника или ослабление остроты и силы зрения, проблемой нормального питания детского организма, способствующего сохранению им его ж и з н е д е я т е л ь н о с т и и его росту, и проблемой физического воспитания, заключающейся в «н о в ы ш е н и и е г о о р г а н и ч е с к о й с и л ы (т. е. силы сердца и легких), его мускульной силы, выносливости, быстроты и ловкости (т. е. нервной силы)». — Одна цель вырастает здесь из другой, служа ее продолжением и развитием: воспитание тела есть только углубление и расширение его питания в узком смысле этого слова. Правильнее было бы поэтому говорить не о физическом образовании, а о физическом в о с п и т а н и и — термин, подчеркивающий родство последнего с гигиеной.
Будут отделом гигиены в широком смысле этого слова, физическое воспитание выходит за пределы образования как такового. Теория физического воспитания поэтому не только не есть отдел педагогики, понимаемой как теория образования, но, напротив, она указывает границы этой последней. В самом деле, если образование имеет своей целью приобщение человека к культуре, а педагогика в смысле теории образования исследует вырастающие из этой основной цели образования частные его задачи, то задача гигиены и, в частности, теории физического воспитания — совершенно иная. Приобщая человека к культуре, образование пользуется при этом физическим организмом человека: всего человека, его душу и тело оно направляет на пути Добра, Истины и Красоты. Теория образования и указывает те цели, которые человек должен последовательно одолеть в процессе образования. Но ясно, что вся работа образования и вся его теория будут тщетны, если в процессе образования разрушится тело человека, этот носитель и орудие ею образовательной работы. Образование не только должно приобщить человека к культуре, но оно должно быть поставлено так, чтобы в процессе этого приобщения тело сохранилось, т. е., значит, повысило свою физиологическую работоспособность. Проблема образования не разрешима при игнорировании проблемы гигиены. Нравственное, научное и художественное образование могут быть осуществлены лишь на базисе физического воспитания. Отсюда следует для практика-педагога необходимость физиологического и гигиенического знания. Педагог должен знать законы жизни человеческого тела и условия сохранения им его работоспособности. Но если педагогическая практика должна удовлетворять требованиям гигиены и, в частности, физического воспитания, то отсюда не следует, что осуществление этих требований составляет ее положи тельную задачу. Теория образования должна быть дополнена теорией гигиены, прикладная философия — прикладной физиологией, и если педагогика должна соблюдать требования медицины, а последняя — служить первой, и если для практики обе они одинаково необходимы, то это не значит, что они должны быть смешиваемы в одно. Ибо и здесь, как всегда, простое смешение проблем приводит не к их синтезу, а к их затушевыванию.4
3
Определяя выше границы теории образования, мы, в качестве примеров тех проблем, которые не может разрешить теория образования, но которые должны быть разрешены педагогической практикой, привели проблемы гигиены и воспитания человеческого тела. С таким же правом, однако, мы могли бы привести и проблемы гигиены и воспитания человеческой души. В самом деле, если нельзя провести принципиальной грани между проблемой предупреждения искривления позвоночника и проблемой питания и одежды, проблемой предупреждения организма от простудных заболеваний и проблемой повышения силы сердца и легких, то точно так же нельзя провести резкой грани между всеми этими проблемами и проблемой хотя бы психической утомляемости ребенка. Сколько времени должен продолжаться урок для того, чтобы способность восприятия, внимание и память ученика не терпели ущерба? Сколько времени должны продолжаться перемены и чем они должны быть заполнены, чтобы утомленные за время урока психические способности ученика могли восстановить растраченный ими запас психической энергии? Сколько уроков должен включать в себя рабочий день? Как должны быть расположены и сколько времени должны продолжаться каникулы? — Все эти существенные для педагогической практики вопросы, очевидно, того же порядка, что и вопросы физической гигиены. Так же, как последние, они, очевидно, выходят за пределы теории образования и могут быть разрешены только на основании психологического изучения учеников. Гигиена тела должна, очевидно, быть дополнена гигиеной души, составляющей часть прикладной психологии, или психотехники. Однако и здесь известная уже нам проблематика понятия здоровья с неизбежною последовательнотью не может ограничить круг возникающих проблем задачами простого предупреждения: для того, чтобы предупредить разрушение и ослабление психических способностей человека и особенно ребенка и юноши, недостаточно простого удаления причиняющих вред их нормальному функционированию факторов, но необходимо их положительное усиление и развитие. Способность восприятия, внимания и память учеников должны быть не только ограждены от вредных влияний, но и развиты, повышены в своей жизнедеятельности, в своей сопротивляемости внешним влияниям и в своей работоспособности. Тогда только они смогут без опасности переутомления служить носителями и орудиями разрешения человеком его образовательных задач. И здесь проблема в о с п и т а н и я психических способностей ученика есть только углубление и расширение проблемы их п и т а н и я, т. е. восстановления их растраченной за время работы энергии.
Как известно, именно эти проблемы в последнее время стали предметом особенного изучения со стороны целого течения в педагогической литературе, присвоившего себе название экспериментальной педагогики. По свидетельству одного из самых крайних представителей этого направления, В. Л а я, первым экспериментально-педагогическим исследованием, положившим начало всему направлению, и было именно «Исследование о действии усталости учеников в силу умственной работы», опубликованное в 1879 г. русским психиатром Сикорским5. Не только по происхождению своему, однако, экспериментальная педагогика есть продолжение и расширение психической гигиены. К этому же выводу приводит и анализ ее современного состояния. В самом деле, если мы возьмем наиболее систематическое и также для настоящего времени наиболее полное изложение результатов экспериментальной педагогики, данное М е й м а н о м в его «Лекциях» и его «Очерке», то увидим, что значительная часть обсуждаемых здесь вопросов чисто гигиенического порядка. Сюда относятся из первого отдела, посвященного «педагогическому исследованию развития» психофизического организма человека, исследование анатомических и физиологических особенностей детского организма; антропологические измерения роста, головы, веса, груди; сравнительное по возрастам исследование работоспособности отдельных психических способностей ребенка, как то — внимания, восприятия, апперцепции, памяти, речи; а из второй части, посвященной «обоснованию педагогики посредством экспериментального анализа работы ребенка» — вопросы «гигиены умственной работы в школе», в первую очередь исследование утомляемости ребенка. К этим вопросам непосредственно примыкают, далее, вопросы воспитания психических органов человека, т. е. повышения его способности внимания, восприятия, памяти. В частности, сюда относится известное уже нам из изложения системы М о н т е с с о р и развитие органов чувств, в котором понятие развития употребляется в совершенно том же чисто биологическом смысле, в каком мы говорим о развитии силы сердца и легких или мускульной силы ребенка.
Правда, этими чисто гигиеническими проблемами охранения и повышения («питания» и «воспитания») психических способностей ребенка экспериментальная педагогика не ограничивается. В лице своих крайних представителей она притязает нередко на то, чтобы заменить собою всю педагогику вообще. Так, возражая против более осторожного Э. М е й м а н а, считающего, что «экспериментальная педагогика никогда не охватив собой в с е й педагогики», и что «систематическая переработка ее результатов всегда сохранит свое особое значение», Лай утверждает, что «экспериментальная педагогика станет со временем всей педагогикой вообще»6. В связи с этим он высказывает даже утверждение, что «учитель средней школы должен быть в первую очередь педагогическим исследователем». Главная его обязанность быть не ученым, а педагогом. Если мы, однако, обратимся к конкретным выходящим за пределы гигиены исследованиям экспериментальной педагогики, то увидим, что результаты их тем более ничтожны, чем более широкими педагогическими целями они задаются. В этом отношении особенно поучительна предпоследняя глава «Очерка» Меймана, в которой этот наиболее критически настроенный представитель всего течения излагает результаты экспериментальных исследований в области дидактики, в частности вопросы обучения чтению, письму, правописанию, обучения счету, рисованию и языку. Так, относительно правописания Мейман говорит: «Действительно окончательного решения относительно наилучшего метода обучения правописанию до сих пор не дано н и о д н и м экспериментом, и практика поступает правильно, весьма критически относясь ко всем экспериментам этого рода, имевшим до сих пор место». Относительно методов обучения чтению, разделяемых им на аналитические и синтетические, — он приходит в конце концов к выводу, что «оба типа методов имеют свои специфические преимущества и недостатки». Аналогичны и выводы остальных параграфов, почему и вполне понятны слова Меймана, которыми он заключает весь свой «Очерк»: «Вообще, — говорит он, — экспериментальный метод в педагогике ныне постепенно проникается дидактическими принципами более общего характера, благодаря чему только результаты его и получают свое правильно истолкование и применение в жизни»7.
В этих словах Меймана надо искать ключ к правильному пониманию задач, а, следовательно, и принципиальных границ экспериментальной педагогики, поскольку она выходит за пределы гигиенических проблем в узком или широком смысле этого слова. Чтобы определить эти границы, недостаточно, конечно, ссылаться на результаты произведенных исследований, которые всегда могут быть превзойдены новыми более удачными экспериментами. Необходимо проанализировать самую постановку вопросов, как их ставит экспериментальная педагогика в силу существа присущего ей метода, который только и может определить границы науки, независимо от большего или меньшего искусства отдельных исследователей. Мы и попробуем это сделать на примере экспериментально-педагогических исследований обучения письму и правописанию. Какие вопросы ставит здесь себе экспериментальная педагогика? По мнению Лая, «самыми существенными вопросами» в первом случае являются вопросы: «Должен ли быть положен в основу письменный или печатный шрифт? Какое письмо схватывается быстрее: готическое или латинское?» Во втором случае исследование исходило из вопроса: «Какой шрифт — печатный или письменный — является наилучшим наглядным средством для обучения правописанию, или оба они равноценны?»8. К этим вопросам Мейман присоединяет целый ряд других, как то: «следует ли обучение письму производить одновременно с обучением чтению? — Надо ли начинать с письма, или ему должно предшествовать рисование? Как достигается каллиграфииность письма?» И, наконец: «какое письмо предпочтительнее: прямое или косое? Положение тетради,-тела, пальцев, значение прописей, списывания, диктовки, выбор письменных принадлежностей?» Экспериментально-педагогическая проблема правописания сводится по Мейману в своей наиболее общей форме к вопросу: «каким образом научается ребенок писать слова так, как того требует конвенционально установленная система правописания?»9. Уже перечень этих вопросов показывает, что все это чисто технические вопросы, вопросы о средствах, с помощью которых возможно с наименьшей затратой психофизической энергии ученика в наиболее короткий срок разрешить совершенно определенные задачи, поставляемые ему образованием.
Разделяя скептицизм Меймана относительно результатов, достигнутых пока «экспериментальной дидактикой», мы менее всего склонны, однако, преуменьшать значение для практики образования всех подобных вопросов. Но признавая все их значение, так же как необходимость для практика-педагога знания тех методов, которыми они разрешаются, мы полагаем, что все эти вопросы относятся к области педагогики не в большей степени, чем рассмотренные нами проблемы гигиены. Если эти последние являются частными случаями основного вопроса о тех условиях, соблюдение которых необходимо для сохранения физического и психического здоровья, и о средствах, могущих повысить сопротивляемость вредным влияниям и работоспособность органов и способностей человека, — то первые сводятся к проблеме отыскания тех средств, с помощью которых разрешение отдельным учеником его образовательных задач потребует от него наименьшей затраты его физических и психических сил и сможет быть достигнуто в кратчайший срок. Мейман сам называет эту область экспериментальной педагогики «экономией и техникой работы». Под ней понимаем мы, — говорит он, — «учение о ее наиболее ц е л е с о о б р а з н о й постановке; последняя осуществлена тогда, когда работающий достигает предстоящую ему цель работы с наилучшим успехом, с наименьшей затратой силы, в кратчайшее время и с наиболее простыми средствами». В качестве примера такой техники работы Мейман берет «учение», понимая под последним «запечатление в памяти какого-нибудь определенного материала с целью его позднейшего воспроизведения. Уже это чисто механическое понятие «учения», частным случаем которого является так называемое «заучивание наизусть»10, показывает нам, как далеки проблемы экспериментальной педагогики от вопросов подлинной педагогики. Нужно ли учить наизусть? Что нужно учить наизусть? Что именно должно быть запечатлено в памяти, т. е. «выучено»? И, возвращаясь к предыдущим примерам: что такое правописание? Для чего и в какой мере должно быть оно усвоено учащимися? Очевидно, все эти вопросы должны быть уже как-то разрешены и притом совершенно определенным образом, для того чтобы можно было вообще приступить к технической проблеме экспериментальной педагогики о наиболее простой, экономной и в кратчайший срок достигающей своей цели постановке работы ученика. Действительные исследователи в области экспериментальной педагогики сами сознают границы своей науки. Так, Мейман говорит, что кроме психологии в основе педагогики лежат также этика, эстетика, логика и наука о религии, и что задача педагогики — «установить единую систему целей воспитания, нормальных правил и принципов, которым должно следовать для достижения этих целей, причем как цели, так и правила эти должны быть выведены из содержания и существа воспитательной деятельности и положения ее в совокупности человеческих стремлений». Последнее, очевидно, выходит за пределы экспериментальной педагогики, исследующей психические и физические особенности человеческого организма, а не «содержание и существо воспитательной деятельности», и составляет предмет теории образования, являющейся уже прикладной философией. Отсюда именно и почерпаются те «принципы более общего характера», которые, по признанию самого Мсймана в конце его труда, придают результатам экспериментальной педагогики впервые педагогический смысл. И если Лай, в отличие от Меймана, выводит из своей экспериментальной педагогики и принцип трудовой школы («школу действия») и «единую школьную систему» с указанием даже, в каких классах должны преподаваться иностранные языки и в каких нет11, то такая дедукция удается ему не только потому, что под трудом и действием он понимает преимущественно Движения человеческого тела, которые, как мы знаем, могут быть столь же пассивными и механическими, как и сидение в старой Школе, но и потому, что он не останавливается ни перед какими логическими скачками для того, чтобы придать своей экспериментальной педагогике возможно современную видимость. Именно экспериментальные исследования Лая, а не его чисто словесные утверждения, показывают, что экспериментальная педагогика менее всего способна схватить творчество человека и, подобно всякой технике, в состоянии установить лишь чисто механические средства, пригодные для наиболее экономного разрешения совершенно определенной ей извне поставленной задачи12.
Что экспериментальная педагогика есть в сущности техника, гораздо ближе по роду своих задач и своему методу стоящая к гигиене, чем к педагогике, показывает и следующее соображение. Всякая техника имеет свои пределы в естественно происходящих жизненных процессах. Так несомненно мы ходим и говорим согласно законам физиологии. Но было бы нелепо естественное усвоение ребенком этих навыков заменить специальными приемами обучения, выведенными на основании детального физиологического анализа движений нашего тела, только потому, что следование последним сократит время обучения ребенка этим навыкам и потребную для этого затрату его жизненной энергии до минимума. Напротив, вполне разумно и даже необходимо воспользоваться этими приемами тогда, когда естественное усвоение навыков затруднено, например, дефектами организма, или когда речь идет об усвоении произношения чужого языка, особенно в зрелом возрасте («физиологическая фонетика»). Даже питание взрослого человека вряд ли будет значительно улучшено тогда, когда, вместо того чтобы просто не противоречить гигиене, оно будет всецело строиться по ее точным предписаниям. Между тем, последнее необходимо тогда, когда речь идет о питании больного организма («диета»). Поэтому также и современное физическое воспитание, несмотря на всю свою физиологическую ориентировку, предпочитает гимнастике, строго следующей предписаниям физиологии, живой спорт, удовлетворяющий основным требованиям физиологии, но не определяющийся всецело ее предписаниями, и высказывается в пользу гимнастики против спорта только тогда, когда речь идет об явно дефективном организме (лечебная гимнастика, «Heilturnen»). Отсюда громадное значение, которое физиологическая и психологическая техника приобретают при воспитании отсталых в своем психофизическом развитии и «дефективных» детей. В связи с этим понятно, почему в этой именно области она празднует свои наибольшие успехи и почему именно отсюда вышли наиболее выдающиеся представители экспериментальной педагогики (Монтессори, Бине, Клапаред). Значение одного из главных, до сих пор нами еще не упомянутого отдела экспериментальной педагогики, весьма неудачно названного «измерением одаренности», в том именно и состоит, что, благодаря установлению психических свойств нормального (понимаемого в смысле «среднего») ребенка, открывается возможность отбора психически отсталых детей, как и психически чрезмерно развитых, с целью применения к ним специальных технических приемов воспитания. Несомненно, что если бы соответствующие ученые ясно сознавали эту скромную задачу исследования одаренности, а не претендовали реформировать с его помощью всей педагогики вплоть до распределения учащихся по соответствующим специальностям и даже раздачи стипендий на основании экспериментального измерения одаренности, эта задача была бы ныне разрешена гораздо более бесспорным и точным образом13. Все эти соображения показывают, что, как ни полезна и необходима техника в иных случаях, она не может претендовать на исключительное господство. Чрезмерное применение техники в конце концов приводит к ее саморазрушению: жизнь не поддается механизации, и искусственное построение жизни по правилам науки может иногда повести не к сокращению времени и сил, а к их ненужной растрате, совершенно аналогично тому, как наилучшая машина в неподходящей к ней хозяйственной обстановке может оказаться убыточной. Техника нужна там, где естественные навыки жизни оказываются недостаточными, а не там, где они и без техники успешно справляются с поставленными жизнью задачами.
Тем самым мы отнюдь не повторяем банального аргумента против экспериментальной и всякой вообще педагогики, противопоставляющего искусственной технике непосредственный и прирожденный педагогический талант. Талант сплошь и рядом должен прибегать к технике, но не во что бы то ни стало, а когда этого требуют обстоятельства. Наилучшая машина вредна там, где так же легко можно обойтись и без нее. Мы не отрицаем экспериментальной педагогики и признаем ее большое значение для педагогической практики. Мы только полагаем, что значение это имеет пределы, что оно — чисто технического характера, и что «экспериментальная педагогика» не только не представляет собой всей педагогики, но вообще относится не к педагогике, а к медицинской технике в широком смысле этого слова, т. е. к прикладным наукам о природе психофизического организма человека.
Показать это с исчерпывающей ясностью составляет, между прочим, одну из заслуг последнего труда М ю н с т е р б е р г а («Основы психотехники»). Все главные проблемы экспериментальной педагогики излагаются здесь впервые в строгой систематичности, как часть еще более обширного целого, называемого им «психотехникой». Эта последняя есть прикладная психология в том самом смысле, в каком агрокультура есть прикладная ботаника. Задача ее — изыскание психологических средств для достижения выставляемых культурною жизнью задач. Цели эти чрезвычайно разнообразны и выходят далеко за пределы образовательной деятельности. Поэтому психотехника имеет значение не только для учителя и воспитателя, но и для адвоката, для проповедника, для врача («найти с помощью психических факторов доступ к нервной системе пациента для того, чтобы восстановить его здоровье»), для коммерсанта («воздействовать на фантазию покупателей так, чтобы возбудить в них влечение к покупке товаров»), для фабриканта, для политика, для естествоиспытателя («организовать психические условия наблюдения так, чтобы было достигнуто возможно большее познание явлений природы»), для художника. Она применяется, таким образом, во всех областях культурной жизни и разделяется на отделы соответственно основным заданиям культуры. Психотехника в медицине, в хозяйстве, в праве, в педагогике, в искусстве, в науке — вот ее основные отделы, подробно излагаемые Мюнстербергом. Экспериментальная педагогика совершенно неправильно, таким образом, монополизировала за собою название «прикладной психологии». Она есть только один — быть может и наиболее разработанный — отдел психотехники, другие части которой никакого отношения к педагогике не имеют. — Если так, то имеет ли право этот отдел психотехники называть себя педагогикой только потому, что он занят изысканием технических средств, могущих в педагогике получить свое практическое применение? В самом деле, ведь психотехника, применяемая в правосудии, с помощью ее устанавливающем достоверность свидетельских показаний и состав преступления, не становится от этого правоведением, но остается только вспомогательной для юриста дисциплиной. Точно так же и психотехника, применяемая в хозяйственной жизни, где она служит разрешению коммерческих и производственных задач (реклама, система Тэйлора), не становится от этого частью политической экономии. Она, наконец, не становится и частью астрономии от того, что астроном с помощью ее устанавливает моменты иллюзии и самовнушения в данных произведенного им наблюдения. Очевидно, что и у психотехники, применяемой в области образования, нет никаких оснований не только притязать на то, чтобы со временем стать всей педагогикой, но и на то, чтобы считаться ее отделом, как не становятся отделом правоведения, но остаются — хотя бы и «судебной» — медициной те сведения и приемы исследования из области прикладной анатомии и физиологии, которые употребляются в судебной практике для установления состава преступления («вскрытие»). Совершено аналогично этому и экспериментальная педагогика в лучшем случае могла бы быть названа педагогической психотехникой. Применяемая в области, исследуемой педагогикой, она остается по-прежнему отделом психотехники, которая, в свою очередь, составляет часть медицинской техники в широком смысле этого слова. И если даже педагогическая практика нуждается в психотехнике в большей степени, чем практика судебная или хозяйственная, то отсюда следует только то, что педагог в большей степени, чем юрист, коммерсант или фабрикант, нуждается в психотехнической подготовке, а никак не то, что педагогическая техника составляет часть н а у к и обобразовании, т. е. педагогики. Отношение психотехники к педагогике совершенно аналогично отношению к последней гигиены, которая тоже, не входя в педагогику, составляет необходимую принадлежность научной подготовки педагога-практика. — Вопрос этот выходит далеко за пределы простой терминологии. Дело совсем не в том только, имеет ли право экспериментальная педагогика называться педагогикой, и обязаны ли мы в труде, посвященном изложению основ педагогики, входить в рассмотрение исследуемых ею проблем. Мы так подробно остановились на этом вопросе потому, что ясное разграничение практически связанных друг с другом дисциплин необходимо в интересах их собственного развития. Было бы нелепо, если бы судебной медициной занимался и преподавал ее юрист, а не медик. Вряд ли подвинулась бы вперед школьная гигиена, если бы ею занимались педагоги, а не врачи. Не потому ли и экспериментальная педагогика еще так мало может похвастать точностью своих выводов, что вместо медиков и специалистов-психологов, владеющих методами естественно-научного исследования, ею занимаются больше педагоги и философы, которые, будучи дилетантами в области биологических, в частности медицинских, наук, относятся к эксперименту не с присущим исследователю критицизмом, а с отличающим любителя суеверием? Сказать, что «экспериментальная педагогика» есть не педагогика, а техника, именно тот отдел технического знания, который исследует природу человека, это значит не только спорить о словах, это значит указать место «экспериментальной педагогики» в системе наук, границы того, что следует ожидать от результатов ее исследований, и методы, которыми она должна не на словах только, а не деле пользоваться в своей работе .
Против нашего определения экспериментальной педагогики как психотехники можно было бы возразить (как это и делает Мейман), что экспериментальная педагогика постольку шире п с и х о т е х н и к и, что она охватывает в своих практических изысканиях не только психическое развитие человека, но и его телесное развитие. Она в такой же мере есть прикладная физиология и анатомия, как и прикладная психология. Это несомненно верно. И не только потому, что естественнонаучная, или «каузальная» психология, приложением которой к практическим потребностям культуры психотехника является, теснейшим образом связана с физиологией, но и потому, что техническое значение физиологии, в свою очередь, выходит за пределы простой гигиены. Подобно тому, как понятие гигиены должно быть расширено включением в нее психической гигиены, точно так же понятие педагогической техники должно быть расширено включением в нее физиотехники наряду с психотехникой. Являясь продолжением гигиенической проблемы, уже физическое воспитание выходило за пределы гигиены в узком смысле этого слова. Физиологическая техника делает еще дальнейший шаг вперед. Ее проблема, аналогично проблеме психотехники, отличающей последнюю от психической гигиены, заключается не в установлении условий, предупреждающих заболевание организма (гигиена), и не в отыскании средств, способствующих повышению его физиологической энергии (физическое воспитание), но в отыскании средств, с помощью которых человеческий организм с наименьшей затратой физиологической энергии, простейшим образом и в кратчайший срок мог бы разрешить поставляемые ему жизнью, в частности образованием задачи. Из упомянутых нами выше проблем экспериментальной педагогики сюда относятся, например, вопросы о наиболее целесообразном положении тела во время письма, о желательности предварения обучения письму упражнениями в рисовании (Монтессори), о надлежащей величине букв на стенных таблицах и т. п. Уже из этих примеров видно, что проблемы психотехники и физиотехники тесно переплетаются друг с другом, и не только в области техники образования, но и в других областях: так например, трудно сказать, каких элементов больше в «системе Тэйлора» — психологических или физиологических. Быть может, было бы правильно говорить об единой психофизиологической технике в широком смысле этого слова, отдельными частями которой являются психофизическая гигиена (с о х р а н е н и е здоровья психофизического организма), психофизическое воспитание (п о в ы ш е н и е его жизнедеятельности) и психофизическая экономика (отыскание средств н а и б о л е е э к о н о м н о г о разрешения организмом поставленных ему жизнью задач). Поскольку идет речь о психофизической технике в ее применении к образовательной деятельности, можно все три отдела обозначить термином среднего отдела, т. е. говорить о физическом и психическом воспитании человека, тем более, что проблемы гигиены, воспитания в узком смысле этого слова и экономики незаметным образом, как мы старались это показать, переходят друг в друга. Теория психического воспитания есть, таким образом, необходимое дополнение к теории физического воспитания, и, подобно последней, она относится к группе медицинских дисциплин.
4
Произведенный нами анализ экспериментальной педагогики позволит нам резче, чем мы могли это сделать ранее, наметить систему педагогических дисциплин, а также и тех смежных с педагогикой наук, изучение которых необходимо для педагогической практики. П е д а г о г и к а в с о б с т в е н н о м с м ы с л е э т о г о с л о в а, или теория образования, распадается на отделы соответственно культурным ценностям, приобщение к которым составляет задачу образования. Теория нравственного и правового образования, теория научного образования, художественного, хозяйственного и теория религиозного образования являются ее основными отделами. Этим отделам общей педагогики, представляющим собою непосредственное приложение соответствующих философских дисциплин — этики и философии права, логики, эстетики, философии хозяйства и философии религии, противостоят специальные педагогические дисциплины — методики преподавания отдельных наук (методология математики, естествознания, истории, филологии), теорий отдельных искусств (теория поэзии, живописи, музыки и т. д.) и основных отделов теории хозяйства (сельское хозяйство, промышленность, торговля). Уже специальные философские дисциплины, будучи осознанием отдельных наук и искусств в подробностях их текущей работы, как бы непосредственно переходят в эти последние. Тем более следует сказать это о соответствующих педагогических дисциплинах, которые только в непосредственном общении с теми науками и искусствами, методиками преподавания которых они являются, могут привести к сколько-нибудь плодотворным результатам. Постольку последние являются необходимым в с п о м о г а т е л ь н ы м м а т е р и а л о м специальных педагогических дисциплин. Тем более велико их значение для самой педагогической практики и для педагогической подготовки соответствующих преподавателей. Если учитель научных предметов есть, прежде всего, живой носитель научного предания, тем лучше выполняющий свою задачу, чем интенсивнее и увереннее владеет он методом научного мышления, то и преподаватель искусств, будучи носителем художественного предания, должен быть прежде всего художником. Никакая педагогическая подготовка, как ни важна она для осознания и правильной постановки педагогической работы, не сможет поэтому заменить недостатков чисто научной, художественной и хозяйственной подготовки преподавателя научных, художественных и хозяйственных предметов. Приобщить другого к науке, искусству, хозяйству и религии может только тот, кто сам приобщился к ним и живет полной жизнью на этих путях культурного творчества.
Перечисленные дисциплины составляют педагогику в собственном смысле слова. Все они исследуют содержание и задачи образовательной деятельности и притом не столько последние цели образования, совпадающие с основными ценностями культуры, сколько те промежуточные задачи, которые, будучи посредствующими звеньями-ступенями, ведущими к этим последним целям образования, получают от них свое оправдание. Последние цели образования исследуются философскими науками, которые по отношению к совокупности педагогических дисциплин являются, таким образом, о б о с н о в ы в а ю щ и м и. При этом, если в начальных своих ступенях (игра, эпизодический курс) педагогические дисциплины исходят также из данных психологии, то, по мере восхождения своего к последним целям образования, они как бы впадают в обосновывающие их философские науки.
Тем, что педагогика, указывая человеку задачи его деятельности, исследует должное содержание его поведения, она родственна политике. Поэтому педагогические науки, как и политические, могут быть названы нормативными. Но если последние изучают задачи организации общественной деятельности людей, как они вырастают из совокупности индивидуальной культурной обстановки, определяемой уровнем исторически достигнутого и сотворенного данным обществом, то педагогические науки изучают задачи деятельности отдельного человека, поскольку они устремлены к вечным заданиям культуры, определяющим предстоящие человеку цели его творчества. Конечно, из той или иной организации общественной деятельности вытекают и нормы для поведения отдельного человека, так же как из устанавливаемых педагогикой задач деятельности отдельного человека вытекают нормы общественной организации совместной деятельности людей. И мы видели, что там, где образовательная деятельность отдельного человека выдвигает вопрос об организации образовательной деятельности общественного целого, педагогика прямо переходит в политику народного образования (школьная система, внешкольное образование, университетская политика), причем последняя, устанавливая нормы организации образовательной деятельности общества, исходит уже не из одних только философских, но и исторических соображений об уровне достигнутого данным обществом культурного богатства. Поэтому политика народного образования представляет собою часть общей политики, с другими отделами которой (экономической политикой, политикой права и т. д.) она и находится в тесном взаимодействии. Постольку политика тоже является в с п о м о г а т е л ь н о й дисциплиной педагогики.
Этим, однако, не исчерпывается круг вспомогательных дисциплин, которыми пользуется педагогическая практика. Человеческая деятельность, направленная на разрешение вырастающих из исторической обстановки и устремленных к вечным целям культуры задач, всегда связана так или иначе с преодолением природных условий существования. Познание средств, необходимых для подчинения природы, дает нам третья группа прикладных наук, именно наук технических, являющихся практическим естествознанием. Эти науки в известной мере тоже изучают «должное» поведение и постольку могут быть названы нормативными, но они устанавливают должные средства, а не должные задачи деятельности и постольку отличаются от других групп прикладных наук. Их «должное» есть только иная комбинация существующего бытия, поэтому из всех типов должного оно и носит наиболее условный и приближающийся к бытию характер. Имея своим материалом психофизический организм человека, с природой которого образовательная деятельность должна считаться при разрешении ею своих задач, педагогическая практика, как мы установили, нуждается в науках, устанавливающих средства преодоления человеческой природы. Физиотехника и психотехника являются постольку существенными в с п о м о г а т е л ь н ы м и дисциплинами педагогики. Так намечается система педагогических дисциплин, обоснование свое имеющих в философии, опирающихся на открывающееся в науках, искусствах, хозяйстве и религии содержание культуры и пользующихся помощью политики и медицинской техники.

|
(Курсивом обозначены науки обосновывающие, разрядкой — вспомогательные дисциплины).
Среди прикладных наук группа педагогических дисциплин занимает, таким образом, свое особое место. Это особое место педагогики и независимость ее по отношению к технике и политике, являющихся для нее лишь вспомогательными дисциплинами, может обеспечить ей только независимая и самостоятельная философия, обретающая в ней свое практическое приложение. Поэтому там, где философия признается в самостоятельности своих проблем и своеобразии своего метода, живет и расцветает также и педагогическая мысль. Напротив, если педагогическая мысль заглушается техническими и политическими вопросами, мы имеем все основания искать причину ее вырождения в отрицании самостоятельности философского знания. Здесь именно и коренится претензия «экспериментальной педагогики», этой по существу своему технической науки, заступить место подлинной, т. е. философской педагогики. Если философия есть не что иное, как разновидность психологии и социологии, если логика, этика и эстетика относятся к группе естественных наук о природе человека и пользуются методом естествознания, то и прикладная философия, т. е. педагогика, по необходимости совпадает с прикладным естествознанием, т. е. с техникой. Подобно всем техническим наукам, она становится тогда экспериментальной, и проблема задач образовательной деятельности совпадает в таком случае с проблемой средств, с помощью которых подчиняется культуре природный организм человека. Философский натурализм, игнорирующий самостоятельность философского знания и видящий в философии лишь часть естествоведения, питает, таким образом, претензию «экспериментальной педагогики», в основе которой лежит, следовательно, не экспериментальное знание, а философский предрассудок.
5
Анализ экспериментальной педагогики подтверждает также намечавшуюся нами уже ранее неоднократно мысль об единстве психофизического организма, равноправными сторонами которого являются взаимно переплетающиеся душевные и телесные процессы. В самом деле, если, с одной стороны, гигиена должна быть расширена включением в нее условий, соблюдение которых необходимо для сохранения человеком равновесия его п с и х и ч е с к и х сил, то, с другой стороны, и техника, имеющая целью отыскание средств, с помощью которых возможно наиболее экономное для человеческого организма разрешение образовательных задач, должна включить в себя не одни только психические данные, но и данные ф и з и о л о г и и и антропологии. Душа и тело человека в равное мере должны быть образованы в направлении культурных ценностей, по отношению к которым они, как чисто природный материал, подлежащий образованию, представляются равноценными сторонами единого и нераздельного целого. Весь человек в целом, а не одна только его часть или сторона, должен воспринять в себя ценности культуры, приобщиться к ним всем своим существом и в служении им преобразовать свой психофизический организм. Если совокупность культурных ценностей мы назовем старинным, несколько двусмысленным, но все же прекрасным именем Духа, то мы сможем согласиться с формулой Винекена, согласно которой образование имеет своей целью создание «рыцарей Духа». Но в своей сверхиндивидуальной и вместе с тем образующей индивидуальность ценности «Дух» этот в равной мере отстоит как от тела, так и от души человека, психофизический организм которого есть только сосуд, или материал, всю свою ценность и достоинство почерпающий от того содержания, которым он в процессе образования проникается.
Неразличение между «духом» и «душой», или, точнее, между сверхиндивидуальными ценностями культуры и психофизическим организмом лежит в основе отвлеченного индивидуализма, формулированного в свое время Миллем и повторенного впоследствии Спенсером. «Конечная цель человека (и следовательно образования) состоит в наивозможно гармоничном развитии всех его способностей в одно полное и состоятельное целое»… Предмет, «к которому каждый человек должен непрерывно направлять все свои усилия… есть могущество и развитие его индивидуальности». Вслед за Миллем мы могли бы повторить эти слова Гумбольдта. Только в отличие от Милля и Спенсера «развитие способностей» есть для нас отнюдь не простое развитие физических и психических сил, но всестороннее приобщение человека к целокупности культурных ценностей. Ошибка экспериментальной педагогики, выходящей за скромные пределы простой техники и выдающей себя за теорию образования, заключается именно в этом игнорировании Духа позади экспериментально исследуемой души « Поэтому «развитие индивидуальности» совпадает для нас с погружением человека в целостность сверхиндивидуальных начал, впервые образующих индивидуальность, существо которой состоит в том, что она есть незаменимая часть превосходящей ее и объемлющей ее целостности. Поэтому также «могущество индивидуальности» коренится не в ней самой, не в природной мощи ее психофизического организма, но в тех духовных ценностях, которыми проникаются тело и душа человека в процессе его образования и которые просвечивают в них как задания его творческих устремлений. Мы видели это не только на примере личности отдельного человека, но и на примере коллективной личности народа, национальная мощь которого растет в меру его творчества над общими всему человечеству заданиями культуры.
Погруженная в объемлющую ее и образующую ее целостность Духа, индивидуальность приобретает тем самым конкретный характер. Она есть особый путь, ведущий к той же цели, и своеобразие этого пути тем значительнее, чем устойчивее и ярче проявляется в нем эта общая всем путям цель, которая и делает именно этот путь особенно незаменимым в совокупности устремленных к той же цели путей. В отличие от отвлеченного индивидуализма, бессильного отстоять свою правоту против анархизма, который только последовательно до конца продумывает заложенный уже в нем самом принцип самодовления личности, конкретный индивидуализм, усматривающий существо индивидуальности в образующем ее сверхличном начале, видит в личности и общественности не два враждебных, противостоящих друг другу начала, но две стороны, или два момента единого целого. Мы можем теперь ответить Л. Толстому на его обращенный к «либеральной общественной педагогии» вопрос о «праве воспитания», т. е. о праве «одного человека делать другого таким же, каков он сам». Такого права действительно не существует: образование не может ставить себе целью воспроизведение новым поколением поколения предыдущего. Не сделать новое поколение таким же, каковы мы сами, но сделать его самим собой — задача поколения, дающего образование. Но для того, чтобы стать самим собой — мы это достаточно уже знаем, — необходимо выйти за пределы самого себя и погрузиться в сверхиндивидуальную целостность человечества. В меру этого мы только и допускали в процессе образования принуждение. Поэтому приведенное нами выше сравнение с сосудом, наполняемым содержанием, и не вполне точно. Все наше предыдущее исследование имело своей целью показать, что подлинное образование заключается не в передаче новому поколению того г о т о в о г о культурного содержания, которое составляет особенность поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему того д в и ж е н и я, продолжая которое оно могло бы выработать свое собственное новое содержание культуры. Вместе с Винекеном мы готовы признать, что юность есть «остров будущего в мире настоящего», и что это будущее имеет свою собственную ценность, перед которой должна склониться ценность настоящего. Мы можем теперь даже продолжить до конца мысль отрицающего культуру и педагогическое принуждение анархизма. Отличие подлинного образования от того «непрогрессивного приспособления к жизни», которое, составляя сущность первобытного воспитания, не знает педагогического принуждения, состоит именно в том, что в последнем новое поколение чисто природным образом просто воспроизводит поколение предыдущее. В культуре же, напротив, новое поколение не копирует, не воспроизводит, но как бы отрицает предыдущее поколение. Да, мы готовы признать, что задача наша как поколения, дающего образование, заключается в том, чтобы образовать тех, которые со временем должны отвергнуть наши нравственные убеждения, наши правовые понятия, наши научные системы и наш художественный стиль. Своеобразие культуры состоит в том, что, воспитывая в новом поколении свое собственное отрицание, она как бы сама роет себе могилу.
Но отрицание культуры кроет в себе ее вящшее утверждение. Ибо уничтожить научную систему можно только научным же методом, созданием новой научной системы, которая уничтожает свою предшественницу через ее продолжение. Голое отрицание науки, без одновременного ее утверждения, бессильно ее в подлинном смысле слова уничтожить. Так Тертуллиан, отрицая Аристотелеву науку во имя религиозной веры, без одновременного ее утверждения, смог разрушить лишь ее внешнюю организацию — школы, библиотеки, коллекции. Уже через несколько десятилетий отвергнутая греческая наука возродилась вновь — и при том в своем худшем, искаженном виде, представленная вместо подлинников третьестепенными комментаторами. Возродившегося вновь Аристотеля удалось окончательно уничтожить много столетий спустя лишь Галилею, именно потому, что Галилей отрицал, утверждая, продолжая своей системой физического миропонимания унаследованное им от Аристотеля же движение мысли, разрешая проблемы, выросшие из углубления и расширения Аристотелевой системы. Как наука может быть уничтожена только наукой, силу своего отрицания почерпающей из утверждаемого ею метода научной мысли, — точно так же и право может быть уничтожено только правом. Неправовое отрицание права может разрушить его внешнюю организацию, но, будучи бессильным создать новое право, которое заняло бы место отрицаемой правовой системы, оно приведет лишь к тому, что образовавшаяся пустота будет вскоре заполнена обломками того же самого отвергнутого старого права, которое таким образом восстановится в своем еще худшем и более искаженном виде. Только творчество новой правовой системы, которая в самом своем отрицании предыдущей продолжает все тот же унаследованный от нее метод нрава, способно длительно и навсегда уничтожить отвергаемый правопорядок. И точно так же, наконец, уничтожить наше искусство смогут только те, кто, утвердив в своем художественном стиле законы художественного творчества вообще, преодолеют в своих новых художественных достижениях историческую ограниченность и условность искусства нашей эпохи. И здесь подлинный футуризм, который хочет быть чем-то большим, чем простым анархическим бунтом против настоящего, должен укоренить свое восстание против современности в вечном передающемся от поколения к поколению творческом потоке искусства. Ибо будущее, желающее прочно утвердить себя на месте настоящего, должно укрепить себя в прошлом, вернее в том вечном, которое сообщило в свое время жизнь и этому прошлому и которое просвечивало в нем, как его последнее оправдание.
Приобщить к творческому потоку — не больше — и составляет задачу подлинного образования. В нашем исследовании мы и старались показать, как эта задача может быть разрешена на деле. Поэтому наше нравственное и правовое образование имело целью не навязать определенные нравственные и правовые убеждения, но наставить на п у т ь, которым таковые только и могут быть выработаны. Поэтому наше научное образование имело своей целью не передать учащимся определенную систему знания, но приобщить их к методу научного мышления, порождающего и низвергающего научные системы. И точно также художественное образование должно не прививать образовываемым нашего художественного вкуса и определенного художественного стиля, но вовлечь их в поток художественного творчества, причастность к которому только и может повести к созданию нового искусства, подлинного искусства будущего. Поэтому наше образование и не имеет своей задачей воспроизведения в новом поколении предыдущего во всей ограниченности уготованной ему судьбы. Если у нас нет права создавать других людей по нашему образу и подобию, то у нас есть право уничтожить себя в идущем нам на смену поколении. Да, мы слишком хорошо знаем наши грехи и бедствия нашей культуры и потому имеем право целью образования поставить ее уничтожение. Новое поколение не должно повторить нас, оно, напротив, должно обновить мир зрелищем новых культурных достижений. Но именно для этого оно должно продолжить нас в том вечном, что составляло подлинную сущность и нашей собственной жизни, что было усвоено нами от наших предков и утверждалось нами в самый тот момент, когда мы думали их окончательно похоронить. Мы достаточно жили и потому имеем право подумать о смерти. Образование, которое мы даем идущему нам на смену поколению, и есть забота о смерти. В новом поколении мы должны подготовить тех, которым предстоит нас похоронить. Но достойно похоронить — так, чтобы мертвые упокоились, чтобы они не пытались выйти из своих могил и вновь овладеть миром — могут только наследники. Забота о смерти есть, таким образом, вместе с тем забота о жизни, — о жизни наследников, которым мы должны передать полученное и нами от предков культурное богатство, не то мертвое богатство, которое составляло бремя нашего существования и которое станет его могильным памятником, но тот живой поток творчества, которому мы были причастны в моменты наивысших наших достижений и который может быть передан также только путем живого предания. Образ Сократа, вся жизнь которого была «заботой о смерти» и который, не вкладывая ничего своего в души своих учеников (не «зачиная в них»), только помогал им стать самими собой («помогал родам их духа»), остается вечным образом призвания учителя, как носителя живого, непосредственно от человека к человеку передающегося культурного предания. Не случайно Сократ ничего не оставил после себя кроме своих учеников, ради которых он умер, но в которых он и продолжает жить до сего дня, как бессмертный символ самоотречения образовательной работы, положительная сила которой заключается в отрицании ею самой себя.
Подобно тому, как игра есть игра лишь постольку, поскольку она есть не игра, а урок, подобно тому как эпизод есть эпизод лишь в меру просвечивающей в нем системы, точно так же и отрицание культуры есть подлинное и действенное ее отрицание лишь тогда, когда оно вместе с тем есть ее более глубокое утверждение. Голое отрицание перестает быть самим собой, оно вырождается в простое разрушение, за которым следует бессистемное восстановление прошлого.
Чтобы быть самим собой, чтобы сохранить себя самого, отрицание должно крыть в себе положительный момент. Этот положительный момент в отрицании есть не что иное, как творчество, открывающееся нам как единство отрицания и утверждения, как будущее, сохраняющее в себе прошлое, или, что то же, как знакомое уже нам единство предания и задания. Преодолеть прошлое через приобщение к вечному, составляющему его истинный смысл, и является подлинной задачей образования.
Литература вопроса: 1. О ф и з и ч е с к о м в о с п и т а н и и. На русск. яз. классич., но устар. труд Ф. Л е с г а ф т а. Последний по времени труд. <…>
2. Об «э к с п е р и м е н т а л ь н о й п е д а г о г и к е». Наиболее полное изложение: Э. М е й м а н. Лекции по экспер. педагогике. 3 тома, пер. А. Болтунова. Е г о ж е. Очерк экспер. педагогики, пер. А. Болгунова. (эту последнюю книжку мы цитируем по нем. изд. 1914 г.). W. A. L a у. Experimentelle Padagogik. Teubner, 1908. В i n е t. Les idees modernes sur les enfants, 1909. C l a p a r e d e. E. Psychologic de lenfanl el pedagogie experimenlale. Geneve, 1912. M u n s l e r b e r g, H. Psychology and life. 1899. Е г о ж е. Grundzuge der Psychotechnik. L., 1914 (самое интересное изложение проблемы эксп. педаг. с подробным литерат. указателем). М о n t e s s о г i. Metodo della Pedagogia scienlifica applicato. 1909 (на рус. яз. см. выше гл. 3). — Русские представители «экспериментальной педагогики» — А. П. Нечаев и Н. Е. Румянцев.
Примечания
ГЛАВА XIV
1 См. выше гл. 3.
2 См. выше, гл. 7, § 2.
3 Diem, стр. 10, 12.
4 Новейшие течения в области физического воспитания вполне подтверждают наш взгляд. Физическое воспитание все более проникается чисто физиологическим обоснованием. Старая борьба двух основных направлений — гимнастики и спорта — тем самым сглаживается: видоизменяясь согласно требованиям физиологии, гимнастика приближается к свободной игре, а спорт вбирает в себя чисто гимнастические моменты. Вырабатывается цельный тип гармонического воспитания тела в направлении всестороннего повышения его жизнедеятельности и работоспособности, в котором элементы гимнастики, спорта и гигиенического ухода за телом в узком смысле слова сочетаются в единое целое. Соответственно этому и старый тип учителя гимнастики, военного, члена гимнастического общества или спортсмена, заменяется специалистом физического воспитания, с качествами спортсмена соединяющего элементарное медицинское образование. — Срв. учебный план «Высшей школы физических упражнений» в Берлине. В России, кроме Лесгафта, стоявшего уже на этой точке зрения, взгляд этот в последнее время защищал и проводил в жизнь с особой энергией известный в Сибири деятель д-р В. С. П и р у с с к и й, создатель разрушенного во время Революции в Томске «Института физического развития» и преподаватель б. Педаг. Отд. Сиб. Высш. Ж. Курсов.
5 L a y, стр. 2.
6 Там же, стр. 13.
7 Abriss, стр. 369, 348, 432. Срв. также стр. 371: все относящиеся сюда эксперименты «дают в итоге то, что очевидно для всякого, умеющего психологически мыслить и психологически анализировать акт письма и правописания: относительно же того, что выходит за пределы очевидного, они не дают нам никаких ясных указаний, и значение их для практики было многими чрезвычайно переоценено».
8 L а у, стр. 112, 113.
9 Abriss, стр. 350 сл., 365.
10 Abriss, стр. 247, 248.
11 Lay, стр. 24 сл., 47 сл.
12 В этом отношении особенно показательны исследования Лая о постановке обучения правописанию (срв. изложение их в Expert. Padag., стр. 113 сл.). Для него цель обучения правописанию достигнута тогда, когда ученик автоматически пишет без ошибок. Поэтому все ошибки оцениваются им одинаково, и два ученика, сделавшие одинаковое число ошибок, стоят для него на одинаковом уровне в смысле обучения правописанию, независимо от качества сделанных ими ошибок. Только поэтому Лай и мог для производства своих опытов брать не слова немецкого языка, а бессмысленные сочетания букв и всю проблему обучения правописанию трактовать как проблему чисто механического запоминания. Характерно, что даже Мейман, под «учением» тоже, как мы видели, понимающий простое «запечатление в памяти с целью позднейшего воспроизведения», эту механичность опытов Лая считает их недостатком, указывая на то, что «усвоение учеником правописания зависит не только от того, что делает ученик во время отдельного упражнения — слушает ли более или пишет, — н о в г о р а з д о б о л ь ш е й с т е п е н и зависит от о б щ е г о я з ы к о в о г о о б р а з о в а н и я у ч е н и к а» (ib., 370). Как подобные эксперименты, исследующие средства чисто механического запоминания, могут привести к обоснованию трудовой школы с ее духом творчества, — непонятно — Этот пример показывает также, что эксперим. педагогика, по крайней мере у Лая, совершенно не по праву кичится своей современностью. Под обучением правописанию Лай здесь понимает то, что составляло бич именно старой школы — чисто автоматическое воспроизведение учеником конвенционально установленной системы письма. Если бы Лай не ограничивался чисто психологическими экспериментами, а, прежде чем заняться проблемой правописания, заглянул бы в филологические и общепедагогические исследования по этому вопросу, в которых устанавливается понятие правописания, его содержание и значение в составе «общего языкового образования», то он увидел бы, что, уже начиная с Гильдебранда (срв. прим. 27 предыдущей главы), современная педагогика перестала поклоняться фетишу правописания, как таковому, и понимать последнее как простое отсутствие ошибок. Но для этого, правда, Лаю пришлось бы отказаться от своего утверждения, что «учитель средней школы должен быть прежде всего психологом» и признать, что он прежде всего должен знать тот предмет, который он преподает и о котором он берет смелость рассуждать. — Срв. с этой методикой правописания результаты обучения письму по методу Монтессори, изложенные нами выше в гл. 3 (§ 6). Там тоже успешность обучения сводится к каллиграфичности письма и к поразительно быстрому сроку обучения Однако все это достигается ценою чисто механического усвоения, что видно из содержания тех фраз, которые дети Монтессори пишут.
13 В выделении слабоумных детей видит преимущественное значение «измерения одаренности» в Мюнстерберг. Grundzuge, стр. 596 сл. — Что примыкающее к измерению одаренности установление различий «типов представления» учеников (зрительный, слуховой, моторный и т. д.) тоже имеет чисто техническое значение, явствует из соображений Мюнстерберга на стр. 588 сл. Это различие может иметь совершенно р а з н о е педагогическое значение в зависимости от того, будем ли мы считать задачей образования культивирование односторонней специализации, или, напротив, возможно всестороннее развитие ученика. В первом только случае желательно соединение детей с совпадающими сочетаниями психических свойств в особые классы, во втором, напротив, правильно остаться при старом делении на классы.
Приложение
МОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
С. И. ГЕССЕН
О mihi praeieritos refcral si Juppiter annos!
О если б Юпитер возвратил мне прошедшие годы!
I. Детство
Я родился 16 августа 1887 г. в городе Усть-Сысольске Вологодской губернии, в настоящее время Сыктывкар (новое название Усть-Сысольска) — большой административный центр, главный город автономной республики Коми. 60 лет тому назад это был захолустный уездный городок, в котором было только несколько каменных зданий, а деревянные дома населения мало чем отличались от деревенских изб. Городок был местом ссылки, и ссыльные (преимущественно не окончившие курса студенты) составляли местную интеллигенцию, к которой принадлежали также местный доктор, акушерка, учителя уездного училища и два-три либеральных чиновника. Отец мой, Иосиф Гессен, был именно таким ссыльным, недоучившимся студентом-юристом Петербургского университета. Когда он был арестован и вскоре сослан на три года по делу так называемых народовольцев, ему не было еще 21 года. Мать моя, Анна Макарова, была дочерью местного мещанина, у которого отец мой снимал комнату, а воспреемниками моими при крещении, как написано в моей метрике, был «врач Усть-Сысольской земской больницы М. И. Тур и повивальная бабка М. И. Асташева», старшие представители местной интеллигенции и приятели отца. Матери своей я не помню и только значительно позже вступил в переписку с нею. Когда мне не было трех лет, окончился срок ссылки отца и он, разошедшись с моей матерью, забрал меня с собою. Два года я пробыл в деревне у родственников отца, который тем временем сдал экзамен на кандидата юридических наук при университете своего родного города, Одессы (подготовился к нему в ссылке), и вскоре потом был назначен секретарем Окружного суда г. Тулы, где начал свою успешную карьеру юриста (по специальности цивилиста). Когда мне было пять лет, отец перевез меня в Одессу и поместил в доме своей невесты, Анны Штейн, урожденной Грубер. Выданная насильно за своего мужа, значительно старшего, чем она, она разошлась с ним, имея уже от него трех сыновей, самый младший из которых был моим ровесником. Отец познакомился с ней в деревне, в имении своего дяди, родственника ее мужа, с которым она решила разойтись. Отец утвердил ее в этом намерении и помог провести процесс развода так, чтобы дети остались при матери. В ожидании конца процесса будущая жена моего отца жила с детьми в Одессе (своем родном городе), а отец в Туле, <он> приезжал в Одессу летом в отпуск, а также на Рождество и Пасху. Мерою их взаимной любви может служить тот факт, что как отец мой, очень меня любивший, не делал никакого различия между мною и новыми своими тремя сыновьями, точно так же и новая мать моя приняла меня как родного сына, относясь ко мне до самой смерти своей так, что часто вызывала ревность со стороны моих сводных братьев. Как во сне я помню себя сидевшим на столе, а на меня уставились три пары любопытных детских глаз — моих новых братьев, с которыми мне суждено было прожить вместе детство и гимназические годы, а с младшим из них, моим ровесником (старшим меня на две недели) Сеней, прожить в одной комнате и учиться в том же самом классе в течение всех гимназических лет, а также и в студенческие годы вместе провести несколько семестров в тех же университетах и впоследствии почти одновременно держать магистерский экзамен на историко-филологическом факультете Петербургского университета и начать там же преподавание в качестве доцентов. Я очень скоро вошел в новую свою семью, и только много лет спустя из переданной мне по окончании мною гимназии отцом моей метрики узнал, что так любящая меня и любимая мною мама не есть моя родная мать, а братья мои — не родные, а сводные. Открытие это не потрясло меня, а только удивило. Не повлияло оно совершенно на мои отношения к маме и братьям, навсегда и прочно установившиеся в годы детства и отрочества. …
II. Школа
В мае 1896 г. вся семья (родители и четверо мальчуганов) переехали в Ораниенбаум (дачное место около Петербурга), а осенью — в Петербург. Осенью все братья сдали экзамен в гимназию и были приняты: оба старшие брата — во второй класс, а я с Сеней — в приготовительный класс. Гимназия наша (Первая С.- Петербургская гимназия) была одной из самых старых и считалась одной из лучших правительственных гимназий в Петербурге. В гимназии этой я провел почти восемь лет и в течение всего пребывания в ней числился одним из лучших учеников (так же, как и брат Сеня). Я был весьма общительным мальчиком и имел несколько товарищей, с которыми очень дружил. Но по окончании гимназии я всех этих своих гимназических друзей растерял. То же самое должен сказать и об учителях и воспитателях. Никто из них не оказал на меня большого влияния. Не могу также сказать чтобы я вынес из гимназии солидные знания или даже привычку работать. Особенно плохо обстояло дело с языками: латинским, греческим, немецким и французским. Я это почувствовал впоследствии: немецкому языку я должен был учиться, штудируя в Гейдельберге и Фрейбурге, а свои знания латинского и греческого языков должен был усиленно восполнять, готовясь к магистерскому экзамену. <…>
Значительно большее внимание на мое развитие оказали дом, внешкольные знакомства и чтение. В младших классах я увлекался историей. Первой серьезной книгой, которую я прочитал, когда мне было 10 лет, была «Recits des temps merovingjens» Aug. Thierry. Посоветовал ее мне П. Н. Милюков, посетивший отца, затевавшего тогда издание юридического еженедельника «Право». Несколько лет спустя большое влияние на меня оказала книжка Fr. Engels'a «Происхождение семьи, собственности и государства», которую посоветовал мне прочитать Я. Штернберг, известный этнограф, возвратившийся из ссылки, приятель отца и товарищ его по революционному кружку. Книга эта была первым введением моим в марксизм. Но наибольшее влияние, вплоть до IV класса, имел на меня отец. Он руководил нашим чтением, летом во время каникул читал нам (всей четверке) вслух, в саду или в лесу — русских классиков. Вместе с ним мы перечли всего Тургенева, Гоголя, много Толстого, Щедрина, а также Белинского, Добролюбова, Писарева, Островского. Перечли вместе и много пьес Шиллера и Шекспира. Отец также следил вначале за приготовлением нами уроков, но уже от III класса ограничивался просмотром и исправлением наших домашних сочинений. Когда я был в 1 классе, было основано «Право». Уже с IV класса отец начал поручать мне чтение корректур, что имело большое значение в выработке моей грамотности и стиля. Редакция «Права» находилась в соседней квартире, соединенной с нашей. В дни редакционных заседаний члены редакции заходили к нам на обед или на чай, и я прислушивался к их разговорам на политические, юридические и литературные темы. Среди гостей чаще всего у нас бывали двоюродный брат отца, проф. В. М. Гессен, проф. Л. И. Петражицкий, проф. А. И. Каминка, проф. Н. И. Лазаревский, В. Д. Набоков и др. Более всех я любил своего дядю Владимира Матвеевича, было время, когда я видел в нем свой идеал (он был высокий, красивый, очень добрый, имел большой успех как профессор и оратор).
III. Университет
Летом 1905 г., когда я сдал экзамен на аттестат зрелости, мне не исполнилось еще восемнадцати лет. Как большинство молодых людей в то время, я был отчаянным революционером. Отец, опасаясь, что меня могут снова арестовать отправил меня с братом за границу. В конце сентября мы выехали в Берлин и затем в Гейдельберг, где записались на философское отделение. Здесь мы ходили на лекции Виндельбанда о Канте, Иеллинека — по теории государства, М. Кантора — по дифференциальному исчислению и Б. Ласка — по философии истории.
Невзирая на слабое владение немецким языком, я записался на семинар по философии истории, проводимый Б. Ласком, в ту пору еще молодым доцентом. Мою работу о доктрине прогресса у Кондорсе и у О. Конта я написал по-русски, а перевел ее на немецкий язык один молодой доцент Московского университета, который меня опекал. Несмотря на ужасный акцент, сводивший к нулю отличный стиль переводчика, работа весьма понравилась Ласку. Я доложил ее в конце семестра, и Ласк посоветовал мне перевестись на время летнего семестра во Фрейбург и заняться философией под руководством его учителя Г. Риккерта, с работами которого я познакомился уже в этом семестре.
Первый семестр в Гейдельберге имел большое, решающее значение для моей жизни. Определился характер моей последующей работы и направление моего философского развития на долгие годы вперед. Благодаря Ласку я вошел в круг философов школы Риккерта. В Гейдельберге началась моя дружба с Ф. А. Степуном, который занимался со мной немецким языком, с Б. Яковенко и с Б. А. Кистяковским, бывшим тогда уже доцентом Московского университета. Беседы с ними стали для меня замечательным введением в философскую проблематику и дали мне, быть может, более, нежели лекции профессоров, которые казались мне слишком тяжелыми и по языку, и по содержанию. В Гейдельберге я познакомился с моей будущей женой, Ниной Минор.
Последующие шесть семестров (1906—1909 гг.) я провел во Фрейбурге, в Баварии, раз в год возвращаясь на каникулы домой в Петербург.
Во Фрейбурге, кроме Риккерта, на лекции которого я всегда ходил, я слушал лекции и участвовал в семинарах таких профессоров, как Ф. Майнеке (новейшая история), Г. Шульце-Геверниц (политическая экономия) Ионы Кона (философия и психология). Все они, как и первый мой профессор, Б. Ласк, были мне не только учителями, но и друзьями. Вплоть до самой их смерти я поддерживал эти дружеские отношения. Уже после Второй мировой войны я получил письмо от последнего из оставшихся в живых моих профессоров, И. Кона, который эмигрировал в Америку в начале войны. Наша переписка поддерживалась до его кончины в 1946 г.
Из моих друзей и коллег по учебе упомяну здесь Р. Корнера и Г. Мелиса. В 1908 г. мы организовали философский кружок, в который входил тогда и наш профессор Риккерт. Не раз я устраивал там дискуссии. Главной темой наших бесед были проблемы гносеологии. Кроме философии Баденской школы, мы основательно изучали Марбургскую школу (Коген, Наторн, Кассирср), а также логику Гуссерля. Позднее вошли также Ф. А. Степун и Б. Яковспко. Здесь возникла мысль об издании «Логоса».
В начале осени 1908 г. я закончил работу «Individuclle Kausalitat» («Об индивидуальной причинности»), которая была принята Риккертом с большой доброжелательностью, а через несколько месяцев основательной подготовки, в марте 1909 г., получил степень доктора summa cum laude (Т.е. «с отличием» (лат.)). Экзамены сдал я плохо, особенно по политэкономии у профессора Шульце-Геверница, и если все же получил, summa cum laude, то лишь благодаря мнению Риккерта о моей работе и благодаря Мейнеке; оба они познакомились с моей работой во время семинарских занятий. Должен признаться, что и позднее мне также не везло на экзаменах. Насколько во время чтения докладов, а затем на своих лекциях я показывал, что могу выражать свои мысли без подготовки, настолько же на экзаменах это качество меня всегда подводило.
На семинаре у Мейнеке я прочел свою работу о политических взглядах жирондистов. Она была встречена с большим одобрением, а позднее была издана по-русски. Работа эта писалась в связи с моими занятиями Французской революцией. В 1906 г. одно издательство в Петербурге предприняло инициативу публикации речей деятелей Французской революции. Директор издательства, знавший лично меня и моего брата, предложил мне участие в переводах. От меня требовалось перевести выступления жирондистов и снабдить их примечаниями. Это была моя первая большая литературная работа. Она значительно углубила мои познания во французском языке и по новой истории благодаря разработке стиля и техники перевода. Уже не помню почему, но книга эта не вышла в свет; издательство, однако, заплатило мне за работу. Зато в 1908 г. под моим именем вышло 2-ое издание «Теории государства» Г. Иеллинека, несмотря на то что я только сверил перевод моего дяди, В. М. Гессена, исправив его и дополнив, согласно тексту последнего немецкого издания.
IV. «Логос»
Получив докторскую степень и совершив вместе с женой путешествие по Швейцарии, Северной Италии и Южной Франции, я обосновался в Петербурге, часто бывая при этом в Москве по вопросам издания «Логоса», редактируемого мною и Степуном. Это был год оживленной деятельности.
В Петербурге я сделал доклад в Философском обществе при университете и участвовал в его собраниях. Благодаря этому я ближе узнал петербургских философов старшего поколения — А. Введенского, Н. О. Лосского и И. Лапшина, С. Франка, Л. Габриловича, моих будущих коллег и друзей. В этом же году при моем участии в Петербурге было создано общество друзей философии, которое собрало все молодые философские силы (Н. В. и Д. Болдыревы, А. Вейдсман и другие, в среде которых была весьма популярна так называемая Марбургская школа). Доклады и дискуссии во время заседаний помогли мне в изучении этого неокантианского течения.
Я завязал сердечную дружбу с членом общества В. Е. Сеземаном, с которым затем вместе готовился к магистерскому экзамену.
В Москве я прочел доклад в философском кружке, собравшемся вокруг М. К. Морозовой, и стал действительным членом редколлегии издательства «Мусагет», в котором выходил «Логос». Часто бывая в собраниях «Мусагета», я встречал представителей символизма, с которыми подружился, особенно с А. Белым и Э. Метне- ром. В то время я изучал сочинения Бергсона «Время и свобода воли» и «Введение в метафизику», которого я перевел на русский язык. Изучал я также L'identite et realite («Тождественность и действительность») Мейерсона, о котором написал большую статью, переведенную затем по просьбе автора на русский язык. Начал я заниматься и русскими философами: В. Соловьевым, А. Введенским, Н. Лосским, И. Лапшиным, которых в то время совершенно не знал. Кроме того, я написал две статьи и серию рецензий для двух номеров «Логоса», а также много других статей и рецензий для газеты «Речь», главными редакторами се были П. Н. Милюков и мой отец.
В начале этого плодотворного периода Жуковским, с которым я позднее подружился, был издан мой перевод «Философии истории» Г. Риккерта.
Весной 1910 г. я был допущен к магистерскому экзамену на историко-философском факультете Петербургского университета, под условием сдачи экзаменов по древней и средневековой истории, аналитической геометрии и физике.<…>
В течение следующих четырех лет, с 1910 по 1914 г., я сновал между Петербургом и Москвой (по поводу «Логоса»), ездил во Фрейбург и Швейцарию, где в основном жила моя жена с ребенком и куда я приезжал надолго во время каникул. Летом 1910 г., кроме подготовки к экзаменам, я занимался Марбургской школой и иосе1цал лекции и семинары Г. Когена, П. Наторпа и начинавшего в то время Н. Гартмана.
Летом 1911 г. во Фрейбурге я слушал лекции по аналитической геометрии Гефтера, лекции по физике, а также посещал семинары Риккерта и Кона и принимал участие в дискуссиях прежнего философского кружка. Кроме того, я, как и раньше, писал рецензии для «Логоса» и для сборников «Новые идеи в философии», издал книгу Риккерта «Наука природы и наука культуры». Я разбрасывался так отчасти по легкомыслию, отчасти из-за необходимости заработка. Из более важных работ я написал только «Философию наказания». Две другие задуманные работы — «Проблема альтруизма» и «Ригоризм и иезуитизм в этике», написанные вчерне и с одобрением принятые во время их чтения в кружке любителей философии в Петербурге и на семинаре Риккерта, — не были закончены и никогда не публиковались. Я легкомысленно откладывал их окончание, полагая найти в будущем необходимое для этого время и постоянно упуская его, да так никогда уже к ним не возвратился.
К сожалению, и позднее я точно так же не завершил друг».Л работ, среди которых была книга по философии Канта; они отняли у меня много времени и стоили большого труда.
Это были годы тесной дружбы с Ф. А. Степуном и Б. А. Кистяковским, жившими в Москве, с В. Сеземаном и Н. Болдыревым, которые жили в Петербурге. Среди новых знакомых вспомню супругов Мережковских и В. Иванова, у которого я часто бывал в Петербурге, а также семейство Р. Б. и Н. В. Шаскольских, с которыми я познакомился во Фрейбурге. С Р. Б. Шаскольским я поддерживал тесную дружбу до самой его смерти в 1917 г., а с Надеждой Владимировной Шаскольской-Брюлловой — вплоть до моего бегства из Петербурга в Финляндию в декабре 1921 г. Во Фрейбурге же летом 1911 г. я встретил Ольгу Александровну Шор, дружба с которой стала в дальнейшем одним из важнейших событий моей внутренней жизни. Дружба эта не раз граничила с большой любовью, которая, как мне казалось, была взаимной. Однако « я упустил все возможности, откладывая решение до более удобной, как мне тогда казалось, минуты, и, отчасти по своей нерешительности, а частью также из-за обычного своего легкомысленного оптимизма, полагал, что в будущем случится что-то такое, что облегчит мой развод с женой, которой, так же, как и детей, я не решался оставить. О. А. Шор, с которой я посещал лекции математики, основательно помогала мне в подготовке к магистерскому экзамену. Беседы с ней не только углубили мой образ мыслей, склонный к банальным конструкциям, но в определенном смысле расширили мой интеллектуальный кругозор, да и все мое миропонимание. Если я никогда больше не увижу ее, то все же хотел бы, чтобы она узнала, что я до конца моих дней сохранил чувство глубокой признательности к ней, которое сопровождалось сознанием утраты огромных возможностей.
V. Начало преподавания
В конце 1912 г. я сдал все подготовительные экзамены, а в 1913 г. приступил к магистерскому экзамену, который в конце того же года сдал не наилучшим образом.
В ноябре 1913 г. прошла моя первая пробная лекция на факультете, а в летнем семестре 1914 г. я начал свою преподавательскую деятельность в качестве приват-доцента. Первая лекция, посвященная ригоризму кантовской этики, прошла весьма слабо.
Несмотря на это, образовалась группа студентов (среди них мой будущий друг Г. Д. Гурвич, позднее значительное меня превзошедший и своими трудами и популярностью), которые весьма прилежно посещали мой семинар по философии Фихте.
С Гурвичем я уже встречался на семинаре профессора Петражицкого, где он читал свой доклад и принимал участие в дискуссии. Мои отношения с профессором Петражицким, который знал меня с детства, становились все более близкими и оставались таким даже тогда, когда он разошелся с моим отцом и оставил редакцию «Права». В это же время началось мое знакомство с профессором М. И. Туган-Бараповским, которого я часто встречал у моего друга Елкина, работы которого, особенно «Курс политической экономии» и «Промышленные кризисы», я хорошо знал. Я ходил на его семинары, а затем подружился с его семьей. Он также охотно бывал у меня и даже приезжал в Царское Село, где я жил в годы войны, с 1915 по 1917 г. По воскресеньям я часто бывал у академика А. С. Лаппо-Данилсвского, беседы с которым основательно углубили мои методологические установки. Весь учебный 1913/14 г., за который я сдал все экзамены и начал читать лекции в университете, я жил у своего друга и коллеги В. Сеземана. Наш дом был не только местом собраний философского кружка, но и редакцией «Логоса», который, после ликвидации «Мусагета», начал выходить в Петербурге в издательстве М. О. Вольфа. В состав новой редакции «Логоса», который должен был выходить четыре раза в год, вошел также В. Сеземан, вместо Яковенко, уехавшего в Италию. Однако в Петербурге вышли только два номера — начало войны положило конец журналу.
VI. Военные годы 1914 — 1916
Когда в июле 1914 г. я уезжал в отпуск к жене во Фрейбург, никто еще не думал о войне. Она застала меня в Гейдельберге, откуда нам не удалось выехать из-за болезни сына. Позднее, в то время как жена и сын смогли выехать особым поездом через месяц после начала конфликта, я был задержан как гражданский пленный, и только в конце сентября, благодаря помощи Макса Вебера, получил разрешение на выезд в Швецию, подписавши обещание не сражаться как доброволец. Я познакомился с Максом Вебером и его женой Марианной еще ранее, у Риккерта, с которым часто виделся во время моего пребывания в Гейдельберге. Бывал я также и у Б. Ласка, который читал мне и группе студентов фрагменты своей новой работы. Она не была издана ввиду гибели автора на фронте. Во время моего вынужденного пребывания в Германии Ф. Степун был призван в армию в самом начале войны, а В. Е. Сеземан пошел на фронт вольноопределяющимся санитарной службы.
В отсутствие редакторов «Логос» прекратил свое существование, и после моего возвращения в Петербург в декабре 1914 г. мне не удалось возродить его к жизни.
Годы войны я провел в Царском Селе, ежедневно бывая в Петербурге, где, кроме лекций в Университете, я имел еще лекции в женской гимназии М. Н. Стоюниной, а также в мужских и женских классах Петер-Шуле при лютеранском приходе. Я читал логику, психологию и педагогику, а на факультете начал чтение лекций по истории педагогики. Педагогика была для меня совершенно неизведанной областью, однако я намеревался заняться ею всерьез. Спустя два года я уже нисколько не думал, что занялся несвойственным мне делом. Летом 1916 г. на курсах, организованных в Петербурге для учителей основной школы, я с большим успехом прочел свой первый курс лекций по педагогике.
Понятно, что преподавание в средней школе очень помогло мне в изучении педагогической теории. Помимо занятий педагогикой, я усилено работал над подготовкой ко второму магистерскому экзамену* над своей книгой по философии Канта; отдельные ее главы я представил во время чтения лекций в университете. Осенью 1917 г. черновик работы был готов; я отработал ее план, все цитаты из работ Канта поместил в соответствующих главах. Большинство разделов было закончено, остальные еще оставались в черновом виде. К сожалению, книга не была закончена. Ее черновик я возил за собой в большой папке, сначала с намерением закончить начатую работу, а позднее уже как реликвию. Я снова обратился к ней в Томске, в связи с лекциями и семинарами, посвященными философии Канта. В годы эмиграции только черпал из нее разные справки, когда, поглощенный иными темами и работой, сталкивался с проблемами, связанными с философией Канта. Когда я жил в Варшаве, большая коричневая папка с пожелтевшими уже от времени мелкоисписанными листками покоилась в ящике моего бюро. В последний раз я воспользовался сю во время Второй мировой войны, при написании очерка «О платоновских и евангельских добродетелях» и глав по философии религии Достоевского. Она сгорела во время Варшавского восстания в августе 1944 г. вместе со всеми моими рукописями.
_________________
*Это был последний, согласно приват-доцентуре, научный экзамен, состоящий в опубликовании книги и проведении дискуссий по ней на факультете. — Прим. ред.
Незадолго до войны С. Чацкина и И. Захер в тесном сотрудничестве с Г. А. Ландау начали издавать ежемесячник «Северные Записки» и предложили сотрудничество всей группе «Логоса». Я написал для «Северных Записок» целую серию статей на философские темы, участвовал в собраниях, устраиваемых редакцией журнала, который очень скоро стал популярен, особенно после публикации в нем «Писем капитана артиллерии» Ф. А. Степуна. Но мое сотрудничество с газетой «Речь», напротив, сократилось. В это время я сблизился с поэтом и литератором Г. Чулковым, который жил со мною рядом в Царском Селе. Дружба с ним значительно расширила мой литературный и лингвистический кругозор. Пушкин, Тютчев, В. Соловьев, А. Блок были темами наших долгих бесед.
VII. Февральская революция
Февральская революция изменила направление моей деятельности. Я продолжал преподавать в школах и в университете и даже работал над диссертацией, душой все же я был с теми, кто стремился удержать революцию в рамках демократического социализма. Хотя я давно порвал с марксизмом, душой, однако, я всегда был на стороне социал-демократической группировки Плеханова ("Единство"). Несмотря на мое кантианство, я, как и раньше, ощущал себя ближе правовому марксизму Плеханова, чем революционному социализму. Полагаю, что причиной тому было мое непреодолимое тяготение к Западу и мой демократический либерализм, заставляющий с подозрением относиться ко всяким проявлениям популизма. Такое умонастроение не могло принести плодов в тяжелую революционную пору. Мои статьи в «Единстве» были образчиком оторванных от реальности теоретических выводов и абсолютно бессильной позиции.
Вместо того, чтобы атаковать противников, я стремился убедить их с помощью бледных, анемичных рассуждений. Моя брошюра «Свобода и дисциплина», напечатанная в десятках тысяч экземпляров, была так же безжизненна и скучна, как и статьи, и, по всей видимости, никогда не была дочитана до конца читателями, которым она предназначалась. Еще хуже обстояло дело с моими выступлениями на митингах. Будучи неплохим и опытным оратором в студенческой аудитории, во время встреч с толпой рабочих я вызывал только раздражение. Мои отменно выстроенные фразы злили, вместо того чтобы убеждать; вскоре раздавались нетерпеливые возгласы, прерывающие мою речь и требующие ее закончить. Это вызывало во мне замешательство, не позволяющее закруглиться вовремя. В моем молодом упорстве (выглядел я тогда очень молодо) аудитория видела только упрямство самонадеянного оратора. Во время одного из таких митингов в Царском Селе я разозлил слушателей до такой степени, что мне едва удалось скрыться через черный ход, когда на меня набросились с кулаками. Впрочем, еще перед революцией, в 1916 г., я имел подобный же провал на собрании, на которое меня пригласили вместе с П. Н.-Милюковым и Ф. Ф. Зелинским. В аудитории была интеллигенция и рабочие. Уже после первых фраз они перестали слушать мои рассуждения о сущности народа и истинном и ложном патриотизме. Я не знал, как из этого выпутаться, и быстро закончил речь. Лекции же свои я, напротив, мог с артистизмом закруглять и заканчивать в течение часа. Моя речь о сущности народа была опубликована в виде статьи в сборнике «Вопросы войны» и вызвала много похвал моих коллег, а также Милюкова и Зелинского.
Несмотря на эту, вполне заслуженную неудачу, редакция «Единства», особенного Плеханов, и в дальнейшем ценила мое сотрудничество и привлекала меня к политической деятельности.
Плеханова, поселившегося в Царском Селе, я видел весьма часто и вел с ним долгие беседы. Он был обаятельным собеседником. Благодаря этим беседам я переосмыслил философские основания марксизма и открыл для себя Плеханова с такой стороны, о существовании которой и не подозревал. В своих сочинениях он был фанатичным и однобоким бойцом, и ему часто не хватало объективизма. В разговорах со мной, напротив, он был мудрецом, удивлявшим широтой кругозора и желанием как можно глубже понять оппонента. В своих работах он сражал наповал, но в нем самом не было ничего от борца. Возвратившись на родину после долгих лет эмиграции, он был сильно напуган тем, что он застал здесь, и не имел уже сил бороться со своими политическими противниками. К тому же возвратившийся туберкулез добивал его все сильнее. Когда я прощался с ним в конце сентября 1917 г., то понял, что дни его сочтены.
Отъезд из Петербурга в Томск положил конец моей бесславной политической деятельности. Еще до начала революции в Томском университете были созданы два новых факультета: естественно-математический и историко-филологический. Растущие трудности жизни в Петербурге и надежда на то, что в провинции я смогу больше времени посвятить науке, привели к тому, что я согласился ехать кандидатом в Томск. Комиссия поручила мне читать лекции по философии.
В конце сентября жена, оба мои сына и я экспрессом отправились в Томск вместе с моим новым коллегой, З.В. Дилем. Перед этим мы провели большую часть месяца в Москве. Жена прощалась с отцом и братьями, а я — с моими московскими друзьями перед отъездом в далекую Сибирь. Насколько в Москве и Петербурге на каждом шагу напоминали о себе признаки войны и революции, настолько здесь, в скором поезде, эта всеобщая дезорганизация жизни была почти незаметна. Экспресс, который отходил только раз в неделю, и прибывал во Владивосток через 10 дней, напоминал скорее некий огромный корабль, чем обычный поезд. До станции Тайга, где было необходимо сделать пересадку, поезд шел всего 4,5 дня. Поезд шел точно но расписанию, и в вагоне-ресторане еще можно было питаться по сравнительно низкой цене. Революция была предметом оживленных споров пассажиров, которые еще не ощутили ее на собственной шкуре. Через 15 дней все решительно изменилось. Наш скорый был предпоследним поездом, нормально отбывавшим из Петербурга.
VIII. Профессура в Томске
В Томске я провел четыре года. Это были годы революции и гражданской войны, эпидемии сыпного тифа и больших материальных лишений; несмотря на это, я вспоминаю эти годы с удовольствием. Факультет, в котором я сначала замещал декана, напоминал<…>* семью, не знающую ни интриг, ни взаимных подсиживаний, что так часто характеризовало провинциальные университеты. Почти все члены факультета были молодыми доцентами Петербургского университета.
_________________
*Пропуск в тексте. — Прим. ред.
В 1919 г. состав факультета пополнился профессорами Казанского и Пермского университетов, так что немногочисленный сначала факультет сделался вскоре многолюдными.<…>
Кроме работы над созданием факультета, все время мое и силы поглощали лекции и семинарские занятия, .к которым я готовился с педантической добросовестностью. В течение четырех лет я прочитал следующие курсы: логика, история греческой философии, этика и философия права, философия Канта, основы педагогики. Из семинарских занятий особенно врезался в памяти моей семинар но этике Канта. Лекции мои собирали большую аудиторию, слушали меня также юристы и даже медики, а также любители «из города» (в особенности учителя). Кроме университета, я каждое лето должен был еще читать лекции по педагогике на учительских курсах, а также в Педагогическом институте, основанном при университете для будущих преподавателей средних школ. Постепенно из меня выработался хороший и опытный академический оратор, умеющий подать товар лицом. Так как я много работал над лекциями, вставал регулярно зимою в 6 часов утра, чтобы к 10-ти иметь свежеприготовленный, подробный конспект очередной лекции, чтение лекций не развратило, а побудило меня расширить и углубить свои знания. Я продолжал в Томске усердно учиться, но на окончание диссертации о Канте у меня уже не хватало ни времени, ни сил.
Обилие лекций, работа над созданием нового факультета, деканство, общественные обязанности, связанные с профессурой, совершенно поглотили меня. Томск, однако, оставил неизгладимый след на моем научном развитии. Здесь окончательно сложилась моя система педагогики. Мои «Основы педагогики» были только детальной разработкой постепенно расширявшегося конспекта моих лекций. Курс этики и философии права, конспект которого погиб во время Варшавского восстания, представляет собою первый пласт книги, над которой я сейчас работаю («Существо и призвание права. Введение в философию права») и содержание которой излагаю в своих лекциях по философии права на юридич. факультете Лод- зинского университета. Наконец, в Томске же я очень подвинул вперед свое изучение физики Аристотеля, Галилея и «специальной теории относительности» Эйнштейна. В обществе физиков при Томском университете я прочитал доклад на эту тему (эмбрион моей позднейшей работы о физике Галилея), и дискуссия по поводу этого доклада, а в особенности частые дружеские беседы на ту же тему с В. Д. Кузнецовым (ныне членом Всесоюзной академии) очень много дали мне для углубления моих мыслей в этой области.
IX. Возвращение в Петербург и выезд за границу
Среди тем, составлявших предмет моих настойчивых размышлений и занятий, была еще одна, все более и более занимавшая меня. Была она тесно связана с разрабатываемым мною курсор» этики и философии права. Впоследствии проблематику эту, которую в зародыше и очень элементарно я представил уже в своей брошюре «о политической свободе», я назвал «проблемой правового социализма». Включала она в себя размежевание с марксизмом, развитие и обоснование концепции демократического социализма как четвертого этапа в развитии современного правового государства (1) абсолютизм, 2) либерализм, 3) новый или демократический либерализм, 4) социализм), реализующего во всей полноте идею нрав человека и его свободу. Концепция эта так меня поглощала, что ради нее я забывал реальную действительность и оценивал военный коммунизм эпохи Гражданской войны исключительно с точки зрения своего идеала правового социализма, совершенно игнорируя реальные условия крайней отсталости русской жизни, которые в значительно большей степени, нежели большевистская доктрина задавали тон всем мероприятиям и общему характеру Советской власти. Страшные условия жизни, которые настали в Зап. Сибири после падения правительства Колчака, я приписывал мероприятиям Советской власти и коммунистической доктрине и становился все более непримиримым противником последней. Правда, наблюдая во время Гражданской войны крестьянские восстания и подавление их с помощью так называемой польской дивизии, я все более отталкивался также от белого правительства, неуклонно делавшегося все более и более реакционным. Я надеялся на какой-то третий путь. Я не видел тогда, что выбор возможен только между черной реакцией и советским правительством, что русский народ выбор этот уже сделал и что советское правительство, пренебрегающее западническим наследием правового государства, было плотью от плоти русского народа, который не только сам был еще совершенно не тронут правовой культурой, но даже в лице своей интеллигенции («славянофилы», «почвенники», «народники») вменял себе в заслугу это пренебрежение к началам нрава.
Летом 1920 г. Томский университет, сразу обезлюдевший вследствие отъезда пермских и саратовских профессоров в свои университеты, послал меня в командировку в Россию, возложив на меня задачу вербования профессоров на пустующие кафедры, а также пополнения библиотек и лабораторий учебными пособиями. Я должен был также добиваться в Москве непосредственного подчинения университета Наркомнросу и сохранения, таким образом, его автономии, игнорируемой местными томскими и зап.-сибирскими властями. Во время своей почти что трехмесячной поездки я останавливался в Омске, Самаре, Москве, Петербурге, Перми. Везде жизнь представлялась мне застывшей под дыханием голода, холода, эпидемий, полного расстройства городского сообщения.
Особенно страшное впечатление произвел на меня Петербург — пустой, голодный, какой-то износившийся, без трамваев, без автомобилей и извозчиков. В Москве было более жизни, более движения, люди выглядели более бодрыми, и в домах москвичей сохранился еще традиционный московский уют.
Встречи в Москве с О. А. Шор и Ф. А. Степуном, а в Петербурге с Г. Д. Гурвичем освежили меня после трехлетней оторванности от центров русской культуры. В беседах с ними я проверил свои мысли и уточнил планы задуманных работ. В этом отношении поездка моя очень много мне дала. Зато командировка моя не имела никакого успеха. В Томск никто не хотел ехать. Все предпочитали сидеть там, где пережили, как уже казалось, наихудшие годы. Многие не хотели ехать из апатии, иные в надежде на улучшение общего положения. Мои разговоры с заместителем Наркомпроса М. Покровским убедили меня, что Томский университет мало интересует центр и что рассчитывать на его покровительство не приходится. Друзья в Москве убеждали меня переехать в Москву, петербургские друзья уговаривали вернуться в родной университет. И там и здесь предлагали мне профессуру и советовали торопиться, пока еще факультеты сохраняют право выбора профессоров. Я возвращался в Томск в убеждении, что спасти наш разбегавшийся историко-филол. факультет не удастся и что мне самому надо возвращаться в Россию. Я колебался еще между Москвой и Петербургом, и если в конце концов — уже в Томске — решил вернуться в Петербург, то потому, что мне все с большей и большей настойчивостью преподносился план отъезда моего за границу. Мне казалось, что в условиях все более прикручивающейся диктатуры я не смогу открыто высказывать своей точки зрения на марксизм, социализм, правовое государство, цели воспитания и реформу школьной системы. А так как не смогу и затаить своих мыслей на эти темы, но неминуемо попаду в конфликт с правительством, что в лучшем случае окончится удалением меня из университета. К тому же в Петербурге я узнал, что отец мой и все братья покинули Петербург и находятся в Финляндии, собираясь переехать оттуда в Берлин, где отцу предлагают стать во главе большого русского издательства. Отец советовал мне в письме, доставленном в Петербурге, переехать в Петербург и оттуда за границу, обещал свое содействие в организации переезда. Весною мне удалось отправить жену и детей в Москву, где они остановились в квартире тестя моего проф. Минора. Поздним летом и я поехал вслед за ними, отпущенный из Томска местными властями, благодаря вызову меня в Москву Наркомпросом, о котором постарались мои московские друзья.
После нескольких недель пребывания в Москве, где я добился утверждения Наркомпросом моего избрания историко-филологическим факультетом Петербургского университета на кафедру педагогики, все мы переехали в Петербург. Поселились мы в огромной пустой квартире на Васильевском острове. Одну комнату в этой квартире занимала от парадного хода молодая студентка, которой собственники квартиры поручили присматривать за их имуществом, мы же заняли две маленькие комнаты от черного хода. Середина квартиры была необитаема. Поставивши в одной из комнат железную печку («буржуйку»), которая служила одновременно и плитою, и поместивши в другой комнате запас дров, мы старались приспособиться к тяжелой петербургской зиме. Я начал лекции педагогики в университете, а также в педагогическом институте имени А. Герцена, где мне поручили курс введения в философию. Но большая часть времени уходила на физическую работу: отгребание снега, получение пайков и привезение их на санках домой, стояние в очередях и т. п. В Томске мы были оседлыми людьми, в Петербурге же оказались беженцами. Жили действительно на бивуаке, и жизнь эта казалась нам непереносимой. Поэтому ни жена, ни я не колебались ни минуты, когда в середине декабря явился у нас финн из Териок (небольшой городок, бывшая дачная местность в Финляндии, около самой границы) с короткой запиской от отца, в которой он советовал нам довериться безусловно подателю записки, имеющему перевезти нас из Петербурга в Финляндию. Забравши с собой маленький чемодан с моими рукописями (конспектами лекций и начатыми работами, среди них папку в работой о Канте) и мешок с необходимыми дорожными вещами, мы доверились нашему провожатому и на городских санках в 7 часов вечера выехали из города. За городом пересели на большие розвальни, ждавшие нас на самом берегу моря, и по льду Финского залива, наперерез между фортами Кронштадта и фортом Ино, поехали в направлении Териок. Была оттепель, и лед далеко от берега был покрыт водой и казался непрочным. Пришлось держаться довольно близко берега, но, несмотря на это, мы, не замеченные никем, без всяких приключений около 3 часов ночи переехали границу, а в 4 часа ночи были уже в Териоках, где нас встретила знакомая отца Н. Тукалевская, передавшая мне письмо отца и 1000 финских марок. Насладившись настоящим кофе с белой булкой как неслыханным угощением и выспавшись в доме нашего провожатого, мы на следующий день переехали в финский карантин, где нас ожидала транзитная виза. Покидая Петербург, я разделял общее убеждение большинства моих друзей и знакомых, что Советская власть не продержится долго. Мне и в голову не приходило, что я покидаю Россию навсегда. Впоследствии я не раз еще жестоко поплатился за свой легкомысленный оптимизм, который соблазнял меня выдавать собственные желания за реальную действительность и жить все время на бивуаке, вместо того чтобы примириться с жизнью на чужбине и стараться войти в эту жизнь, не рассчитывая на скорое возвращение на родину.
X. Берлин и Иена
После короткого пребывания в Финляндии я переехал в Берлин, где, остановившись у отца, засел за писание книги «Основы педагогики».
Книгу эту я написал в Прусской госуд. библиотеке, куда ходил ежедневно, как на службу, в течение нескольких месяцев. Закончил я ее во Фрейбурге, где провел лето 1922 г. Здесь я возобновил дружбу со своими университетскими приятелями Р. Кронсром, Г. Мелисом, J. Cohn'om, помогавшими мне ориентироваться в немецкой философской и педагогической литературе последних лет. Здесь также я познакомился с А. Коуге, С. А. Карцевским, Д. И. Чижевским, дружба с которыми много мне дала в позднейшие годы. Осень и зиму 1922 г. я провел в Иене, где усердно работал в библиотеке университета, собирая материал для истории либерализма и социализма; в Иене также основательно познакомился с сочинениями Прудона. Кроме Чижевского, также переехавшего в Иену на зимний семестр 1922 г., я близко сошелся в Иене с Dr. Flitner'oM, начинающим доцентом при кафедре педагогики, и с Miss Ida Koritchoner, которая начинала свою карьеру в World Association for Adult Education в качестве ее «travelling secretary», имеющего своей задачей завязать контакт Лондонского центра с главными центрами внешкольного образования в Германии и других странах Зап. Европы. Дружба с ними оказала большое влияние на ход моей деятельности в позднейшие годы. В Иене я прочитал два доклада — один публичный об Октябрьской революции, а другой — в Философском обществе при Иенском университете о диалектике как методе философского познания. Упоминаю об этом докладе потому, что он принадлежит к числу не написанных мною работ, о которых я писал выше. Я повторил его с успехом несколько лет спустя в Русском филос. о-ве в Праге и решил написать его, но так и не собрался. Подробно разработанный конспект его сгорел в 1944 г. В конце 1922 г. В Берлин приехала группа русских ученых, высланных из Сов. Союза, и основала в 1923 г. Русский научный институт в Берлине. Будучи привлечен к сотрудничеству, я переехал в Берлин, где в 1923/24 учебном году прочел в Институте курс лекций по логике. Во время моего пребывания в Берлине я чаще других встречался с Г. Д. Гурвичем, беседы с которым очень помогли мне в разработке правовой проблематики социализма. В конце 1922 г. в Берлин приехали также В. Е. Сеземан и Ф. А. Стспун, который привлек меня к сотрудничеству в издававшихся в Париже «Современных Записках».
XI. Прага
Осенью 1923 г. вышла в Берлине моя книга «Основы педагогики». Это облегчило моим друзьям в Праге (С. Карцевскому, привлекшему меня к редактированию основанного им в 1923 г.
журнала «Русская школа за рубежом», Г. Гурвичу, переехавшему в начале 1923 г. в Прагу) выставление моей кандидатуры на профессора педагогики в организуемом в Праге Русском педаг. институте. Весною 1924 г. я переехал в Прагу и в течение 4-х лет преподавал в упомянутом Институте, выступая также с публичными лекциями и докладами в Русском народном университете в Праге, в Русском филос. обществе и иных обществах как в Праге, так и в других городах Чехословакии, в частности также в О-ве Духновича на Подкарпатской Руси. После ликвидации Русского псдаг. института чешское правительство продолжало выплачивать мне, как и иным русским профессорам, скромную стипендию, которая, хотя и все более урезывалась с годами, была, однако, основою моего материального существования. Мне хотелось бы выразить здесь благодарность чешскому правительству за эту поддержку, позволившую мне развернуть оживленную научную и литературную деятельность. Кроме редактирования «Русской школы за рубежом», в каждом выпуске которой я печатал несколько рецензий, обзоров и почти всегда также теоретическую статью на педаг. темы, я б.ыл постоянным сотрудником «Современных Записок», «Die Erziehung» и ряда других изданий на русском, немецком, итальянском, французском, чешском и польском языках. Статьи мои печатались также в сербских, хорватских, болгарских, литовских, латышских изданиях, где я имел постоянных переводчиков.
Статьи мои пражского времени можно разделить на четыре группы: 1) по теоретической философии, из которых наиболее значительной была статья о физике Галилея в ее отношении к физике Аристотеля, 2) по социальной философии, из которых более всего времени и сил отняла у меня работа «Проблема правового социализма», печатавшаяся в виде статей в парижских «Современных Записках». Во время писания этой работы, в которой я старался уже ясно противопоставить принцип оправовления хозяйства и государства марксистской концепции огосударствления хозяйства, очень много дали мне беседы с выдающимся экономистом и статистиком, учеником А. А. Чунрова, автором превосходного учебника статистики, изданного им по-чешски, — С. Коном (S. Коnn). Я очень подружился с ним, особенно во время его продолжительной, тяжелой болезни, преждевременно сведшей его в могилу (в 1930 г). Редакция «Совр. Записок» в лице И. И. Фондаминского предлагала мне издать мою серию статей о правовом социализме отдельной книгой, но я, считая, что текст книги должен быть основательно исправлен и дополнен, все откладывал эту работу и пропустил все поставленные мне сроки. По моей вине не осуществилось также издание немецкого перевода моих «Основ педагогики», хотя уже в 1925 г. благодаря посредничеству Риккерта я заключил очень выгодный для меня договор на ее издание с фирмой Mohr (P. Siebeck) в Тюбингене. Исполненный моей петербургской приятельницей Е. Малер (впоследствии проф. русского языка в Базельском университете) и еще двумя приятелями перевод так и лежал годами непросмотренный. Приняться за редактирование перевода мне мешал какой-то комплекс недовольства своей работой. Мне казалось, что текст «Основ педагогики» должен быть основательно переработан, чтобы выйти по-немецки.
Преодолеть этот комплекс мне удалось только в 1934 — 35 году, когда я основательно переработал представленный мне чешский текст «Основ педагогики». Поэтому чешское издание этой моей книги я считаю наиболее аутентическим. Приниматься же за переработку лежавшего в ящике стола немецкого текста было уже слишком поздно. Он сгорел во время Варшавского восстания. Кроме комплекса недовольства и даже какого-то отвращения к изданным уже мною и пользовавшимся успехом работам, мешали мне приняться за переработку другие мои работы. Третью группу опубликованных мною статей составляли педагогические статьи, которые я писал по-русски преимущественно для «Русской школы за рубежом» и по-немецки (для «Die Erziehung» и других изданий). В «Русской школе за рубежом» я печатал также большое количество рецензий и обзоров, да и самое редактирование журнала отнимало очень много времени, хотя я делил труд редактирования сначала с своим другом С. А. Карцевским, а по отъезде его в Женеву с Н. Ф. Новожиловым. Наконец, была еще и четвертая группа моих статей — мои очерки о Достоевском, Вл. Соловьеве и Л. Толстом, написанные мною по-русски и по-немецки, а частично изданные также по-французски и по-польски. Очерк мой о трагедии добра в «Братьях Карамазовых» так понравился профессору В. Pares'y, директору School of Slavonic Studies, King's College, London, что по его предложению школа эта избрала меня своим заграничным членом.
Упомяну еще о неудачной попытке Б. В. Яковенко возобновления в Праге издания «Логоса» при моем активном участии. Нам удалось выпустить только один номер (в 1925 г.), в котором, кроме ряда рецензий, я напечатал также критическую статью о гносеологии Н. О. Лоского (по поводу вышедшего по-русски и по-немецки труда его «Логика»).
Годы 1926—1932 были также годами частых лекционных поездок за границу: на русском языке я читал лекции в Париже (в Русском инст. социальных знаний), в Берлине (в Русском научн. инст.), в Варшаве, в Кракове и Вильнс, в Ревеле, Ковне, Риге. На немецком языке я выступал с докладами в Кантовском обществе в Праге и в Вене, по приглашению Учит, союзов в Дрездене, Берлине и Лейпциге, по приглашению университетов в Бреславле и Мюнстере. В 1928 г. благодаря Miss Koritchoner я получил приглашение на Конгресс Wold Association for Adult Education в Cambridge, по окончании которого совершил трехмесячное лекционное турне по Англии.
Кроме лекций и докладов в центрах внешкольного образования, объединенных в Workers Association for Adult Education, я прочел также доклад в Лондонской — School of Slavonic Studies, King's College, недавно избравшей меня своим заграничным членом.
Поездка эта была для меня чрезвычайно поучительна. В Лондоне я жил в доме сотрудника «Русской школы за рубежом» Н. А. Ганца, с которым близко сошелся. Благодаря Miss Koritchoner и Н. Ганцу я имел возможность основательно познакомиться с английской педагогическою литературою и с педагогическим движением в Англии. Впоследствии я вместе с Н. Ганцем (N. Hans) издал по-английски и по-немецки книгу о педагогике и школе в Советской России. В 1929 г. Георг Кершенштейнер пригласил меня выступить с докладом на Всенемецком педагогическом съезде в Висбадене. Доклад этот на тему «Государство и школа во Франции и Англии» был вместе с прениями издан в трудах съезда, а впоследствии вышел также в расширенном виде (отдельно брошюрой) по-русски и по-немецки (в «Zeitschrift fur Ceschichte der Padagogik»). Сам Кершенштейнер не мог быть на съезде вследствие болезни, которая через два года свела его в могилу, и я по его желанию навестил его, возвращаясь из Висбадена в Прагу, в Баденвейлере, где он лечился в санатории. Беседа с ним, как и весь образ этого благородного человека, на всю жизнь врезалась в моей памяти. <…>
В 1931 г. Славистское общество, образовавшееся при немецком университете в Праге и начавшее издавать ежемесячник «Slavische Rundshau», пригласило меня в качестве сотрудника, предлагая мне одновременно лекторат русского языка при Немецком университете. Среди главных сотрудников общества и редакторов «Slavische Rundschau» наиболее деятельным был русский лингвист Р. О. Якобсон (ныне профессор в Columbia University), бывший инициатором моего приглашения. Он меня привлек также к участию в «Пражском лингвистическом кружке», одним из основателей которого был мой друг Карцсвский. В кружке этом я в 1933 г. прочел по-чешски доклад о ступенях преподавания родного языка в школе, так и не написанный мною. Впрочем, основные мысли этого доклада мне удалось впоследствии изложить в своей книге «Структура и содержание современной школы». Участие в Славист, об-ве и Лингвист, кружке, совпавшее также с моей работой над учебником русского языка, очень расширило мой лингвистический горизонт. Моими близкими коллегами были г-жа Saunova, лектор польского языка, и Кирилл Христов, известный болгарский поэт, занимавший скромное место лектора болгарского языка. С Христовым я особенно подружился в последние годы своего пребывания в Праге. Кроме Славист, об-ва при Нем. университете, я был также членом чешского Славянского института («Slovansky Ustav»), в издании которого вышел сборник о Л. Толстом с моею статьсю «Толстой как мыслитель».
<…> В годы, когда подрывная работа немецких национал-социалистов все более и более давала себя чувствовать в политической и академической жизни Чехословакии (1934 — 36), в Праге начал функционировать философский кружок, объединявший чешских (Козак, Мунажовский, Паточка), немецких (Крауз, Карнап, Утниц, Грубе), русских (Н. Лосский, Р. Якобсон) философов, лингвистов и математиков. В кружке этом я тоже в 1934 — 35 гг. представил краткое вступление и тезисы для дискуссии (на тему «Ценность и свобода»). Это был последний год моего пребывания в Праге.
Получив приглашение на кафедру в Варшаве, я уже готовился к отъезду и усиленно изучал польский язык, на котором мне предстояло осенью начать лекции. Весною 1935 г. я получил также приглашение от Дирекции фирмы Bat'a в Злине вступить в число педагогических сотрудников и лекторов организуемого фирмой в Злине Института внешкольного образования. Приглашение это было результатом прочитанного мною с успехом курса педагогики на учительских курсах, организованных образцовой школой имени Масарика в Злине. Так я по десяти годах эмигрантского существования в Праге начал наконец входить в чешскую жизнь — увы, когда отъезд мой из Праги в Варшаву был уже для меня бесповоротно решен. На решение мое оставить Прагу повлияло в особенности все ухудшающееся семейное и материальное мое положен ие. <… >
XII. Варшава
<…> Однако только осенью 1934 г., будучи снова в Варшаве, я получил официальное приглашение. Было это вскоре после Международного конгресса по моральному воспитанию в Кракове, состоявшемся непосредственно после VIII Международного конгресса по философии в Праге. На обоих этих конгрессах я прочитал доклады («О начале целостности в педагогике» и «О существе и ступенях нравственного воспитания»), опубликованные в «Трудах» Конгрессов. На съезд в Кракове я получил приглашение от Организационного Комитета Съезда, предлагавшего мне прсдседательствованис на одной из секций. После съезда я провел две недели в Татрах — в санатории Польского учит, союза в качестве гостя правления Союза. Такое исключительно внимательное отношение ко мне польских педагогических и учительских кругов не могло, разумеется, не повлиять на мое решение. Я согласился занять кафедру — но только через год, чтобы тем временем ликвидировать свои обязательства в Праге и получиться польскому языку.
Уже первый год моей профессуры в Варшаве показал, что я не ошибся в своем решении. Я очень быстро изучил польский язык так, что мог уже не читать лекций с предварительно написанной и поправленной рукописи, а говорить свободно. Писал свои лекции я только в течение первого семестра. Помогала мне в писании и стилистически выправляла мои лекции, а потом мои статьи ученица проф. Радлинской М. К. Нсмыская, которая умело руководила моими полонистическими студиями. Благодаря ей я быстро познакомился с классической и современной польской литературой, так же как и с научной литературой в области философии, социологии, педагогики. Совместная работа (я, со своей стороны, помогал ей в обработке ее социологических работ, впоследствии опубликованных Институтом общественного хозяйства) так нас сблизила, что через полтора года мы сочетались браком. Так как, уезжая в Варшаву, я фактически разошелся с первой своею женою, правовое оформление нашего развода не представляло трудностей. Разойдясь, мы остались в дружественных отношениях и продолжали регулярно переписываться. Старший сын мой, Евгений, остался с матерью в Праге, где уже несколько лет был студентом в политехникуме, будучи также (что было его главным призванием) одним из наиболее талантливых и признанных членов пражского содружества молодых русских поэтов («Скит»), младший сын, Димитрий, по окончании гимназии в 1937 г. переехал вслед за мною в Варшаву, где поступил в Университет с намерением изучать славистику.
<…> Несмотря на значительное число лекций, к которым надо причислить еще частые публичные выступления, жизнь в Варшаве укладывалась так, что я имел возможность научной работы. Курсы моих лекций сосредоточивались вокруг двух главных тем: философии воспитания и структуры школы в демократическом современном обществе. Обе эти темы давно уже были предметом моих размышлений. В двух статьях, написанных непосредственно перед переездом моим в Варшаву: (1) «О единственной школе», напечатанной в словацком журнале Naia Skola» и в польском — «Ruch Pedagogiczny» (2) «О памяти морального воспитания», доклад на Съезде морального воспитания в Кракове, напечатанный в «Die Erzichung» и в Трудах Съезда, я сформулировал проблематики, подробную разработку которых пытался представить в своих лекциях и статьях 1934 — 38 гг. Задумавши написать «Философию воспитания», которую я все подробнее и утонченнее старался разрабатывать в своих лекциях, я решил издать предварительный ее очерк в книге «О противоречиях и единстве воспитания» («О sprzecznosciach i jednosci wychowania»). Центр этой книги составляет упомянутый доклад о моральном воспитании, вокруг которого я расположил другие мои статьи, посвященные отдельным сторонам философской проблематики воспитания. Книга эта, вышедшая по-польски в 1938 г., должна была служить как бы переходом от «Основ педагогики» к «Философии воспитания». Эта последняя должна была слагаться из следующих глав:
Часть 1. Воспитание как биологический процесс (Pflege, Dressur).
Гл. 1. Категории биологич. жизни и воспитание в мире животных.
Гл. 2. Биологизм (натурализм) в теории воспитания (bcheviorism, Montessori).
Гл. 3. Опека и дрессировка в воспитании человека.
Часть 2. Воспитание как социальный процесс (Zucht).
Гл. 4. Категории социальной жизни и воспитание первобытного человека.
Гл. 5. Социологизм в теории воспитания (а) Е. Durkheim, (b) Марксизм, (с) Е. Krieck.
Гл. 6. Воспитание как социальная функция (как формирование члена социальной группы).
Часть 3. Воспитание как духовный процесс (Bildung).
Гл. 7. Категории духовной жизни: (а) ценность, (Ь) личность, (с) традиция, (d) культурные блага.
Гл. 8. Воспитание как образование (Bildung, Culture).
Гл. 9. Гуманизм в теории воспитания: (a) W. Humboldt, (b) G. Gentile)
Часть 4. Воспитание как спасение (Erlosung).
Гл. 10. Психоанализ как светская теория спасения.
Гл. 11. Догматизм религиозной педагогики.
Гл. 12. Реальность Царства Божия и воскресение человека.
Чтобы дать более близкое представление о содержании книги, приведу здесь схему антропологии, лежащей в основе моей философии воспитания. Жизнь человека протекает одновременно в четырех планах, причем высшая плоскость человеческого бытия наслаивается на низшей, оформляет ее, не нарушая, однако, ее внутренней законосообразности.
|
Основная корреляция |
Ступени любви |
Ступени бессмертия |
Планы воспитания |
Ступени счастья |
|
1. План биологического бытия |
||||
|
Биологич. особь — биологич. вид наследственность |
Половое вожделение |
Бессмертие в потомстве |
Опека и дрессировка(Pflege und Dressur. Care and Training) |
Наслаждение |
|
2. План общественного бытия |
||||
|
Индивид — социальная группа: власть |
Appetitus socialis, attachement au groupe social |
Длительность группы во времени, «обычное» предание (воспроизводящее прошлое) |
Обработка молодого поколения соответственно потребностям группы |
Триумф Success |
|
3. План духовной культуры |
||||
|
Личность - духовное общение: ценность |
Эрос (любовь совершенного, любовь ценностей; «любовь к дальнему») |
Историческое бессмертие в прекрасных произведениях и занятиях, творческое предание (преодолевающее прошлое) |
Образование (Bildung, Culture), соучастие в культурных ценностях. SelCrealization of personality |
Удовлетворение от исполненного долженствования («Ты им доволен ли, взыскательный художник») |
|
4. План благодатного бытия |
||||
|
Душа человека – Царствие божие Бог |
Cantas (Любовь к ближнему и любовь к Богу как потенцированная любовь к ближнему) |
Личное бессмертие |
Спасение (Erlosung, Deliverance, the super — spiritual process of making one's soul free from Evil) |
Радость (joie, joy) |
Соответственно планам жизни человека, и образование — сложный процесс, одновременно биологический, социальный, духовно-культурный и духовно-благодатный. Животное живет только в плане биологическом, и потому воспитание в мире животных не выходит за пределы опеки и дрессировки. У первобытного человека воспитание не выходит за пределы «обработки», воспроизводящей обычай. Античная культура за немногими исключениями не выходила за пределы «образования» — план Эроса. Главные направления в педагогике можно классифицировать соответственно этой схеме; натурализм сводит весь процесс воспитания к первому его слою — опеке и дрессировке, социологизм — ко второму слою — обработке молодого поколения соответственно потребностям (интересам) соц. группы, гуманизм — к третьему слою — образования. Моя собственная точка зрения в «Основах педагогики» не выходила за пределы гуманизма. — Подробно разработанный конспект «Философии воспитания» был уже готов в 1937 г. Пользуясь им при своих лекциях на эту тему, я постоянно дополнял и шлифовал его вплоть до Варшавского восстания, во время которого он погиб вместе с другими моими рукописями.
Значительно более посчастливилось мне с книгой на вторую мою тему: «Структура и содержание современной школы». Я писал ее (сразу по-польски, так же как и книгу «О sprzecznosciach i jednosci wychowania») частями в 1937 — 38 гг., используя некоторые статьи свои, ранее уже опубликованные, и одновременно излагая ее на своих лекциях. К началу 1939 г. книга была уже готова, проредактирована систематически женою и приятелем моим В. Радваном и весною отдана в набор. В середине августа я подписал последнюю корректуру ее к печали, но было уже поздно. Набор ее был уничтожен во время военных действий в сентябре 1939 г. К счастью, у меня сохранился экземпляр корректуры, уцелевший также во время Восстания. Дополненный и исправленный мною текст этой книги уже напечатан и должен на днях поступить в продажу.
Среди работ, выполненных мною в довоенные годы в Варшаве, я хотел бы еще упомянуть мою небольшую статью о Ломбардо-Радиче, написанную по поводу его смерти для журнала «Przedszkole». В журнале этом в гг. 1937 — 38 и 1938 — 39 печаталась (в сокращении) книга Л.-Р. «Education infantile». Перевод этот, проредактированный мною, должен был вместе с моею статьею о Ломбардо-Радиче выйти отдельной книжкой. Набор этой книги тоже погиб в сентябре 1939 г., и до сих пор мне еще не удалось найти полного собрания выпусков «Przedszkolc» с текстом книги и моей статьи о Л.-Р. Однако я не теряю надежды найти эти номера в какой-нибудь провинциальной библиотеке и думаю, что мне удастся найти также издателя для книги Ломбардо-Радиче. Смерть его была тяжелым для меня ударом. Я познакомился с Ломбардо-Радичс в 1925 г. — заочно, и переписка наша продолжалась до самой его смерти. Моей мечтой было поехать в Италию и завершить нашу заочную дружбу личным знакомством. Изучение работ Ломбардо-Радиче очень много дало мне для углубления моих педагогических взглядов. Я выразил свою высокую оценку его педагогической концепции в своем очерке «Schuola serena», напечатанном в «Die Erziehung» и вошедшем в мою польскую и чешскую книгу «Школа и демократия». В упомянутой короткой статье я пытался выразить также свое восхищение личностью Ломбардо-Радиче как учителя, писателя, общественного деятеля, как человека — не только на основании его сочинений, но и корреспонденции, тщательно мною хранившейся. Увы, все его письма погибли в огне Варшавского восстания, так же, как висевший в моем кабинете прекрасный портрет его — гравюра, подаренная мне его вдовой, и несколько фотографий его, хранившихся в моем письменном столс. — В январе 1939 г. я закончил также работу над сравнительно большим очерком (50 стр.) «Русская педагогика в 20 столетии». Очерк этот я начал писать по заказу доцента Нем. пражского университета К. Grube, преждевременно умершего в 1935 г. Этот страстный противник гитлеризма, автор прекрасных книг о педагогике W. Humboldt'a, предполагал издать в Akademischer Verlag в Halle несколько моих работ, а также серию небольших книг о современной педагогике в славянских странах. Мой варшавский коллега Б. На- врочинский (В. Nawroczynski) написал для него книжку о польской педагогике, которую я по его просьбе перевел с польского на немецкий язык. Неожиданная смерть К. Грубе помешала осуществлению этих планов. В «Akademischer Verlag» успела выйти только моя книжечка о судьбе педагогики Монтессори, Наврочинский издал свою книжку по-польски. Я же закончил писание своего очерка о русской педагогике, в котором даю изложение и критику также собственных своих взглядов, по настоянию своих сербского и польского издателей. Так как я начал писать очерк, рассчитывая издать его также по-чешски, то писал я его по-русски. Он вышел по-сербски, безжалостно сокращенный — в сборнике о русской науке, изданном ред. белградского журнала «Учитель» («Учител») в 1939 г. Недавно я получил полную копию его, сохранившуюся в Праге. Издание его в настоящее время требовало бы значительных дополнений и ретуши соответственно духу времени. Упомяну еще, что во время моего пребывания в Варшаве я был избран действ, членом Варшавского философск. общества, а также почетным членом Хорватского научного общества в Загребе. Инициатором последнего избрания был проф. Бук-Павлович, с которым я познакомился на Филос. конгрессе в Праге.
XIII. Годы воины 1939 — 1945
Война меня застала в Варшаве. Вернувшись с летнего отдыха, я спешил закончить статью о педагогике в государствах тотальных, заказанную мне редакцией Лондонского «Year Book of Education». В своем легкомысленном оптимизме я был убежден, что все как-то образуется, и война будет в последний момент предотвращена. Уже через неделю после начала военных действий мы должны были эвакуировать нашу квартиру и переехать в центр города (к сестре жены). Когда после сдачи Варшавы мы вернулись на свою квартиру, нашли ее нетронутой внутри, но с выбитыми стеклами и поврежденными рамами окон и дверей от осколков снарядов. К тому же центральное отопление не действовало из-за полного отсутствия кокса и угля, электрическая станция и водопровод были разрушены. Кое-как прожили мы в нашей квартире до конца ноября. Наступала зима, деньги все вышли, заработков не было никаких (все высшие учебн. заведения были немцами закрыты, а здание Wszechnicy с прекрасной библиотекой, в том числе превосходной библиотекой моего семинария, сгорело во время военный действий). Жена настояла на моем отъезде в деревню, нашедши мне место домашнего учителя в семье знакомого деревенского мельника в 60 км. от Варшавы и 12 км. от станции жел. дороги, сама же решила остаться в Варшаве, живя у сестры своей и работая в польской организации самопомощи. В кухне нашей (единственном теплом помещении с целыми стеклами) остался жить мой сын, которому удалось убежать из лагеря военнопленных (он пошел добровольцем па войну и попал в плен после капитуляции). Жена несколько раз в неделю приходила домой, готовила сыну обед, а весною начала понемногу с помощью сына приводить квартиру в порядок, ремонтировать окна, стены и т. д. Я тем временем готовил дочку мельника на аттестат зрелости, а сына его и племянницу в первый класс гимназии. Раз в 3 — 4 недели я приезжал в Варшаву, привозя жене и сыну деревенские продукты. Хотя в деревне условия жизни были вполне сносные (главное: чудесная природа и полное отсутствие немцев), я был так ошеломлен происшедшим, что не мог приняться за работу над своими темами и в глубине души с удовольствием сам учился со своей милой и способной ученицей физике, химии, польской литературе, всеобщей истории и другим предметам, входящим в программу экзамена зрелости, с особенным наслаждением я решал задачи но математике и физике. В шопе жена приехала ко мне в деревню, и в июле мы вернулись на нашу квартиру, тем временем совсем уже отремонтированную. За месяцы моего отсутствия жизнь в Варшаве как-то наладилась. Жена получила работу в учреждении, в котором она работала до войны (Институт обществ, хозяйства) и которое, замаскировавшись в легальном комитете самопомощи, занималось социологическим обследованием жизни варшавского населения под немецкою оккупацией. Академическое начальство (нелегальное) начало выплачивать профессорам скромное жалованье, а студенты дополнительно платили за участие в начавшихся «комплетах» (группах в 5 — 15 человек) и за экзамены. Специализировавшись уже на аттестате зрелости, я имел еще учеников средней школы (средние школы тоже были немцами закрыты). Сын же мой специализировался на уроках немецкого языка. После более чем полугодового бездействия (в своей области) в деревне я жадно принялся за работу, в течение двух месяцев я написал большой очерк (давно уже мною задуманный и лежавший несколько лет без движения в подробном конспекте) «Философия религии Достоевского». Написал я его вчерне по-русски, потом по-немецки, а потом начисто по-русски. Из всех моих работ о Достоевском эта, несомненно, была наилучшая. Я намеревался издать ее как последнюю главу книги, в которую вошли бы все статьи мои о Достоевстком, Вл. Соловьеве и Льве Толстом. По окончании этого очерка я тотчас же принялся за писание большого очерка «Платоновские и евангельские добродетели» (доклад на эту тему я прочел весною 1939 г. в Варшавском историческом обществе). Очерк этот я написал вчерне по-русски, потом по-польски и потом начисто по-русски. Из всех копий обеих этих моих работ сохранилась только польская копия «Добродетелей». Я собираюсь се в ближайшее время заново пересмотреть и дополнить, издателя для нее я уже имею.
Зима 1941 г. (почти все время без электричества, при карбидовой лампе, при железной печурке в одной комнате) была тяжелая. Но мне уже не хотелось покидать Варшавы, где были ученики, были последние новости (не только немецкие газеты, но и нелегальные бюллетени, начавшие уже регулярно выходить), были жена и друзья. Зимой этой организовался собравшийся у нас в квартире семинарий, в котором принимали участие некоторые мои ученики, коллеги жены и мой коллега, проф. Суходольский. В этом семинарии я изложил свою теорию развития социализма от утопич. социализма до гильдеизма и свою концепцию марксизма. Дискуссия расширила рамки моего изложения: я включил в него разбор итальянского фашизма и немецкого национал-социализма, так же как и развитие советского хозяйства. Постепенно в уме моем складывался план большого труда, состоящего из трех частей: 1. Мнимое и подлинное преодоление капитализма, 2. Упадок демократии и ее возрождение, 3. Духовный кризис и его преодоление. В мае 1941 г. группа моих бывших слушательниц (учительниц и руководительниц движения молодежи) обратилась ко мне с просьбой изложить мои мысли о плановом хозяйстве, демократии, организации школы. Так начались мои лекции на указанные выше темы, имевшие очень большой успех в варшавском обществе.
Каждая лекция, на которой присутствовало от 6 до 20 участников тайного «комплета», длилась 2 — 3 часа (я говорил 1,5 — 2 часа, причем лекция перемежалась задаванием мне вопросов и дискуссией, бывшей более или менее оживленной в зависимости от состава слушателей).
Обыкновенно квартира менялась, чтобы не вызывать подозрений немецкой полиции и шпионов. Чаще всего я укладывал весь курс в 12 лекций (четыре на каждую из трех частей, но были «комплеты» в 9 и в 15 лекций). За все время я провел более 20 таких комплстов. Состав слушателей был очень разнообразный: были комплеты студенческой молодежи, учителей, писателей, общественных работников и иных. Один комплот я провел в деревне — в нем участвовали сельские учителя и хозяева (крестьяне). Один комплет — в салоне графини С., участники его были представители варшавской аристократии (впрочем, очень левого, радикального умонастроения). За каждую лекцию (2 — 3-часовую) я получал от 20 до 30 злотых, а так как очень скоро уже я почти ежедневно имел «комплет» (или на тему «моего» курса или университетский — на педагогическую или философскую тему), я ежемесячно зарабатывал более 500 злотых, что было уже в то время большим подспорьем. Разумеется, вознаграждение это было совершенно несоизмеримо ни с трудом, ни, главное, с опасностью, связанной с нелегальными лекциями. Часто приходилось тащиться в переполненных трамваях и пешком по затемненным улицам на другой конец города с риском наткнуться на немецкий патруль, обыскивающий всех проходящих и арестовывающий в зависимости от интуиции офицера. Неожиданный перерыв в трамвайном сообщении мог вызвать задержку и несоблюдение «полицейского часа» при возвращении домой (всех прохожих, не имеющих спсциальн. пропуска, патрули задерживали после полицейского часа, который устанавливался на 8, а иногда на 9 или 7 часов вечера в зависимости от вдохновения коменданта Варшавы). Обыкновенно лекции имели место пополудни (4 — 7 часов вечера), так как большинство слушателей работали, утренние «комплеты» были редкостью. Несколько раз я был уже на грани ареста, но какая-то интуиция опасности меня хранила. Два раза я только благодаря случаю не пришел в условленную квартиру, где неожиданно немцы пришли с обыском. Несколько участников этого «комплета» были арестованы и посланы в лагеря, и такая же участь постигла бы и меня, если бы не перерыв в трамвайном сообщении, благодаря которому я не мог приехать в условленное время. (Второй раз меня успели предупредить об обыске.) Несмотря на все это, я с удовольствием ходил на «комплоты», на которых всегда можно было услышать какую-нибудь военную или политическую новость, а вопросы, задаваемые мне слушателями, и дискуссия очень помогали мне при разработке моего курса, а впоследствии при писании книги.
Из «комплетов» этого рода особенно удачным был один на предместье «Жолибож» (Zoliborz), куда трамваем надо было ехать три четверти часа. Участниками его были члены организации бойскаутов. Все они принадлежали к боевой организации, и трое из них вскоре погибли в уличном бою с немцами.<…> Я принялся за писание первого тома «Мнимое и подлинное преодоление капитализма» в мае 1942 г. При работе я пользовался, кроме собственной библиотеки, библиотекой Ин-та обществ, хозяйства, часть которой была укрыта в нашей квартире, а также богатой библиотекой Высшей коммерческой школы, которая, хотя и была под надзором немецкого чиновника, но фактически оставалась в заведовании польского персонала, хорошо меня знавшего. Работа пошла очень быстро. К ноябрю 1942 г. было уже написано 150 стр. (Гл. 1. Обострение внутренних противоречий в финансовом капитализме. Гл. 2. Фашизм и нацизм мнимо преодолевают капитализм для его поддержания. Гл. 3. В СССР компартия в бешеном темпе «переваривает» одну шестую часть земн. шара в котле капитализма, одновременно стремясь к его реальному преодолению. Гл. 4. Процесс преображения собственности в последней фазе капитализма. Гл. 5. Что такое подлинная социализация собственности?) Последние две главы я написал в деревне около Седлсц, где провел несколько недель в гостях у своего ученика И. Петрочука, выдающегося крестьянского деятеля (сельского учителя), уже после войны убитого политическими бандитами за то, что, вступив в Польскую рабочую партию, он своим большим авторитетом поддерживал польское правительство, образовавшееся в Люблине. Смерть этого любимого моего ученика и большого друга была большим для меня ударом.
Опасаясь все возрастающей популярности моих комплстов, жена решила увезти меня в деревню. К тому же жизнь в Варшаве очень вздорожала, и наших заработков не хватало на жизнь. Наконец, в квартире нашей мы укрывали сына моего друга и коллеги, погибшего в начале войны, проф. Змигридера-Конопки, которого я в течение годичного его пребывания у нас подготовил на аттестат зрелости. В связи с обострившимися обысками в поисках укрывавшихся за границами гетто евреев очень возросла опасность, что нападут на след и нашего Юрка, и тогда было бы нам несдобровать (хозяев квартиры, в которой находили укрывавшихся евреев, обыкновенно расстреливали на месте). Мы знали, что Юрек, по выдержании в нелегальной комиссии экзамена зрелости, вступил не только в университетский «комплет», но и в подпольную боевую организацию, что увеличивало шансы его ареста и обыска в нашей квартире. В конце ноября 1942 г. мы выехали в деревню в 60 км от Варшавы, снявши комнату у местного учителя за обучение его детей веем наукам в объеме 4-го класса гимназии. В квартире нашей остался хозяйничать Юрек (сын мой, недавно женившийся, еще раньше выехал от нас). Через несколько месяцев и он оставил нашу квартиру — после того как гестаповцы, арестовавшие его товарища, пришли к нам с обыском, но, к счастью, никого не застали дома и ничего не нашли подозрительного. Юрек погиб во время Варшавского восстания с оружием в руках как офицер подпольной армии. Не первая эта была и не последняя жертва войны среди моих учеников и друзей.
В Грабове (так называлось село, где мы поселились, от времени до времени, приезжая в Варшаву за книжками и новостями), а потом в соседнем лесничестве мы прожили почти год, зарабатывая (частью деньгами, частью натурой) уроками. Раз в неделю я выезжал на лошадях в соседнее лесничество, где тоже была группа молодежи. Жена учила польскому и франц. языкам, географии, истории. Я учил латинскому и немецкому языкам, математике, физике. Все свободное время я работал над своей книгой и закончил ее в конце августа. Пять новых глав, написанных в деревне, были: Гл. 6. Эволюция предпринимательских организаций, Гл. 7. Эволюция проф. движения рабочих и служащих, Гл. 8. Эволюция кооперативного движения (потребит, кооперации), Гл. 9. Эволюция сельскохозяйственной кооперации, Гл. 10. Что такое плановое хозяйство? Мое обоснование в этой книге «правового социализма» (G. D. Cole, концепция которого более всего приближается к моей, пользуется термином «liberal socialism») охватывало не только богатый конкретный материал, но и включало несколько теоретических экскурсов (о понятии ценности, о прибыли, о проценте, о соотношении хозяйства и права). Один из моих учеников, прочитавший впоследствии машинопись моей книги, назвал ее «курсом политической экономии для гуманистов». Мне самому по написании ее казалось, что я мог бы с успехом занять кафедру «общей» политической экономии в университете. Среди слушателей моих комплетов были экономисты, разговоры с которыми только подтверждали меня в моем самомнении.
Пребывание наше в Грабове кончилось трагически. Вскоре после экзамена учеников наших комплетов, происходившего в лесничестве в присутствии приезжего члена подпольной школьной инспекции, лучший из моих учеников, 16-летний юноша, сын нашего хозяина, был убит немцами во время облавы. Он был убит почти что на моих глазах, и только мое хладнокровие спасло меня от подобной участи. Вскоре после этого мы переехали в лесничество, где условия жизни были превосходны. Мы были на полном пансионе у наших учеников и заняты были в нашей «школе» только по утрам (от 9 до 1 ч.). Идиллия эта была прервана новой облавой, во время которой все обитатели лесничества были арестованы и вместе с сотнею других арестованных перевезены в тюрьму в Радоме. Что жену и меня после нескольких дней пребывания в тюрьме выпустили на свободу (тогда как нашего милого хозяина и его жену, вместе с большинством арестованных во время облавы, отправили в конц. лагеря, где оба умерли), я рассматриваю как до сих пор необъяснимое для меня чудо. Гестаповец, отдельно допрашивавший меня и жену, по-видимому, знал меня или по моим сочинениям, или по лекциям. Может быть, это был мой слушатель из Немецкого университета в Праге, а может быть, из отделения
Wszechnicy в Лодзи, где среди студентов была группа местных немцев, преимущественно учителей начальных школ (польских и немецких), отношения между которыми и их товарищами — поляками до войны не оставляли желать лучшего. Забравши из лесничества наши вещи, в том числе и нетронутую рукопись моей книги (немцы искали оружия и тайной станции радиопередачи, печатного станка, книги и рукописи их не интересовали), мы вернулись в Варшаву в твердом убеждении, что оставаться в Варшаве все же безопаснее, чем пребывание в деревне.
Последний год перед Варшавским восстанием (1943 — 44) прошел в напряженной работе над вторым томом моего труда. В течение 9 месяцев, прошедших от начала работы над ним до восстания, мне удалось написать первые 6 глав из следующих 10, из которых, согласно разработанному мною конспекту, должна была слагаться вся книга: 1).Историческое определение демократии как третьего этапа в развитии правового государства; 2) Концепция демократии Руссо и судьба ее в развитии современной демократии; 3) Диалектика борьбы партий в современных демократиях; 4) Симптомы вырождения традиционных демократических учреждений; 5) Ослабление пульса демократии в концепциях ее новейших теоретиков; 6) Отрицание демократии в фашизме и нацизме — не преодоление демократии, а усугубление всех отрицательных факторов, разлагающих демократический строй; 7) От отрицания демократии к ее утверждению в СССР; 8) Симптомы возрождения и преображения демократии в зап.-европейской практике и теории; 9) Опыт характеристики преображенной демократии как четвертого этапа в развитии правового государства; 10) Существо и значение права. — Оба тома были куплены у меня издательством Кооперативного института, организовавшего переписку на машине первого тома и даваемых мною по мере написания глав второго тома, а также выплачивавшего мне ежемесячно в счет гонорара по 1000 злотых. Немедленно по окончании войны издательство предполагало приступить к печатанию моего труда. Увы! Из всех глав его сохранилась только гл. 5, случайно оставленная мною в квартире сестры жены. Две копии первого тома и шесть переписанных глав второго, хранившихся у издателей, так же как копии, хранившиеся у меня в квартире, погибли в огне восстания. — В течение 43 — 44 гг. я возобновил свои «комплеты», хотя и в меньшем количестве и преимущественно комплеты в рамках подпольного университетского преподавания. В начале лета я, вследствие ареста двух участников моего унив. комплета, имевших при себе рефераты, приготовленные для прочтения в моем семинаре, выезжал в имение Института психической гигиены около Варшавы, где меня просили прочитать курс педагогики. Я там отдохнул, как на даче, и перед самым восстанием вернулся в Варшаву. Мой неисправимый оптимизм опять жестоко обманул меня. Поспешную эвакуацию немцами правого берега Вислы, напоминавшую бегство, я принял за эвакуацию ими Варшавы, по слухам будто бы окружаемой уже советскими войсками. Поэтому я не последовал приглашению своих учеников поселиться у них в Ченстохове или в Ловиче, а остался в Варшаве.
От своих учеников я узнал о предполагаемом восстании и был даже предупрежден, что восстание начнется 1 августа. Но, как и все участники восстания, с которыми я говорил, я был убежден, что оно начнется поздним вечером, с сумерки. В 16-м часу жена, я и наш жилец (мой ученик) пошли на наш огородный участок (полчаса ходьбы от нашего дома), чтобы на всякий случай запастись на несколько дней картофелем, овощами и фруктами (у нас в саду росли превосходные вишни и ягоды). Восстание началось в 17 часов, и так как все улицы, ведущие к Мокотовскому полю, где был наш огородный участок, находились под жесточайшим обстрелом, мы уже не могли вернуться домой. 10 дней мы оставались на огороженном поле кооперативных участков — садов, с 70 — 80 иными товарищами по несчастью, застигнутыми, как и мы, во время работы на своих участках. Все это время мы питались овощами и фруктами и спали в беседке, прикрываясь соломой. На 6-й день нашего сидения банда озверелых власовцев ворвалась через сетчатую изгородь, огораживавшую наши участки, ограбила нас полностью (часы, кольца, деньги) и всех неперебитых сразу мирных обывателей погнала на расстрел. Спасли нас в последнюю минуту (я уже простился с женою, ожидая залпа из пулемета) трое немецких солдат-летчиков из по соседству расположенного дивизиона. Они уже до этого приходили на наши участки за фруктами и ягодами и знали, что мы не повстанцы, а застигнутые восстанием мирные обыватели. Увидев наставленный против нас (в нашей группе были и малые дети) пулемет, они быстро отбросили его в сторону, а банду власовцев прогнали. Похоронив битых, мы оставались еще несколько дней на нашем участке, а потом перешли в находящийся поблизости дом, в котором жила подруга жены. Таким образом, мы все время находились на территории, занятой немцами, и наблюдали систематическое уничтожение ими Варшавы. Дом, в котором мы нашли убежище, находился в одном из лучших, новопостроенных районов города. Из нашего дома мы видели, как немцы выгоняли население дома, забирая все ценное, что можно было унести, а потом поджигали дом. Так как почти все дома были в этом квартале бетонные, дом выгорал, но остов оставался и пожар не перекидывался на соседний дом. Были дни, когда почти нельзя было дышать от чада и гари. Здесь я пережил первый страшный припадок, длившийся более 10 часов (впоследствии я узнал, что это был первый припадок моей болезни — грудной жабы). Через 3 дня после припадка очередь дошла до нашего дома и все жильцы его, так же, как и соседних домов, нашедшие в нем убежище, были выгнаны немцами. Огромная процессия, растянувшаяся на километр — старики, женщины, дети, здоровые и больные — медленно двигалась, неся на плечах чемоданы и мешки, в направлении сборного пункта для выселяемых из
Варшавы жителей. Мы ничего не несли, так как у нас не было никакого имущества. Благодаря счастливой случайности нам удалось избежать страшного пересыльного лагеря в Прушкове под Варшавой, откуда неминуемо нас отослали бы в концлагерь или на работы в Германию, и после двух дней нашего пути с приключениями мы благополучно достигли имения наших друзей в подваршавской дачной местности. Положение наше было, казалось, безвыходное. У нас ничего не было — ни денег, ни платья (приближалась уже осень), ни белья. Кое-что нам дали друзья, сестра жены, вынесшая из своего дома в Варшаве кое-какие деньги и драгоценности, и Комитет помощи варшавским беженцам.
Оправившись физически и пришедши в себя после всего пережитого, мы решили поехать к старшей сестре жены, жившей в Челяди около Катовиц. Она и муж ее настойчиво приглашали нас к себе, обещая устроить нас в своем скромном хозяйстве. Челядь, как и Катовице, находилась в границах так называемой Третьей Империи, и переход (нелегальный) границы из «Генерал-губернаторства» в «Drittes Reich» был сопряжен с большими трудностями. Счастливо преодолев все трудности, мы достигли Челяди, где за взятки местным немецким властям нас согласились прописать на временное жительство. Жена была записана как работница в хозяйстве шурина (бывшего президента гор. Томашова, укрывавшегося в своем родном городке Челяди под видом «Landwirta»), а я был прикреплен как служащий к складу металлических изделий одного «Volksdeutsch'a». Работа эта, в значительной мере фиктивная, не отнимала у меня много сил. Сидя в складе по утрам от 8 — 9 до 1 часа поп., я проверял счета и бухгалтерские книги на арифмометре, но большую часть времени читал и даже писал конспект своей новой работы «Существо права и его назначение». После обеда мы с женою давали уроки группе девочек, среди них и племяннице жены. В Челяди я еще надеялся, что копии моих работ, находившихся у моих издателей, сохранились. Не имея под руками ни моих записок, ни библиотеки, я решил приняться за обработку последней главы второго тома («Существо права»), теоретической по своему содержанию и давно уже сложившейся в моей голове. Во время писания ее глава разрасталась, и когда уже в Лодзи я узнал, что все копии моих работ погибли, я решил обработать эту главу как отдельную кнту. В Лодзи я узнал не только о гибели всех моих рукописей и всех копий последних моих работ, которым я придавал такое значение, но и о том, что все жильцы нашего дома и случайные гости, застигнутые в нем восстанием, были частью перебиты, частью вывезены в Освенцимский концлагерь. Только немногие из них вышли из этого страшного лагеря живыми.
XIV. Лодзь
Хотя я приехал в Лодзь по вызову «Wolncj Wszechnicy Polskiej» еще во время войны (в конце марта 1945 г.), война была для меня уже окончена. Жизнь в Лодзи напоминала довоенное время: большой город, почти никаких следов войны, трамваи, толпы народу на улицах, магазины с разнообразными товарами. Даже довольно- таки низкопробная гостиница, в которой нам отвели комнату с полным пансионом, представлялась мне после всего пережитого верхом комфорта. Я приехал в Лодзь в состоянии крайнего истощения, с множеством мучавших меня фурункулов на шее — результат хронического голодания в Челяди. Благодаря заботам жены и помощи знакомых врачей я быстро оправился, в особенности по переезде на найденную женою квартиру — очень удобную и приятную, в одном из лучших районов города. Уже в апреле 1945 г. я возобновил лекции на организуемом еще только госудраств. университете, ядром которого стала бывшая Wszychnica, и одновременно засел за окончание начатой работы «Существо права и его назначение». Работу эту я вчерне закончил осенью 45 г. — уже как отдельную книгу, т. к. в Лодзи от своих издателей узнал о гибели всех копий своего большого труда, заключительной главой которого она должна была по первоначальному замыслу быть. Привожу здесь заглавия глав этой своей последней большой работы: 1. Право и нравственность, 2. Общественное бытие и духовная культура, 3. Право и духовная жизнь,, 4. Право и общественное бытие, 5. Основные свойства права и степени кристаллизации права, 6. Антиномичность права, 7. Развитие права. Оправовление общественного бытия есть процесс его спиритуализации и персонализации. В этом году (1947 — 48) я читаю на юрид. факультете Лодзинского университета курс философии права и в связи с этим хотел бы отделать эту свою работу, так чтобы следующей осенью сдать ее в печать. Пока что я сдал в печать первую главу этой книги, имеющей появиться вскоре в виде статьи в ежемесячнике «Современная Мысль» («Мус! Wspolczysna»).
В двух томах своего погибшего большого труда я противопоставлял концепции социализма как огосударствления хозяйства свое оригинальное понимание социализма как «оправовления» хозяйства и государства. Идею оправовления я впервые развил в своих статьях «О правовом социализме», написанных мною еще в 1926 — 27 гг. В погибших томах своего большого труда я старался развить эту мысль на богатом фактическом материале хозяйственной и государственной жизни. Может быть, мне еще удастся заново написать эти книги. Пока что в своей «философии права» я пытаюсь объяснить, что такое процесс оправовления, исходя из своей теории права как посредника между планом духовной жизни и плоскостью общественного бытия. Проникая общественное бытие, право сообщает отношениям властвования черты духовной жизни, социальной группе сообщает черты духовного общения, спиритуализирует власть и персонализирует членов социальной группы. Таким образом, вместо того чтобы представить свою теорию права как философское завершение своей концепции социализма как оправовления хозяйства и государства, я вынужден буду опубликовать ее как вступление к своей концепции социализма, если вообще мне суждено еще будет написать заново то, что погибло. Сейчас я примирился с мыслью о погибшем труде и даже оправдываю его гибель его несовершенством (в частности, односторонним представлением эволюции хозяйства и государства в СССР). Если мне дано будет написать заново этот мой труд, я напишу его с большей объективностью, наученный опытом военного и повоенного времени. Но осенью, когда я потерял последнюю надежду на отыскание оригинальной рукописи первого тома моего труда, я пережил это удар очень тяжело. Рукопись эта была дана мною на хранение сестре жены, и я надеялся, что она уцелела под развалинами ее дома, не сожженного, а разрушенного от попавшего в него снаряда. Осенью 1945 г. я предпринял раскопки развалин и довольно быстро наткнулся на испепеленные остатки сундука, в котором она хранилась, и пепел самой рукописи, на котором можно было узнать мой почерк и даже прочитать отдельные слова.
Другим тяжелым ударом была потеря мною всякой надежды на то, что старший сын мой, Евгений, жив. Последнее письмо от него (краткая открытка) я получил из Праги в феврале 1942 г., но потом имел из Праги от его друзей сравнительно благоприятные сведения. Вначале он был на работах в одном имении около Праги, потом в рабочем лагере, куда можно было посылать ему пакеты с едой. Мне удалось посылать в Прагу его друзьям деньги и съестные пакеты, и я получал сведения о нем. Весною 1944 г. связь прекратилась, и его друзья в Праге тоже перестали иметь о нем сведения. Осенью 45 г. я узнал от его пражских друзей, что по полученным ими достоверным сведениям он летом 44 г. заболел сыпным тифом и был эвакуирован в лазарет лагеря в Ораниенбурге. Потом все сведения о нем теряются. Как раз сейчас, когда я пишу эти строки, я нахожусь под сильным впечатлением прочитанной мною копии пачки его стихов, найденной его пражским другом и почитателем его таланта в архиве А. Л. Бема, известного пражского критика, весьма ценившего Женю как поэта. Эта пачка с вариантами не оконченных еще стихов, по-видимому, переданная Бему в последний момент перед арестом, свидетельствует мне еще более, чем его прекрасные законченные и напечатанные уже стихотворения, какой большой мог бы выработаться из него поэт, если бы он имел более благоприятные условия жизни и даже если бы, после всего пережитого во время войны, он остался жив. Не могу простить себе, что не создал ему в свое время условий, благоприятствующих развитию его таланта, что не сумел стать его другом и даже не умел по-настоящему разговаривать с пим. В последний раз я видел Женю в сентябре 1936 г. перед своим окончательным переездом в Варшаву, а до этого весь август провел с ним и Митей вместе в Чехии. Во время наших ежедневных прогулок мы говорили о событиях дня и других безразличных вещах, чаще молчали. Я пробовал говорить с ним о его занятиях, даже заговаривал о его стихотворениях, но всегда это выходило как-то неудачно. Переписка наша впоследствии была тоже какая-то казенная. А между тем, как я теперь припоминаю отдельные моменты нашей совместной жизни, Женя хотел моей отцовской любви к нему и легко открылся бы мне, если бы я умел проявить свою любовь к нему (как я сейчас вижу, я любил его и был готов многое сделать для него, но не умел любить). Женя хотел уюта и согласия в семье, которых у нас не было. Как он любил, даже будучи уже в последнем классе гимназии, когда я вечерами иногда читал вслух Гоголя или Чехова, и сердился на брата своего Митю, прерывавшего чтение. Благодаря помощи его друга, инженера Морковина, мне удалось собрать около ста стихотворений Жени, из которых только 15 были напечатаны в разных русских изданиях в эмиграции. Моя мечта — издать полное собрание его стихов отдельной книгой. Надеюсь, что мне удастся сделать это в Праге.
Его мать, моя первая жена, Нина Лазаревна, урожденная Минор, погибла в немецком лагере уничтожения, по-видимому, в начале 1942 г. В декабре 1941 г. я получил от нее открытку, в которой она сообщала мне, что выезжает неизвестно куда и прощалась со мною и Митею. До этого мы регулярно переписывались, и мне удалось, даже во время войны, пересылать ей при оказии деньги. Осенью 1945 г. я узнал также от своих братьев подробности о смерти своего отца, умершего в Нью-Йорке в 1943 г., и старшего брата, Романа, арестованного немцами в Париже в июне 1941 г. и тоже замученного в немецком концлагере. Думаю, что все эти известия, а также и все пережитое во время войны сыграли свою роль в тяжелой сердечной болезни (infarctus myocardii), положившей меня на четыре месяца в постель после двух страшных припадков, длившихся 15 и 10 часов. Немало способствовало этой болезни и мое легкомысленное отношение к своему здоровью: я продолжал курить (хотя и очень сократив дневную порцию табаку), а на Рождество, по-видимому, злоупотребил кофеем, полученным в американских посылках. Уже чувствуя недомогание у груди (острую отдышку), я откладывал пойти к врачу и даже, больной, начал чтение лекций. Только благодаря уходу жены и усилиям своих коллег-врачей я благополучно выскочил из тяжелой болезни. Впрочем, выскочил инвалидом: я должен очень беречься, не переутомляться, и мне кажется, что я сохранил не более 50 процентов своей былой работоспособности. Врачи определяют мое состояние как «стенокардия» или хроническая «angina pectoris». Поэтому в течение полутора лет, прошедших от выздоровления, я сделал значительно меньше, чем собирался: проредактировал заново и дополнил книгу «Структура и содержание современной школы», пересмотрел заново и дополнил тоже написанную еще до болезни статью «Право и нравственность» (по-польски), а действительно новых вещей написал только три: статью «Восстановление школы в славянских странах», очерк «Права человека в либерализме, социализме и коммунизме» (оба по-английски) и это свое жизнеописание (по-русски).
Правда, в прошлом учебном году очень много времени заняла у меня подготовка к лекциям (я читал в первом триместре «Философию Платона», во втором — «Философию Аристотеля», в третьем — Философию Руссо»). Лекции эти мне давали большое удовлетворение, и я, как всегда, многому научился, готовясь к ним. Я знаю, что мне осталось еще не долго жить, и благоразумие требовало бы бросить все и сосредоточиться исключительно на написании задуманных мною трудов. Я надеюсь, что мне через два-три года удастся получить долговременный отпуск, а тем временем я выпущу из своего учительского гнезда своих учеников, которые смогут заменить меня на моем посту. Я выполню этим свой долг перед Польшей, в которой нашел столько для себя благожелательности, искренней приязни, сердечной дружбы, подлинной любви. А может быть, среди моих учеников найдугся и такие, которые продолжат мое дело и выполнят то, что я сам уже не успею закончить. Условия работы в Лодзинском университете для меня очень благоприятны. Около меня собралась группа молодых ученых, из которых четверо состоят моим ассистентами. Двое из этих сдали уже докторский экзамен (я был их «промотором») и готовятся к «абилитации», трое заканчивают работы над докторской диссертацией под моим руководством. В прошлом году в моем семинарии для докторантов участвовало около 15 человек, среди них и несколько докторов. В собраниях этих, на которых дискуссия по поводу прочитанного реферата переходила в дружескую беседу, услаждаемую чаем или кофе, часто участвовал также мой друг, проф. философии Варшавского университета Т. Котарбиньский, ныне ректор Лодзинского университета. С этим выдающимся и очаровательным человеком, наиблагороднейшим типом польского и вообще европейского интеллигента, я познакомился еще в 1926 г. во время первого моего пребывания в Варшаве. Дружба с ним дала мне очень много и со временем все более укреплялась, несмотря на существенное расхождение во взглядах. Ученик Твардовского и опосредованно Бретано, Котарбиньский разработал оригинальную теорию «реизма», своеобразную разновидность материализма, сочетающуюся у него с атеизмом. Я же, будучи учеником Риккерта и опосредованно Канта, все более развивался в направлении платонизма, стараясь разработать многоэтажную теорию реальности, увенчивающуюся теорией духовного бытия, а в дальнейшей перспективе даже визией «Царства Божия».
Думаю, что обоих нас сблизило органическое отрицание нами всяческого любоначалия, любовь к свободе и такое же, почти что биологическое, стремление к правде, — в обоих ее аспектах — истины и справедливости.
Сердцем своим Котарбиньский не только верующий, но и, думаю, принадлежит к сонму тех праведников, которыми держится мир. «Котарбиньский не любит Бога, но Бог его любит», — как сказал о нем один его духовный коллега.
Лодзь, 10 ноября 1947 г.









