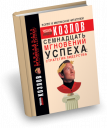Хотя в общем итоге Эмиль не уважает людей, но он не станет выказывать презрения к ним, потому что жалеет их и соболезнует им. Не будучи в состоянии внушить им стремление к действительным благам, он представляет им мнимые блага, удовлетворяющие их, из опасения, чтобы, отнимая эти блага без нужды, не сделать их еще более несчастными, чем прежде, Он поэтому не любит спорить или противоречить; но он также не льстец и не угодник; он высказывает свое мнение, не отвергая ничьих других, потому что выше всего любит свободу, а откровенность — одно из лучших ее прав.
Он говорит мало, потому что почти не хлопочет, чтобы им занимались; по той же причине он говорит лишь о вещах полезных, а иначе что же побуждало бы его вступать в разговор? Эмиль настолько сведущ, что никогда не будет болтуном. Страсть к болтовне происходит непременно или от претензии на ум, о которой я буду говорить ниже, или оттого, что мы придаем много значения пустякам, по глупости думая, что и другие также дорожат ими, как мы. Кто настолько сведущ, что умеет всему придать истинную цену, тот никогда не говорит слишком много, ибо он умеет также оценивать и внимание, ему уделяемое, и знает, насколько его речи могут быть занимательными. Вообще, люди, мало знающие, говорят много, а много знающие мало говорят. Вполне естественно, что невежда все, что знает, находит важным и всем это высказывает. Но просвещенный человек не так-то легко открывает свой запас знаний; ему слишком много пришлось бы говорить, а он видит, что после него еще больше осталось бы невысказанного, и поэтому молчит.
Эмиль не только не оскорбляет своими манерами других, но даже сообразуется с их манерами — не для того, чтобы казаться опытным в светском обращении или пощеголять тоном вежливого человека, а напротив — из опасения не выделяться с целью избегнуть общего внимания; ему всего приятнее бывает, когда за ним никто не следит. Хотя при вступлении в свет он решительно незнаком с его манерами, тем не менее он не застенчив и не робок; если он стушевывается, то не вследствие замешательства, а вследствие того, что незамеченному лучше наблюдать, ибо он почти не беспокоится о том, что о нем думают, а быть смешным он ничуть не боится. Поэтому-то, будучи всегда спокойным и хладнокровным, он не приходит в смущение от ложного стыда. Смотрят на него или нет, он всегда поступает так хорошо, как только может; сосредоточиваясь в себе, чтобы лучше наблюдать других, он подхватывает их манеры с такою легкостью, которая недоступна рабам людского мнения. Можно сказать, что он потому и перенимает обычаи света, что мало дорожит ими.
Однако ж не обманывайтесь насчет его осанки и не вздумайте сравнивать ее с осанкою ваших юных любезников. Он тверд, но не самодоволен: манеры его свободны, но не презрительны; наглый вид свойственен лишь рабам, независимость не заключает в себе ничего принужденного. Я никогда не видал, чтобы человек, имеющий в душе гордость, выказывал ее в своей осанке; эта аффектация гораздо свойственнее низким и тщеславным душам, которые только этим и могут внушать почтение к себе. Я читал в одной книге119, как один иностранец явился раз в залу знаменитого Марселя120 и тот спросил, из какой он страны. «Я англичанин»,— отвечает иностранец. «Вы англичанин? — возражает танцор.— Вы с того острова, где граждане принимают участие в общественном управлении и составляют часть верховной власти?* Нет, сударь, эта поникшая голова, этот робкий взгляд, эта неуверенная походка возвещают мне лишь титулованного раба какого-нибудь избирателя».
* Как будто бы есть граждане, которые но бывают членами государства и не принимают в качестве таковых участия в верховной власти! Но французы, которым заблагорассудилось присвоить себе это почетное Наименование «граждан», принадлежавшее некогда членам галльских гражданских общин, до того извратили идею, что под словом этим ничего уже не разумеется. Человек, недавно написавший мне много глупостей, направленных против «Новой Элоизыч, украсил свою подпись титулом: «гражданин Пембёва»121 — и думает, что великолепно подшутил надомною.
Не знаю, обнаруживает ли это суждение большое знакомство с истинными отношениями между характером человека и его внешностью. Что касается меня, то, не имея чести быть танцевальным учителем, я подумал бы совершенно обратное. Я сказал бы: «Этот англичанина не царедворец: я никогда не слыхал, чтобы царедворцы ходили с опущенною головой и имели неуверенную походку; человек, застенчивый у танцора, легко может не быть застенчивым в палате общин». Наверное, этот Марсель принимает своих земляков за настоящих римлян.
Когда любишь, то желаешь и быть любимым. Эмиль любит людей и, значит, желает нравиться им. Тем более он желает нравиться женщинам; его возраст, нравственность, планы будущего — все содействует поддержанию в нем этого желания. Я упоминал о нравственности, ибо она имеет здесь большое значение; мужчины, обладающие ею, суть истинные поклонники женщин. Им незнаком, как другим, этот насмешливо любезный жаргон; но они способны на истинное, более нежное, исходящее от сердца увлечение. Возле молодой женщины и между сотнею тысяч развратников узнал бы человеке, обладающего нравственностью и повелевающего своей природой. Судите же, каков должен быть Эмиль, при его совершенно нетронутом темпераменте и при таком обилии причин, побуждающих противиться ему! Возле женщин он будет, я думаю, застенчив порой и неловок; но, наверное, эта неловкость не будет им неприятной, и даже наименее плутоватые из них слишком часто будут проявлять свое искусство пользоваться этим замешательством и усиливать его. Впрочем, внимательность его будет заметно изменять свою форму, смотря по положению женщин. С замужними он будет скромнее и почтительнее, при девушках-невестах живее и нежнее. Он не теряет из виду цели своих поисков и наибольшее внимание оказывает тому, что напоминает ему о ней.
Никто не будет относиться строже его ко всем вопросам об уважении, основанном на порядке природы и даже на требованиях общественного благоустройства; но первого рода уважение для него всегда будет важнее второго, и он почтительнее будет и частному человеку, который старше его, чем к должностному лицу одних с ним лет. Поэтому, будучи обыкновенно одним из наиболее юных членов общества, в котором он вращается, он будет всегда и одним из наиболее скромных — не из-за тщеславного желания казаться смиренным, но по естественному, основанному на разуме чувству. Он не будет отличаться развязным «знанием света», свойственным юному фату, который, чтобы повеселить компанию, говорит громче умных людей и перебивает речь старых; он не даст права сказать о нем, что сказал один старый дворянин Людовику XV , спрашивавшему, какой век тот предпочитает, свой или нынешний: «Государь, молодость я провел, уважая стариков, а в старости мне приходится уважать детей».
Обладая нежной и чувствительною душой, но не измеряя ничего по мерке людского мнения, он хотя и любит быть приятным для других, по не слишком станет гоняться за их уважением. Отсюда следует, что он будет более ласков, чем вежлив, что в нем никогда не будет ни чванства, ни жеманства, что его более тронет ласка, чем тысячи похвал. По тем же причинам он не станет пренебрежительно относиться ни к манерам, ни к своей осанке; он даже может проявить некоторую изысканность в наряде — не из желания казаться человеком со вкусом, но из желания сделать фигуру свою более приятною; ему не нужно будет золотой рамы, и вывеска богатства никогда не запятнает его убранства.
Каждый видит, что все это не требует с моей стороны целой кучи нравоучений, а является лишь следствием его первоначального воспитания. Светские приличия выдают нам за какую-то великую тайну, как будто в том возрасте, когда эти приличия перенимаются, это делается не само собою, как будто честность сердца не единственная основа главных их законов! Истинная вежливость заключается в изъявлении благосклонности к людям; она без труда обнаруживается, если есть в наличии; у кого ее нет, для того именно и пришлось из внешних ее проявлений создавать особое искусство.
«Самым прискорбным результатом светской вежливости бывает приобретение умения обходиться без добродетелей, которым она подражает. Пусть нам внушат при воспитании гуманность и стремление делать добро — и мы будем отличаться вежливостью или хуже вовсе не будем иметь в ней нужды.
Если у нас не будет вежливости, проявляющейся в грациозном обхождении, зато мы будем отличаться тою, которая характеризует честного человека и гражданина; нам незачем будет прибегать к фальши.
Вместо того чтобы быть хитрым из-за желания поправиться, достаточно будет быть добрым; вместо того чтобы быть лживым из-за желания польстить чужим слабостям, достаточно будет быть снисходительным.
Люди, с которыми подобным образом будут обходиться, не возгордятся этим и не испортятся; они будут лишь признательными и станут лучшими»*.
* Дюкло Размышления о нравах этого века.
Мне кажется, что воспитание, план которого я начертил, лучше всего должно порождать ту вежливость, которой требует здесь Дюкло.
Я согласен, конечно, что при столь своеобразных правилах Эмиль будет не таков, как все, и не дай бог, чтобы он был когда-нибудь таким же! Но в том, что будет отличать его от других, он не окажется несносным или смешным; различие будет заметно, но не будет неудобным для него: Эмиль будет, если хотите, милым иностранцем. На первых порах ему будут прощать его особенности, говоря: «Он еще сформируется». Впоследствии совершенно привыкнут к его манерам и, видя, что не изменяется, по-прежнему станут извинять ему и скажут: «Он так уже создан».
Его не будут приветствовать всюду, как милого человека, но будут любить, сами не зная за что; никто не станет превозносить похвалами его ум, но между умными людьми его охотно будут выбирать посредником: ум его будет отчетливым и будет держаться в известных границах; у него будут здравый смысл и здравое суждение. Никогда не гоняясь за новыми идеями, он не станет хвалиться умом. Я ему дал понять, что все спасительные и истинно полезные людям идеи бывают известны прежде других, что они именно во всякое время и составляют единственную истинную связь общества, а умам превыспренним остается лишь отличаться идеями вредными и пагубными для человеческого рода. Этот способ возбуждать удивление почти не трогает его; он знает, в чем должен искать счастья своей жизни и чем может содействовать счастью другого. Сфера его познаний простирается но дальше того, что полезно. Путь его узкий и хорошо намеченный; не покушаясь сойти с него, он остается в толпе тех, кто идет по нему, и не желает ни сбиваться с пего, ни блистать. Эмиль есть человек здравого смысла и не хочет быть чем-либо иным; сколько бы ни старались обидеть его этим титулом, он всегда будет считать его почетным.
Хотя желание нравиться не позволяет ему быть решительно равнодушным к мнению других, но он обратит внимание в этом мнении лишь на то, что непосредственно относится к его личности, не заботясь о произвольных оценках, законом для которых бывает мода или предрассудки. У пего будет гордое желание все, что делает, делать хорошо и даже лучше других: в беге он захочет быть самым проворным, в борьбе — самым сильным, в работе — самым искусным, в играх, требующих ловкости,— самым ловким; но он мало станет добиваться преимуществ, которые сами по себе неясны и требуют подтверждения со стороны другого,— таких преимуществ, как быть умнее другого, лучше говорить, быть ученее и т. п.; еще меньше он добивается тех, которые совершенно не зависят от личности, например, превосходить другого знатностью рода, считаться богаче, влиятельнее, почетнее другого, поражать большею пышностью.
Любя людей, потому что они его ближние, он особенную любовь будет питать к тем, которые более всего на него походят, ибо он будет чувствовать себя человеком добрым; судя об этом сходстве по совпадению вкусов в вопросах нравственности, во всем, что зависит от доброты характера, он будет находить большое удовольствие в их одобрении. Он не скажет себе: «Как я рад, что меня одобряют»; но скажет: «Как я рад, что одобряют мой хороший поступок; как я рад, что люди, почитающие меня, сами заслуживают почета: пока они будут обладать столь здравым суждением, приятно будет добиться их уважения».
Изучая людей в свете по нравам, подобно тому как перед этим он изучал их в истории по страстям их, он часто будет иметь случаи размышлять о том, что льстит и что претит человеческому сердцу. Таким образом он начинает уже философствовать — об условиях людского вкуса: вот изучение, наиболее подходящее для него в эту пору.
Чем дальше мы идем за определениями вкуса, тем больше сбиваемся с дороги; вкус есть лишь способность судить о том, что правится или не нравится большинству. Уклонитесь от этого определения — и вы не будете знать, что же такое вкус. Из этого не следует, чтобы людей со вкусом было больше других; ибо хотя большинство здраво судит о каждом предмете, все-таки немногие люди судят о всех предметах так, как это большинство, и хотя стечение наиболее общих вкусов и составляет хороший вкус, все-таки людей со вкусом мало, точно так же как мало бывает красавиц, хотя соединение наиболее обычных черт и составляет красоту.
Нужно заметить, что здесь дело идет не о том, что любят в силу того, что оно полезно, или ненавидят в силу того, что оно вредит нам. Вкус изощряется лишь на безразличных предметах или, самое большее, на предметах забавы, а не на тех, которые связаны с нашими потребностями; чтобы судить об этих последних, не нужно вкуса — достаточно одного позыва к ним. Вот почему столь трудны и столь, мне кажется, произвольны решения, основанные на одном вкусе; ибо вне инстинкта, определяющего вкус, не видно иных оснований для этих решений. Кроме того, нужно различать законы вкуса в нравственном мире от его законов в мире физическом. В этом последнем случае основы вкуса кажутся решительно необъяснимыми. Но нужно заметить, что нравственный элемент входит во все то, что связано с подражанием*; таким путем и объясняются те красоты, которые кажутся нам физическими, а в действительности вовсе не таковы.
* Это доказано в «Опыте о происхождении языков», который найдут в собрания моих сочинений.
Прибавлю, что вкус подчиняется местным правилам и, таким образом, в тысяче мелочей становится зависимым от климатов, нравов, образа правления, учреждений, что есть иные вкусы, связанные с возрастом, полом, характером, и что и этом-то именно смысле и не следует спорить о вкусах.
Вкус от природы свойствен всем людям, но не все имеют его в одинаковой мере, не во всех он развивается в одинаковой степени и у всех подвержен изменениям вследствие различных причин. Мера возможного у человека вкуса зависит от чувствительности, которою он одарен, а усовершенствование его и направление зависят от обществ, среди которых мы жили. Для этого, во-первых, нужно пережить в многочисленных обществах, чтобы сделать много сравнений. Во-вторых, требуются общества веселые и праздные, ибо деловые общества берут за правило не удовольствие, а интерес. В-третьих, требуются такие общества, где неравенство было бы не слишком велико, где деспотизм мнения был бы ограничен и где более царила бы страсть к наслаждению, чем к тщеславию; ибо в противном случае мода заглушает вкус, а люди скорее ищут не того, что нравится, а того, что отличает.
В этом последнем случае хороший вкус уже не есть вкус большинства. А почему это? Потому что точка зрения изменяется. Здесь масса не имеет уже своего суждения, а сообразуется со взглядами тех, которых считает просвещеннее себя; она одобряет не то, что хорошо, а то, что они одобрили. Старайтесь, чтобы у каждого человека во всякое время было свое собственное чувствование,— и тогда, что всего приятнее само по себе, на стороне того всегда будет большинство голосов.
Люди в своих произведениях создают прекрасное лишь через подражание. Все настоящие образцы вкуса заключаются в природе. Чем больше мы удаляемся от учителя, тем безобразнее наши картины. В этом случае образцы свои мы извлекаем уже из любимых нами предметов; прекрасное, созданное фантазией, подчинено капризу и авторитету и есть уже не что иное, как то, что нравится нашим руководителям.
Руководят нами артисты, вельможи, богачи; а ими руководит личная выгода или тщеславие. Они наперерыв друг перед другом изыскивают средства тратить деньги — одни с целью выставить напоказ свои богатства, другие с целью воспользоваться этим. Таким путем воцаряется чрезмерная роскошь, заставляющая любить то, что трудно достать и что дорого стоит; и тогда мнимое прекрасное, вместо того чтобы подражать природе, считается таковым лишь в силу того, что ей противоречит. Вот каким образом роскошь и дурной вкус оказываются неразлучными. Всюду, где вкус разорителен, он ложен.
Особенно развивается вкус — хороший или дурной — при сношениях между двумя полами; развитие его есть необходимое следствие той цели, которая имеется в виду при этом общении. Но когда желание нравиться ослабляется легкостью пользования, вкус должен искажаться; в этом, кажется мне, и заключается другая существенная причина того, что хороший вкус находится в зависимости от доброй нравственности.
Обращайтесь ко вкусу женщин в материальных вещах и в таких, которые зависят от чувственного суждения, а ко вкусу мужчин — в вопросах нравственных и более зависящих от разумения. Когда женщины будут тем, чем они должны быть, они станут ограничиваться вещами, относящимися к их компетенции, и всегда будут хорошо судить; но с тех пор как они водворились судьями в литературу, с тех пор как пришлось судить о книгах и сочинять их изо всех сил, они ничего уже не понимают. Сочинители, обращающиеся за советами к ученым женщинам по поводу своих произведений, всегда могут быть уверены, что получат дурной совет; щеголи, советующиеся с ними насчет костюма, всегда смешно одеты. Я скоро буду иметь случай говорить об истинных талантах этого пола, о способе развития их и о том, в каких вопросах решения их должны быть приняты в расчет.
Вот эти элементарные размышления я и положу в основу рассуждения с Эмилем о предмете, в высшей степени для него интересном среди той обстановки, в которой он находится, и среди поисков, которыми занят. Да и кому этот предмет не интересен? Знание того, что может быть приятным или неприятным для людей, необходимо не только тому, кто имеет нужду в них, но также и тому, кто хочет быть им полезным; даже для того, чтобы услужить им, нужно понравиться; и искусство писать вовсе не есть праздное занятие, когда его употребляют на то, чтобы заставить выслушать истину.
Если бы для развития вкуса у моего ученика мне пришлось делить выбор между странами, где культивирование вкуса еще не начиналось, и другими, где вкус уже извращен, я последовал бы обратному порядку: я начал бы обзор с последних и окончил бы первыми. Этот мой выбор обусловлен был бы тем, что вкус портится от чрезмерной изысканности, делающей человека чувствительным к таким вещам, которых большинство людей не замечает; эта изысканность порождает страсть к спору, ибо чем более предметы утончаются, тем становятся многочисленнее; эта утонченность делает ощущение более деликатным и разнообразным. И вот образуется столько же вкусов, сколько голов. В спорах о предпочтении развиваются философский дух и знания; и таким образом люди учатся мыслить. Топкие наблюдения могут быть делаемы только людьми, имеющими очень обширные знакомства, так как наблюдения эти поражают внимание после всех других, а люди, мало привычные к многочисленным обществам, все внимание свое посвящают крупным чертам. В настоящее время нет, быть может, на земле просвещенной страны, где общий вкус стоял бы ниже, чем в Париже. Между тем в этой же столице развивается хороший вкус; и, по-видимому, немного найдешь в Европе достойных внимания книг, авторы которых не приезжали бы за образованием в Париж. Кто думает, что достаточно читать книги, которые здесь пишутся, тот ошибается; из бесед с авторами гораздо более научаешься, чем из книг, да и не сами авторы всего более научают. Дух общества — вот что развивает тупую голову и расширяет взгляды, насколько это возможно. Если у вас есть искра таланта, проведите год в Париже: скоро вы будете всем тем, чем можете быть, или никогда уже ничем не будете.
Можно научиться думать и там, где царит дурной вкус: но для этого нужно не так думать, как думают люди, имеющие этот дурной вкус, а это весьма трудно, особенно если долго остаешься в их среде. С их помощью нужно совершенствовать орудие суждения, но употреблять его нужно не так, как они. Я постараюсь не утончать суждения Эмиля до искажения; и когда ощущение его будет настолько тонко, что он будет чувствовать и сравнивать различные вкусы людей, его собственный вкус я постараюсь сосредоточить на предметах самых простых.
Я еще заранее приму меры для сохранения в нем чистого и здорового вкуса. В вихре развлечений я сумею завести с ним полезные разговоры, и, постоянно направляя их на предметы, которые ему нравятся, я озабочусь сделать эти разговоры столь же занимательными, сколь и поучительными. Вот пора чтения, нора занимательных книг, вот время научить его анализу речи и сделать чувствительным ко всем красотам красноречия и слога. Мало учить языкам ради них самих; употребление их не так важно, как думают, но изучение языков ведет к изучению общей грамматики. Нужно изучать латынь, чтобы хорошо знать французский язык; нужно изучать и сравнивать тот и другой язык, чтобы понять правила искусной речи.
Существует, кроме того, известная простота вкуса, которая трогает сердце и встречается только в сочинениях древних. В красноречии, в поэзии, во всякого рода литературе он найдет у них, как и в истории, изобилие фактов и скупость в суждениях. Наши авторы, напротив, фантов приводят мало, а мнений высказывают много. Постоянно выдавать нам свое суждение за закон — это не есть средство развивать наше суждение. Различие между этими двумя вкусами чувствуется во всех памятниках литературы и даже в надгробных надписях. Наша гробница покрыты восхвалениями; на гробницах древних читали факты.
Sta, viator. Herosm calcas 122. Если б я нашел эту эпитафию на древнем памятнике, я сразу догадался бы, что она новейшего происхождения; ибо между нами нет ничего обыкновеннее героев, а у древних они были редки. Вместо того чтобы говорить, что человек был героем, они сказали бы, что он сделал такого, чтобы быть им. С эпитафией этого героя сравните эпитафию изнеженного Сарданапала:
«Я построил Таре и Аихиал в один день, и теперь я мертв»123.
Которая, по вашему мнению, говорит больше? Наш надгробный стиль с его напыщенностью годен лишь на то, чтобы раздувать в героев карликов. Древние показывали людей в натуральном виде, и видно было, что это люди. Ксенофонт, чтобы почтить память нескольких воинов, предательски убитых при отступлении десяти тысяч, говорит: «Они умерли безупречными на волне и в дружбе»124. И все. Но посмотрите, как в этой столь краткой и простой похвале сквозит то, чем было переполнено сердце автора. Жалок тот, кто не находит этого восхитительным!
На мраморе у Фермопил были вырезаны такие слова:
«Прохожий, ступай скажи Спарте, что мы умерли здесь, повинуясь ее святым законам»125.
Сразу видно, что надпись эту сочиняла не Академия надписей126.
Я обманулся, если мой воспитанник, придающий столь мало цены словам, не обратит прежде всего свое внимание на эту разницу и если она не повлияет на выбор его чтения. Увлеченный мужественным красноречием Демосфена127, он скажет; «Это оратор»; но читая Цицерона, он скажет: «Это адвокат».
Вообще, Эмилю будут больше по вкусу книги древних, чем наши,— уже по одному тому, что, будучи первыми, древние ближе всего к природе и гений их более самостоятелен. Что бы там ни говорили Ламотт128 и аббат Террасон129, истинного прогресса разума нет в человеческом роде, потому что все, что с одной стороны приобретается, с другой теряется, потому что все умы отправляются всегда от одной и той же точки; а так как время, употребляемое на то, чтоб узнать, что думали другие, бывает потерянным для приобретения самостоятельного мышления, то в результате является увеличение приобретенных сведений и уменьшение умственной силы. Умы наши, как и руки, привыкли все делать с помощью инструментов и ничего сами по себе. Фонтенель говорил130, что весь этот спор о древних и новейших народах смахивает на вопрос, были ли прежде деревья больше, чем теперь. Если б земледелие подвергалось видоизменениям, то подобный вопрос был бы вовсе не бессмысленным. Поднявшись таким образом до источников чистой литературы, я докажу Эмилю стоки ее в резервуарах новейших компиляторов — журналы, переводы, словари; он бросит взгляд на все это и потом оставит, чтобы никогда уже не возвращаться к этому. Я дам ему послушать, чтобы позабавить его, болтовню академий; я дам ему заметить, что каждый из членов, их составляющих, отдельно взятый, всегда дороже стоит, чем взятый вместе с собранием; из этого он сам сделает вывод о полезности всех этих прекрасных учреждений.