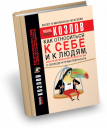1. Лечение от любви
Я не люблю работать с влюбленными пациентами. Быть может, из зависти — я тоже мечтаю испытать любовное очарование. Возможно, потому, что любовь и психотерапия абсолютно несовместимы. Хороший терапевт борется с темнотой и стремится к ясности, тогда как романтическая любовь расцветает в тени и увядает под пристальным взглядом. Мне ненавистно быть палачом любви.
Но когда Тельма в самом начале нашей первой встречи сказала мне, что она безнадежно, трагически влюблена, я, ни минуты не сомневаясь, взялся за ее лечение. Все, что я заметил с первого взгляда: ее морщинистое семидесятилетнее лицо с дряхлым трясущимся подбородком, ее редеющие неопрятные волосы, выкрашенные в неопределенно-желтый цвет, ее иссохшие руки с вздувшимися венами — говорило мне, что она, скорее всего, ошибается, она не может быть влюблена. Как могла любовь поразить это дряхлое болезненное тело, поселиться в этом бесформенном синтетическом трико?
Кроме того, где ореол любовного наслаждения? Страдания Тельмы не удивляли меня, поскольку любовь всегда бывает смешана с болью; но ее любовь была каким-то чудовищным перекосом — она совсем не приносила радости, вся жизнь Тельмы была сплошной мукой.
Таким образом, я согласился лечить ее, поскольку был уверен, что она страдает не от любви, а от какого-то редкого извращения, которое ошибочно принимает за любовь. Я не только верил, что смогу помочь Тельме, но и был увлечен идеей, что эта ложная любовь поможет пролить свет на глубокие тайны истинной любви.
Во время нашей первой встречи Тельма держалась отстранено и чопорно. Она не ответила на мою приветственную улыбку, а когда я провожал ее в свой кабинет, следовала на один-два шага позади меня. Войдя в мой кабинет, она сразу же села, даже не оглядевшись. Затем, не дожидаясь моих вопросов и даже не расстегнув толстого жакета, одетого поверх тренировочного костюма, она глубоко вздохнула и начала:
— Восемь лет назад у меня был роман с моим терапевтом. С тех пор я не могу избавиться от мыслей о нем. Один раз я уже почти покончила с собой и уверена, что в следующий раз мне это удастся. Вы — моя последняя надежда.
Я всегда очень внимательно слушаю первые слова пациента. Часто они каким-то загадочным образом предсказывают то, как сложатся мои отношения с пациентом. Слова человека позволяют другому проникнуть в его жизнь, но тон голоса Тельмы не содержал приглашения приблизиться.
Она продолжала:
— Если Вам трудно мне поверить, возможно, это поможет! Она порылась в большой вышитой сумке и протянула мне две старые фотографии. На первой была изображена молодая красивая танцовщица в гладком черном трико. Взглянув на ее лицо, я был поражен, встретив огромные глаза Тельмы, всматривающиеся в меня сквозь десятилетия.
— А эта, — сообщила мне Тельма, заметив, что я перешел к следующей фотографии, изображавшей привлекательную, но увядающую шестидесятилетнюю женщину, — была сделана около восьми лет назад. Как видите, — она провела рукой по своим непричесанным волосам, — я больше не слежу за собой.
Хотя я с трудом мог вообразить себе роман между этой запущенной женщиной и ее терапевтом, я не сказал ни слова о том, что не верю ей. Фактически я вообще ничего не успел сказать. Я пытался сохранять невозмутимость, но она, вероятно, заметила какой-то признак моего недоверия, возможно, непроизвольно расширившиеся зрачки. Я решил не опровергать ее обвинения в недоверии. Для галантности было неподходящее время, к тому же в самом деле не каждый день можно встретить растрепанную семидесятилетнюю женщину, обезумевшую от любви. Мы оба это понимали, и глупо было делать вид, что это не так.
Вскоре я узнал, что в течение последних двадцати лет она страдала хронической депрессией и почти постоянно лечилась у психиатров. В основном лечение проходило в местной психиатрической клинике, где ее лечили несколько терапевтов. Примерно за одиннадцать лет до описываемых событий она начала лечение у Мэтью, молодого и красивого психолога-стажера. Она встречалась с ним каждую неделю в течение восьми месяцев в клинике и продолжала лечение как частная пациентка весь следующий год. Затем, когда Мэтью получил полную ставку в больнице, ему пришлось бросить частную практику.
Тельма расставалась с ним с большим сожалением. Он был лучшим из всех ее терапевтов, и она очень привязалась к нему: все эти двадцать месяцев она каждую неделю с нетерпением ждала очередного сеанса. Никогда до этого она ни с кем не была столь откровенна. Никогда раньше ни один терапевт не был с ней столь безупречно искренен, прост и мягок.
Тельма несколько минут восторженно говорила о Мэтью:
— В нем было столько заботы, столько любви. Другие мои терапевты старались быть приветливыми, чтобы создать непринужденную обстановку, но Мэтью был не таким. Он действительно заботился, действительно принимал меня. Что бы я ни делала, какие бы ужасные мысли ни приходили мне в голову, я знала, что он сможет понять и — как бы это сказать? — поддержит меня — нет, будет дорожить мной. Он помог мне не только как терапевт, но и гораздо больше.
— Например?
— Он открыл для меня духовное, религиозное измерение жизни. Он научил меня заботиться обо всем живом, научил задумываться о смысле моего пребывания на земле. Но он не относился ко мне свысока. Он всегда держался как равный, всегда был рядом.
Тельма очень оживилась — ей явно доставляло удовольствие говорить о Мэтью.
— Мне нравилось, как он ловил меня, не давая ускользнуть. И всегда бранил меня за мои дерьмовые привычки.
Последняя фраза поразила меня своим несоответствием всему остальному рассказу. Но поскольку Тельма так тщательно подбирала слова, я предположил, что это было выражение самого Мэтью, возможно, пример его замечательной техники. Мои неприятные чувства к нему быстро росли, но я держал их при себе. Слова Тельмы ясно показывали мне, что она не потерпела бы никакой критики в отношении Мэтью.
После Мэтью Тельма продолжала лечиться у других терапевтов, но ни один из них не смог установить с ней контакт и не помог ей почувствовать вкус к жизни, как это сделал Мэтью.
Представьте себе, как она обрадовалась однажды, через год после их последней встречи, случайно столкнувшись с ним на Юнион Сквер в Сан-Франциско. Они разговорились и, чтобы им не мешала толпа прохожих, зашли в кафе. Им было о чем поговорить. Мэтью расспрашивал о том, что произошло в жизни Тельмы за прошедший год. Незаметно наступило время обеда, и они отправились в рыбный ресторанчик на набережной.
Все это казалось таким естественным, как будто они уже сто раз вот так же обедали вместе. На самом деле они до этого поддерживали исключительно профессиональные отношения, не выходящие за рамки отношений терапевта и пациента. Они общались ровно 50 минут в неделю — не больше и не меньше.
Но в тот вечер по какой-то странной причине, которую Тельма не могла понять даже теперь, они словно выпали из повседневной реальности. Словно по молчаливому заговору, они ни разу не взглянули на часы и, казалось, не видели ничего необычного в том, чтобы поговорить по душам, выпить вместе кофе или пообедать. Для Тельмы было естественно поправить смявшийся воротник его рубашки, стряхнуть нитку с его пиджака, держать его за руку, когда они взбирались на Ноб Хилл. Для Мэтью было вполне естественно рассказывать о своей новой «берлоге», а для Тельмы — заявить, что она сгорает от нетерпения взглянуть на нее. Он обрадовался, когда Тельма сказала, что ее мужа нет в городе: Гарри, член Консультационного совета американских бойскаутов, почти каждый вечер произносил очередную речь о движении бойскаутов в каком-нибудь из уголков Америки. Мэтью забавляло, что ничего не изменилось; ему не нужно было ничего объяснять — ведь он знал о ней практически все.
— Я не помню точно, — продолжала Тельма, — что произошло дальше, как все это случилось, кто до кого первым дотронулся, как мы оказались в постели. Мы не принимали никаких решений, все вышло непреднамеренно и как-то само собой. Единственное, что я помню абсолютно точно, — это чувство восторга, которое я испытала в объятиях Мэтью и которое было одним из самых восхитительных моментов моей жизни.
— Расскажите мне, что произошло дальше.
— Следующие двадцать семь дней, с 19 июня по 16 июля, были сказкой. Мы по нескольку раз в день разговаривали по телефону и четырнадцать раз встречались. Я словно куда-то летела, плыла, все во мне ликовало…
Голос Тельмы стал певучим, она покачивала головой в такт мелодии своих воспоминаний, почти закрыв глаза. Это было довольно суровым испытанием моего терпения. Мне не нравится, когда меня не видят в упор.
— Это было высшим моментом моей жизни. Я никогда не была так счастлива — ни до, ни после. Даже то, что случилось потом, не смогло перечеркнуть моих воспоминаний.
— А что случилось потом?
— Последний раз я видела его 16 июля в полпервого ночи. Два дня я не могла ему дозвониться, а затем без предупреждения явилась в его офис. Он жевал сэндвич, у него оставалось около двадцати минут до начала терапевтической группы. Я спросила, почему он не отвечает на мои звонки, а он ответил только: «Это неправильно. Мы оба знаем об этом». — Тельма замолчала и тихонько заплакала.
«Не многовато ли времени ему потребовалось, чтобы понять, что это неправильно?» — подумал я.
— Вы можете продолжать?
— Я спросила его: «Что, если я позвоню тебе на следующий год или через пять лет? Ты бы встретился со мной? Могли бы мы еще раз пройтись по Мосту Золотых Ворот? Можно ли мне будет обнять тебя?» Мэтью молча взял меня за руку, сжал в объятиях и не отпускал несколько минут. С тех пор я тысячу раз звонила ему и оставляла сообщения на автоответчике. Вначале он отвечал на некоторые мои звонки, но затем я совсем перестала слышать его. Он порвал со мной. Полное молчание.
Тельма отвернулась и посмотрела в окно. Мелодичность исчезла из ее голоса, она говорила более рассудительно, тоном, полным боли и горечи, но слез больше не было. Теперь она выглядела усталой и разбитой, но больше не плакала.
— Я так и не смогла выяснить, почему — почему все так закончилось. Во время одного из наших последних разговоров он сказал, что мы должны вернуться к реальной жизни, а затем добавил, что увлечен другим человеком. — Я подумал про себя, что новая любовь Мэтью была, скорее всего, еще одной пациенткой.
Тельма не знала, был ли этот новый человек в жизни Мэтью мужчиной или женщиной. Она подозревала, что Мэтью — гей. Он жил в одном из районов Сан-Франциско, населенных геями, и был красив той красотой, которая отличает многих гомосексуалистов: у него были аккуратные усики, мальчишеское лицо и тело Меркурия. Эта мысль пришла ей в голову пару лет спустя, когда, гуляя по городу, она заглянула в один из баров на улице Кастро и была поражена, увидев там пятнадцать Мэтью — пятнадцать стройных, привлекательных юношей с аккуратными усиками.