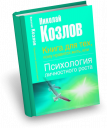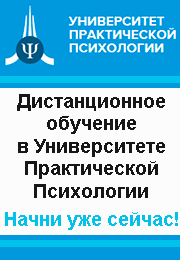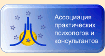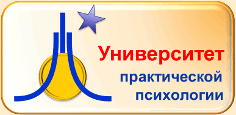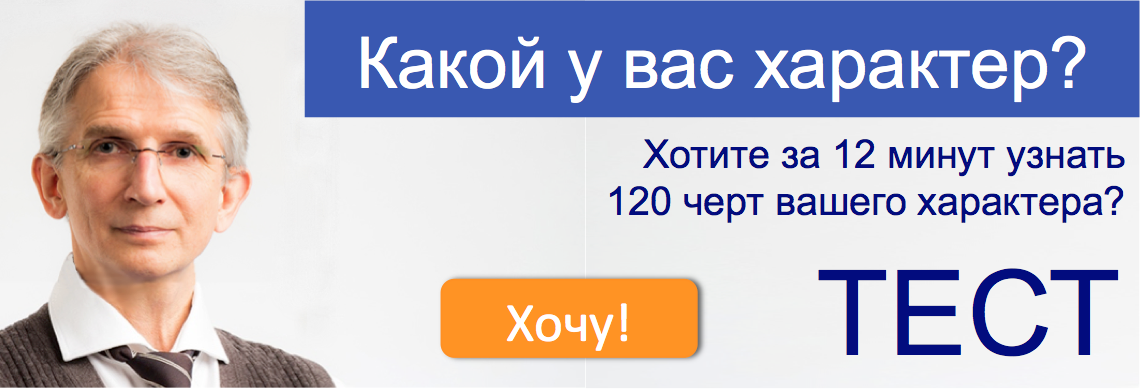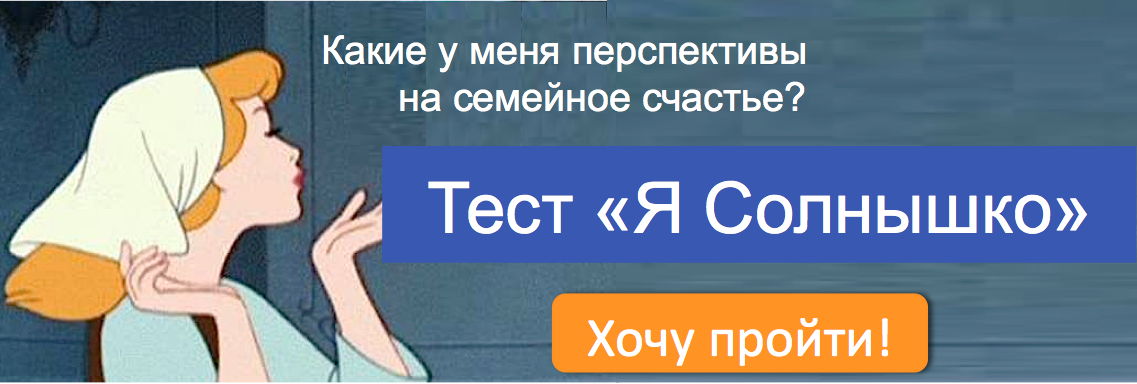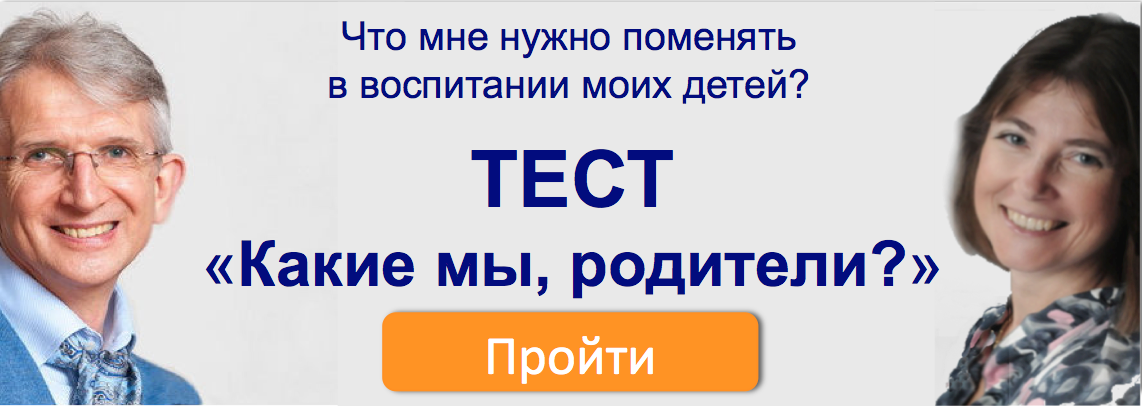Так вот, попробуйте расспросить такого-то человека, ради каких мыслей и фантазий, гнездящихся у него в голове, он не желает думать о хорошей трапезе и сожалеет о времени, потраченном на еду: вы обнаружите, что за столом у вас нет ни одного яства безвкуснее содержимого его души (в большинстве случаев нам лучше крепко заснуть, чем бдеть, размышляя о том, о чем мы размышляем), вы убедитесь, что все его речи и замыслы не стоят вашей говядины в соусе. Будь это даже возвышенные построения Архимеда – что из того? Здесь мы отнюдь не затрагиваем и не смешиваем с ребячливой толпой обыкновенных людей и с развлекающими нас суетными желаниями и треволнениями высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного глубокомысленного созерцания божественных вещей. Эти души, полные живого и пламенного чаяния вкушать небесные яства, души, устремленные к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляют телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовные занятия избранных. Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы – ниже уровня земли.
Эзоп, этот великий человек, увидел как-то, что господин его мочится на ходу: «Неужели, – заметил он, – нам теперь придется испражняться на бегу?» [489]. Как бы мы ни старались сберечь время, какая-то часть его всегда растрачивается зря. Духу нашему не хватает часов для его занятий, и он не может расставаться с телом на тот незначительный период времени, который нужен для удовлетворения его потребностей. Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз укоренившиеся в нем вздорные притязания на бессмертие. Филота забавно уязвил его в своем поздравительном письме по поводу того, что оракул Юпитера-Аммона объявил Александра богоравным: «За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться» [490]. Diis te minorem quod geris imperas [491]. Мне очень нравится приветственная надпись, которой афиняне почтили прибытие в их город Помпея:
Себя считаешь человеком ты, –
И в этом – божества черты [492].
Действительно, уменье достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду.
Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей. Старость же нуждается в более мягком обращении. Да будет к ней милостив бог здоровья и мудрости, да поможет он ей проходить жизнерадостно и в постоянном общении с людьми:
Frui paratis et valido mihi,
Latoe, dones, et, precor, integra
Cum mente, nec turpem senectam
Degere, nec cythara carentem. [493]
[1] …божественно было высказано… самим божеством. – Монтень имеет в виду слова Екклезиаста, 2; «Суета сует – все суета».
[2] Диомед – греческий грамматик, I в. до н. э. (в точности годы его жизни не установлены), составивший комментарии к грамматике Дионисия Фракийского, от которых сохранились лишь незначительные отрывки.
[3] …что же ты не заклял эту бурю! – Пифагор, так же, как и его последователи (пифагорейцы), сыграл большую роль в развитии античной математики, астрономии, небесной механики. Высшим законом, которому подчиняется все сущее (весь «космос»), по мнению пифагорейцев, является гармония. О самом Пифагоре до нас дошло очень мало достоверных сведений; у пифагорейцев была тенденция видеть в нем воплощение божества, которое имеет власть над силами природы и способно творить чудеса. На этом основано шутливое обращение к Пифагору Монтеня, укоряющего его за то, что он не восстановил нарушенной Диомедом гармонии и не заклял поднятой Диомедом словесной бури.
[4] Некогда Гальбу осуждали… – Источник Монтеня: Светоний. Жизнеописание Гальбы, 9.
[5] …до того, как начались наши беды? – Т. е. религиозные войны XVI в. во Франции.
[6] …прав был врач Филотим… – Об этом рассказывает Плутарх: Как нужно слушать, 10.
[7] …спартанцам было по плечу… прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу… опасностям… – Об этом сообщает Геродот: VII, 209.
[8] …следуя… наставлениям Ксенофонта… – Эти «наставления» изложены Ксенофонтом: Киропедия, I, 6.
[9] И даже дневной свет обдает нас ласковою струей лишь потому, что каждый час прилетает к нам, сменив коней (лат.). – Петроний. Сатирикон. «Сменив коней», т. е. в новом облике. В изданиях XVI, XVII и XVIII вв. после текста приводится много стихотворных отрывков и эти стихи.
[10] Или виноградники, побитые градом; земля коварна, и деревья страдают то от обилия влаги, то от солнца, иссушающего поля, то от суровых зим (лат.) – Гораций. Оды, III, I. 29–32.
[11] Или небесное солнце иссушает поля чрезмерным зноем, или их губят внезапные ливни и студеные росы, или опустошают свирепые вихри и порывы ветров (лат.). – Лукреций, V, 215–217.
[12] …башмак… немилосердно жмущий вам ногу… – У Плутарха (Жизнеописание Эмилия Павла, 5) приводится рассказ об одном римлянине, который развелся со своей женой, за что его порицали друзья, обращаясь к нему со следующими вопросами: «Что ты можешь вменить ей в упрек? Разве она не хороша собой и у нее не красивый стан? Разве она не рожает тебе здоровых детей?» – на что этот римлянин, выставив вперед ногу и показывая на свой башмак, ответил: «Разве этот башмак не красив? Разве он плохо сшит? Разве он не совсем новый? И все же среди вас нет ни одного, никого, кто имел бы хоть малейшее представление о том, как ужасно он жмет мне ногу».
[13] Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом жизни (лат.). – Цицерон. Парадоксы, VI, 3.
[14] …кто по примеру Фокиона обеспечивает… детей… – Источник Монтеня: Корнелий Непот. Фокион, I.
[15] Я… не одобряю поступка Кратеса. – Об этом рассказывает Диоген Лаэрний: VI, 88. Кратес – см. прим. 9, гл. XXV, том I.
[16] Кто начал тревожиться, тому себя не сдержать (лат.). – Сенека. Письма, 13, 13.
[17] Капля точит камень (лат.). – Лукреций, I, 313.
[18] Тогда мы ввергаем нашу душу в заботы (лат.). – Вергилий. Энеида, V, 720. Монтень несколько изменил слова Вергилия, приспособив их к своему контексту.
[19] …когда Диогена спросили… – Об этом рассказывается у Диогена Лаэрция: VI, 54.
[20] Почему ты не предпочтешь заняться тем, что полезно? почему не плетешь корзин из прутьев и гибкого тростника? (лат.). – Вергилий. Эклоги, II, 71–72.
[21] О если бы нашлось место, где бы я мог провести мою старость, о если бы мне, уставшему от моря, странствий и войн, обрести, наконец, покой! (лат.). – Гораций. Оды, II, 6, 6–8.
[22] Плоды таланта, доблести и всякого нашего дарования кажутся нам наиболее сладкими, когда они приносят пользу кому-либо из близких (лат.). – Цицерон. О дружбе, 19.
[23] …даже Платон… не преминул… уклониться… – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций, III, 23.
[24] Многие подали мысль обмануть их, ибо обнаружили страх быть обманутыми, и, подозревая другого, предоставили ему право на плутни (лат.). – Сенека. Письма, 3, 3. Монтень незначительно изменил текст Сенеки.
[25] Экю – серебряная монета ценностью в 3 ливра или франка.
[26] Рабство – это покорность души слабой и низменной, не умеющей собой управлять (лат.). – Цицерон. Парадоксы, V, 1.
[27] Чувства, о всевышние боги, чувства (лат.). – Откуда взяты эти слова, не установлено.
[28] И чаша и кубок мне показывают меня (лат.). – Гораций. Послания, I, 5, 23–24. Монтень перефразирует Горация, который говорит: «…тебе показывают тебя».
[29] …самое счастливое занятие человека – …праведно делать свои дела. – Платон. Письма, 9, 357 d.
[30] Лиар – мелкая медная монета.
[31] Времена хуже железного века, и их преступлению сама природа не находит названия, и она не создала металла, которым можно было бы их обозначить (лат.). – Ювенал, XIII, 28–30.
[32] Где понятия о дозволенном и запретном извращены (лат.). – Вергилий. Георгики, I, 505.
[33] Они обрабатывают землю вооруженные и все время жаждут новой добычи и жаждут жить награбленным (лат.). – Вергилий. Энеида, VII, 748–749.
[34] Царь Филипп собрал… толпу самых дурных… людей… – Источник Монтеня: Плутарх. О любознательности, 10. Этот город, по Плутарху, был назван Понерополис, т. е. город дурных людей.
[35] Пирра – жена Девкалиона, сына Прометея, царя Фтии в Фесалии. Оставшись после всемирного потопа единственными обитателями земли, Девкалион и Пирра вновь заселили землю, бросая себе за спину камни: те, что были брошены Девкалионом, превратились в мужчин, брошенные Пиррой – в женщин. Кадм – легендарный основатель города Фив; прибыв в Беотию, он убил дракона, который пожрал его спутников и товарищей, и по повелению Афины посеял его зубы, а из них выросли вооруженные люди, истребившие друг друга, за исключением пяти воинов, от которых и произошла фиванская знать.
[36] Солона как-то спросили… – Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Солона, 15.
[37] Варрон приводит… следующее… – Эти слова Варрона приводит Августин: О граде божием, VI, 4. Варрон, Марк Теренций – см. прим. 174, гл. XII, том II.
[38] Пибрак, Ги (1529–1584) – французский государственный деятель и писатель, ревностный католик, в своих писаниях превозносивший Варфоломеевскую ночь, Монтень ценил его широкую эрудицию и литературный талант. Цитируемые стихи из «Четверостиший» Пибрака (Quatrains contenant preceptes…) даны в переводе Н. Я. Рыковой.
[39] Де Фуа, Поль – французский государственный деятель, архиепископ тулузский (ум. в
[40] Стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению (лат.)
Стремясь не столько к изменению… порядка, сколько к… извращению. – Цицерон. Об обязанностях, II, 1. Монтень несколько изменил слова Цицерона, приспособляя их к своему контексту.
[41] …как это случилось с убийцами Цезаря… – Цезарь был убит 15 марта
[42] Пакувий Колавий покончил с… попытками этого рода… – Об этом рассказывает Тит Ливий: XXIII, 3; Пакувий Колавий (III в. до н. э.) – капуанский сенатор; во время 2-й Пунической войны, после разгрома римлян при Каннах (
[43] Увы! Наши рубцы, наши преступления, наши братоубийственные войны покрывают нас позором. На что только не посягнул наш жестокий век? Оставили ли мы, нечестивые, хоть что-нибудь нетронутым? Удержал ли страх перед богами нашу молодежь хоть от чего-нибудь? Пощадила ли она хоть какие-нибудь алтари? (лат.). – Гораций. Оды, I, 35, 33–38.
[44] Даже если бы сама богиня Спасения пожелала сохранить этот род, то и она не смогла б это сделать (лат.). – Теренций. Братья, IV, 244–245.
[45] …как утверждает Платон… – Государство, VIII, 54о а.
[46] …лишь бы… не получить своей доли. – Источник Монтеня: Плутарх. Утешительное слово к Аполлонию, 9. Плутарх приписывает эти слова Сократу.
[47] Ведь боги обращаются с людьми словно с мячами (лат.). – Плавт. Пленники, 34.
[48] …слова Исократа… не завидовать государям, владеющим обширными царствами… – Исократ. Слово к Никоклу, 26.
[49] И ни одному племени не предоставляет судьба покарать за нее народ, властвующий над сушей и морем (лат.). – Лукан, I, 82–84.
[50] Этот дуб уже не стоит на прочных корнях, но держится благодаря своему весу (лат.). – Лукан, I, 138–139.
[51] И у них свои беды; и над всеми бушует одинаково сильная буря (лат.). – Вергилий. Энеида, XI, 422–423. Монтень несколько изменил текст Вергилия.
[52] Быть может, бог восстановит в прежнем виде то, что мы расточили (лат.) – Гораций. Эподы, XIII, 7–8.
[53] Словно, погибая от жажды, я выпил чашу с водою из Леты, наводящею сны (лат.). – Гораций. Эподы, XIV, 3–4. Лета – подземная река, испив воду которой, умерший забывает свою предыдущую жизнь.
[54] …некоего линкеста… поставили… перед войском… – Источник Монтеня: Квинт Курций, VII, 1. Линкесты – племя в западной Македонии.
[55] Ничто так не вредит желающим произвести хорошее впечатление, как возлагаемые на них надежды (лат.) – Цицерон. Академические вопросы, II, 4.
[56] …письменное свидетельство об ораторе Курионе… – Об этом рассказывает Цицерон: Брут, 60. Курион, Гай Скрибоний – народный трибун