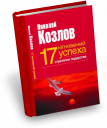– Вы любите музыку, княжна? – спросил он, когда они сели в такси.
Он не понимал, как ее называть. Даже пускай она проститутка, он чувствовал, что было бы грубо при таком недавнем знакомстве и при ее титуле называть ее Ольга, а если волею обстоятельств она оказалась в таком унизительном положении, тем более следует обходиться с ней уважительно.
– Знаете, я не княжна, и зовут меня не Ольга. В S rail меня так называют, потому что клиентам лестно думать, будто они ложатся в постель с княжной, а Ольгой зовут потому, что это единственное, кроме Саши, русское имя, которое им известно. Мой отец был профессором экономики в Ленинградском университете, а мать – дочь таможенного чиновника.
– Как же тогда вас зовут?
– Лидия.
Они приехали как раз к началу. Народу тьма, никакой надежды сесть. Было очень холодно, и Чарли предложил Лидии свое пальто. Она молча покачала головой. Боковые приделы были освещены ничем не затемненными круглыми плафонами, резкий свет бил в своды, в колонны, в темную толпу молящихся. Ярко освещены были и хоры. Чарли и Лидия нашли место у колонны; укрывшись в ее тени, можно было чувствовать себя отделенными от остальных. На возвышении расположился оркестр. У алтаря – священнослужители в великолепном облачении. Музыка казалась Чарли несколько напыщенной, и он слушал слегка разочарованный. Вопреки ожиданию она его не трогала, и солисты с их металлическими оперными голосами оставляли его равнодушным. Чувство такое, словно присутствуешь на спектакле, а не на религиозном действе, не ощущаешь ни малейшего благоговения. Но все равно он был рад, что пришел. От темноты, которую электрический свет прорезает, будто блестящий нож, готические линии храма кажутся еще суровей; мягкий блеск алтаря, где горит множество свечей, где священники свершают действия, значение которых ему неведомо; молчащая толпа, которая, кажется, ни в чем не принимает участия, но тревожно замерла в ожидании, будто на вокзале у барьера, в ожидании, когда откроют проход; тяжелый запах мокрой одежды, сливающийся с благоуханием ладана; жестокий холод, что сковывает, словно чье–то незримое грозное присутствие; совсем не религиозные чувства рождало все это, но ощущение тайны, корнями уходящей в истоки человечества. Нервы молодого человека напряглись, и когда хор вдруг грянул в сопровождении оркестра Adeste Fidelis (Приидите верные – лат.), его неведомо почему охватило ликованье. Потом мальчик запел гимн – высокий чистый голос серебром зазвучал в тишине, и звуки струились, поначалу чуть колеблясь, словно певец был не совсем в себе уверен, струились, точно кристально чистая вода по белому каменистому ложу ручья, а потом певец обрел уверенность, огромные темные ладони подхватили мелодию и подняли к замысловатым изгибам арок и еще выше, в ночь под купол свода. Чарли вдруг осознал, что стоящая рядом с ним Лидия всхлипывает. Он огорчился, но, воспитанный и по–английски сдержанный, сделал вид, будто ничего не заметил; он подумал, что в темной церкви, слушая этот чистый мальчишеский голос, она вдруг устыдилась. Чарли был впечатлительный юноша и прочел много романов. Ему казалось, он догадывается, что она чувствует, и стало бесконечно жаль ее. Странно только, что ее так взволновала отнюдь не лучшая музыка. Но Лидия уже по–настоящему расплакалась, и теперь нельзя было делать вид, будто он ничего не замечает. Он протянул руку, взял ее руку в свою, надеясь таким образом выразить сочувствие и утешить, но она почти грубо вырвала руку. Теперь ему сделалось неловко. Лидия плакала так отчаянно, что стоящим поблизости, конечно, было слышно. В какое нелепое положение она себя поставила от стыда Чарли бросило в жар.
– Может быть, выйдем? – шепотом спросил он.
Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильней и сильней, и вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она странно скорчилась, стала похожа на груду сброшенной одежды, и, не вздрагивай у нее плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волнующая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по ступеням, чтобы принять частицу тела Христова, которую давал им священник. Деликатность мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.
Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение исполнить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или поймать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви. Чарли подождал, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже катилась к дверям. И положил руку на плечо девушки.
– Идемте. Надо уходить.
Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задержался, пока в церкви не осталось всего человек десять – двенадцать.
– Хотите немного пройти пешком?
– Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.
Но все равно несколько шагов пройти пришлось – такси подвернулось не сразу. Когда они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась, вынула из сумки зеркало и посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.
– Сейчас ничем не поможешь,– сказал Чарли с доброй улыбкой.– Лучше зайдем куда–нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в S rail.
– Я, если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.
В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.
– Куда поедем?
– Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.
Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки.
Когда подъехали, он заколебался – казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.
– Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.
Через несколько минут она вернулась и села рядом. Она пониже надвинула шляпу, чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное. Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим извинения.
– Я очень голодная,– сказала она.– Вы, наверно, тоже.
Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.
– Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.
Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.
– Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по–домашнему. Мне нравится смотреть па людей, которые сюда приходят.
– Ладно, посидим тут.
Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было сделать такую глупость – повести ее на рождественскую мессу. У него недоставало мужества обойтись с ней не по–доброму. Но, видно, что–то в его тоне ее насторожило, потому что она полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя, были в ней терпение и разочарование.
– Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вернетесь в Serail?
– Нет, это не годится.
– Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами. Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.
– Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.
– Но почему? – Она бросила на него презрительный взгляд.– Вы что, считаете нужным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любопытно?
Чарли не понимал ее – почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?
– Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?
Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.
– Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?
– Ничего.
– Почему же тогда вы сейчас покраснели?
– Я не знал, что покраснел,– улыбнулся Чарли.
На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнаженное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая–то экзотическая, вызывающая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в постель, все равно как с какой–нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе. Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:
– Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из–за того, о чем вы подумали. Из–за того, видит Бог, я уже довольно наплакалась, а теперь совсем из–за другого. Мне так стало одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли просто послушать музыку, а некоторые – неверующие, но в те минуты их всех соединяло общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово священника и каждое его движение им знакомо, и даже если умом они не веруют, благоговение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний о детстве, о садах, где они играли, о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я отверженная.
У нее вырвался печальный смешок.
– Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда ломаю голову, пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю, мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю хуже, чем по–английски и по–французски. Толстого и Достоевского мне легче читать в переводе. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы, у кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы,– разве вы можете сказать, что значит быть одной в целом свете?
– И у вас совсем нет родных?
– Никого. Мой отец был социалист, но он был тихий, мирный человек, поглощенный своими учеными занятиями, и не участвовал в политике. Он приветствовал революцию и думал, что она откроет для России новую эру. Он принял большевиков. Только просил, чтобы ему позволили продолжать работать в университете. Но его уволили, а потом он узнал что ему грозит арест. Мы бежали через Финляндию, отец, мать и я. Мне было два года. Двенадцать лет мы жили в Англии. Как жили, одному Богу известно. Иногда отцу перепадала кой–какая работа, иногда люди нам помогали, но отец тосковал по родине. Прежде, кроме студенческих лет в Берлине, он никогда не уезжал из России; он не мог привыкнуть к английскому образу жизни и наконец почувствовал, что должен вернуться. Мать умоляла его не ехать. Он ничего не мог с собой поделать, не мог он не поехать, слишком сильно было желание; он связался с людьми из русского посольства в Лондоне, сказал, что готов выполнять любую работу, какую бы ему ни предложили большевики; в России у него было имя, в свое время книги его удостаивались всяческих похвал, в своей области он был признанным авторитетом. Ему чего только не наобещали, и он отправился. Едва пароход пристал, отца схватили агенты Чека. Мы слышали, что его посадили в тюремную камеру на четвертом этаже и потом выбросили из окна. А сказали, что он покончил с собой.
Лидия коротко вздохнула и зажгла очередную сигарету. После ужина она курила без передышки.
– Отец был мягкий, кроткий. В жизни никого не обидел. Мама мне говорила, что за все годы их семейной жизни он ни разу ей резкого слова не сказал. Оттого что он помирился с большевиками, люди, которые до этого нам помогали, перестали помогать. Мама решила, нам лучше уехать в Париж. У нее здесь были друзья. Они нашли ей работу – она отправляла письма. Я стала ученицей портнихи. Мама умерла, потому что на двоих еды не хватало, и она отказывала себе, чтобы я не ходила голодная. Я нашла работу у одной портнихи, она платила мне половину обычного жалованья, потому что я русская. Если бы те мамины друзья, Алексей и Евгения, не приютили меня, я бы тоже голодала. Алексей играл на скрипке в оркестре в русском ресторане, а Евгения работала в дамской уборной. У них было трое детей, и мы вшестером жили в двух комнатах. Алексей по профессии адвокат, он был одним из папиных учеников в университете.
– Вы и сейчас не потеряли их из виду?
– Нет, конечно. Теперь они очень бедствуют. Понимаете, всем обрыдли русские, обрыдли русские рестораны и русские оркестры. Алексей уже четыре года без работы. Он ожесточился, стал вздорным, много пьет. Одну их дочь взяла на попечение тетушка, живущая в Ницце, а другая пошла в услужение, сын теперь наемный танцор и промышляет в ночных клубах на Монмартре; он часто бывает здесь, не знаю, почему сегодня его нет, может, с кем–то поладил. Отец, когда пьян, бьет его и проклинает, но сотня франков, которые он приносит в дом, если ему повезет найти пару, помогает сводить концы с концами. Я до сих пор живу у них.
– Вот как?– удивился Чарли.
– Надо же мне где–то жить. В Serail я ухожу только вечером, и если дела там идут вяло, в четыре–пять утра уже возвращаюсь. Но они живут ужасно далеко.
Они немного помолчали.
– Что вы имели в виду, когда сказали, что плакали не из–за того, о чем я подумал? – спросил наконец Чарли.
Она опять глянула на него подозрительно и с любопытством.
– Вы хотите сказать, что и вправду не знаете, кто я? Я думала, ваш друг Саймон потому и послал за мной.
– Ничего он мне не говорил… сказал только, что с вами я не зря потрачу время.
– Я жена Робера Берже. Вот почему меня взяли в Serail, хоть я и русская. Это приятно возбуждает клиентов.
– Боюсь, я совершенный тупица, но, право, я не понимаю, о чем вы толкуете.
У Лидии вырвался короткий, резкий смешок.
– Такова слава. Имя, которое у всех на устах, ничего не значит там, куда можно доехать за один день. Робер Берже убил английского букмекера Тедди Джордана. Его приговорили к пятнадцати годам каторжных работ. Он в Сен–Лоране, во Французской Гвиане.
Сказала она это так буднично, что Чарли ушам своим не поверил. Слова Лидии привели его в ужас, испугали, потрясли.
– Неужели вы правда не знали?
– Даю вам слово. Сейчас, когда вы об этом заговорили, мне вспоминается, я читал об этом в английских газетах. Это произвело изрядную сенсацию, ведь… ведь жертвой был англичанин, вот только я забыл имя… имя… вашего мужа.
– Во Франции это тоже произвело сенсацию. Суд длился три дня. Люди рвались туда. Газеты отвели ему целиком первые полосы. Все только об этом и говорили. Да, была настоящая сенсация. Вот тогда я впервые увидела вашего друга Саймона, во всяком случае он впервые увидел меня, он давал материалы об этом деле в свою газету, а я была в суде. Захватывающий получился процесс, журналистам было на чем показать себя. Попросите Саймона, пускай он вам расскажет. Он гордится статьями, которые тогда написал. Они были до того умные, отрывки из них перевели и напечатали во французских газетах. Саймон очень на этом выдвинулся.
Чарли не знал, что сказать. Он злился; это вполне в духе Саймона, – разыграть такую вот злую шутку и поставить приятеля в дурацкое положение.
– Для вас все это, наверно, было ужасно,– запинаясь, сказал он.
Лидия чуть повернулась, заглянула ему в глаза. Чарли, чья жизнь всегда проходила в приятном окружении, никогда еще ни на одном лице не видел такого чудовищного отчаяния. В лице Лидии сейчас не осталось почти ничего человеческого, оно скорее походило на одну из японских масок какие художник создает, чтобы выразить то или иное чувство. Чарли бросило в дрожь. До сих пор ради него Лидия почти все время говорила по–английски, лишь изредка переходя на французский, когда ей трудно было что–то выразить на непривычном языке, но теперь она совсем перешла на французский. Протяжная русская интонация окрашивала ее речь обычной печалью и в то же время придавала словам какую–то нереальность. Будто человек говорит во сне.
– Мы были женаты всего полгода. Я ждала ребенка. Может быть, именно это спасло Роберу жизнь. Это и его молодость. Ему был только двадцать один год. Ребенок родился мертвым. Слишком я перестрадала. Понимаете, я любила мужа. Он был моей первой и единственной любовью. Когда его осудили, хотели, чтоб я с ним развелась,– по французским законам ссылка на каторгу достаточное для этого основание; мне говорили, мол, жены каторжников всегда с ними разводятся, и злились, что я не захотела. Защитник Робера был ко мне очень добр. Он говорил, я сделала все, что было в моих силах, у меня было трудное время, но я до конца поддерживала мужа, а теперь должна подумать о себе, я молода и должна начать новую жизнь, а если я останусь связанной с каторжником, моя жизнь станет еще трудней. Он возмущался, когда я говорила, что люблю Робера, что кроме Робера для меня ничего не существует, что бы он ни сделал, все равно его люблю, и если б было можно и если б он захотел, я с радостью к нему бы поехала. Наконец защитник пожал плечами, сказал, что с русскими ничего нельзя поделать, но если я когда–нибудь передумаю и захочу получить развод, пускай я к нему приду, и он мне поможет. И Евгения и Алексей, бедняга Алексей, никчемный пьяница, оба не давали мне покоя. Говорили, мол, Робер подлец, безнравственный человек, говорили, это позор, что я его люблю. Как будто можно разлюбить, потому что любить его позорно! Назвать человека подлецом проще простого. А что это значит? Он убил и пострадал за свое преступление. Никто из них не знал его, как я. Понимаете, он меня любил. Они не знали, какой он нежный, какой обаятельный, какой веселый, ребячливый. Говорили, он чуть меня не убил, как убил Тедди Джордана. Они не понимают, что от этого я его только больше люблю.
Чарли, который ничего не знал об обстоятельствах дела, по речам Лидии ни в чем не мог толком разобраться. И спросил:
– Почему он должен был вас убить?
– Когда он вернулся домой… после того, как убил Джордана… было очень поздно, и я уже легла, а его мать его дожидалась. Мы жили вместе с ней. Он был в отличном настроении, но мать с первого взгляда поняла, что он совершил что–то ужасное. Понимаете, она уже много недель это предчувствовала и была вне себя от тревоги.
«Ты где так задержался?» – спросила она.
«Я–то? А нигде,– ответил он.– Тут недалеко, с ребятами.– Он усмехнулся и потрепал ее по щеке.– Так легко убить человека, мама,– сказал он.– Так легко, ну прямо смех».
Тут она поняла, что он натворил, и расплакалась.
«Бедная твоя жена,– сказала она.– Какой же несчастной она теперь из–за тебя станет».
Он понурился и вздохнул.
«Может, лучше убить и ее тоже»,– сказал он.
«Робер!» – крикнула мать.
Он покачал головой.
«Не бойся, у меня бы не хватило мужества,– сказал он.– А все–таки, если б я убил ее, пока она спит, она бы ничего не узнала».
«Боже мой, ну почему ты это сделал?»–воскликнула мать.
Он вдруг засмеялся. У него был удивительно веселый, заразительный смех. Услышишь, и сразу делается радостно.
«Не дури, мать, я просто шучу,– сказал он.– Ничего я такого не сделал. Иди ложись спать».
Мать понимала, что он врет. Но только это он и сказал. Наконец она ушла к себе. Домик был крохотный, в Нейи, но при нем был садик и в конце его небольшой флигель. Когда мы поженились, она отдала нам дом, а сама переехала во флигель, чтоб быть рядом с сыном, но не стеснять нас. Робер вошел в нашу комнату и разбудил меня поцелуем в Глаза его сияли. У него глаза голубые, не такие голубые как ваши, скорее серые, но большие и очень блестяще Они почти всегда улыбались. И были поразительно живые.
Постепенно речь Лидии замедлилась. Словно пришла ей на ум какая–то мысль, и теперь она взвешивала каждое слово. Со странным выражением она посмотрела на Чарли.
– Ваши глаза чем–то напоминают мне о Робере, и овал лица у вас такой же. Он пониже ростом, и не было у него этого типично английского цвета лица. Красивый он был, очень.– Она чуть помолчала.– Какой же злой шут этот ваш Саймон.
– Что вы хотите этим сказать?
– Ничего.
Лидия облокотилась на стол, подалась вперед, уперлась подбородком в ладони и продолжала на одной ноте, будто под гипнозом рассказывала о чем–то, что проходило перед ее отсутствующим взглядом.
– Я проснулась, открыла глаза и улыбнулась.
«Как ты поздно, – говорю. – Скорей ложись».
«Мне сейчас не уснуть, – сказал он. – Я слишком взвинчен. И голодный. В кухне есть яйца?»
К тому времени я уже совсем проснулась. Вы не представляете, как он был хорош, когда сидел на кровати в своем новом сером костюме. Он всегда со вкусом одевался и замечательно умел носить вещи. Волосы у него были очень красивые, темные, вьющиеся и длинные, он зачесывал их назад.
«Я надену халат, и пойдем посмотрим», – сказала я.
Мы прошли в кухню, я достала яйца и лук. Поджарила яичницу с луком. Сделала несколько тостов. Иногда, возвратясь домой после театра или концерта, мы сами что–нибудь себе готовили. Он любил яичницу с луком, и я готовила ее в точности как ему нравилось. Мы любили вот так скромно поужинать вдвоем, в кухне. Робер спустился в погреб и принес бутылку шампанского. Я знала, его мать рассердится, то была последняя бутылка из полудюжины, которую Роберу подарил один его приятель по скачкам, но он сказал, ему сейчас требуется шампанское, и открыл бутылку. Он с жадностью ел яичницу и залпом осушил бокал шампанского. В ту ночь какое–то в нем было неистовство. Когда мы только вошли в кухню, я заметила, что он очень бледен, хотя глаза у него ярко блестели, и не знай я, что это совсем не в его духе, я бы подумала, что он выпил, но скоро бледность прошла. Я решила, он просто устал и проголодался. Конечно же, он весь день носился сломя голову, и возможно, у него маковой росинки во рту не было. Хотя мы расстались всего несколько часов назад, он был вне себя от радости, что мы опять вместе. Он без конца меня целовал, а когда я жарила яичницу, хотел меня обнять, и пришлось его оттолкнуть, а то вдруг бы я испортила свою стряпню. Но я не могла удержаться от смеха. Мы сели за кухонный столик рядышком, ближе некуда. Какими только ласковыми любовными именами он меня не называл и все не мог оторвать от меня рук, будто мы женаты не полгода, а всего неделю. Мы поужинали, и я хотела вымыть посуду, чтоб утром, когда придет мать, она не застала никакого беспорядка, но он мне не позволил. Ему не терпелось со мной лечь.
Он был будто одержимый. Никогда я не думала, что мужчина может так любить женщину, как он любил меня той ночью. Каким обожанием я была полна, я не знала, что женщина способна на такое. Он был ненасытен. Казалось, его страсть невозможно утолить. Ни у одной женщины никогда не было такого любовника, как у меня в ту ночь. И он был моим мужем. Он был мой! Мой! Я его боготворила. Позволь он мне, я бы целовала ему ноги. Когда, измучась, он наконец уснул, в просвет между занавесями заглянула утренняя заря. Но я уснуть не могла. Светало, и я не сводила с него глаз; на его мальчишеском лице не было ни морщинки. Он спал, заключив меня в объятия, и его губы чуть улыбались счастливой улыбкой. Наконец я тоже уснула.
Когда я проснулась, он еще спал, я тихонько вылезла из постели, чтобы его не потревожить. И пошла в кухню сварить ему кофе. Мы были очень бедны. Раньше Робер служил в одной маклерской конторе, но поссорился с хозяином и ушел от него, и с тех пор постоянной работы у него не было. Он был без ума от скачек, и иногда ему кое–что перепадало, хотя мать терпеть не могла это его занятие, а иной раз он немного подрабатывал, перепродавая подержанные автомобили, но, по сути, мы жили на пенсию его матери, она была вдова военного доктора и еще кое–что сумела отложить. Служанки у нас не было, и всю домашнюю работу мы делали вдвоем со свекровью. Я застала ее на кухне, она чистила к обеду картошку.
«Как Робер?» – спросила она.
«Он еще спит. Видели бы вы, какой он сейчас. Волосы взъерошены, и он будто мальчишка шестнадцати лет».
Кофе стоял на полке в камине, молоко было теплое. Я его вскипятила, выпила чашку, потом на цыпочках поднялась наверх и взяла одежду Робера. Он любил франтить, и я научилась гладить его вещи. Мне хотелось все ему приготовить и аккуратно сложить на стуле до того, как он проснется. Я принесла их в кухню, почистила и поставила разогреть утюг. Когда я положила на кухонный стол брюки, я увидела на одной штанине пятна.
«Да что ж это такое? – воскликнула я.– Робер чем–то перепачкал брюки».
Мадам Берже так поспешно вскочила со стула, даже опрокинула картошку. Схватила брюки, глянула на них. И ее стала бить дрожь.
«Интересно, чем он их вымазал, – сказала я. – Робер будет вне себя. Его новый костюм».
Я видела, она огорчилась, но, знаете, французы в некоторых отношениях странные. Какое–нибудь пятно на платье для них событие, не то что для русских. Не знаю, сколько сотен франков Робер заплатил за этот костюм, но если костюм погублен, свекровь целую неделю не сможет спать, все будет думать о зря потраченных деньгах.
«Я отчищу», – сказала я.
«Отнеси Роберу кофе, – резко сказала она. – Уже двенадцатый час, пора ему встать. Брюки оставь мне. Я знаю, что с ними сделать».
Я налила ему чашку кофе и собралась идти наверх, но тут мы услыхали, что он в тапочках сбегает по лестнице. Он кивнул матери и попросил газету.
«Выпей кофе, пока не остыл», – сказала я.
Он пропустил мои слова мимо ушей. Развернул газету и углубился в последние новости.
«Ничего нет», – сказала мать.
Я не поняла, о чем она. Робер пробежал взглядом по колонкам, потом не спеша отхлебнул кофе. Он был непривычно молчалив. Я взяла его пиджак и стала чистить щеткой.
«Ты вчера вечером сильно запачкал брюки, – сказала я– – Придется тебе сегодня надеть синий костюм».
Мадам Берже прежде повесила испачканные брюки на спинку стула. Теперь она их сняла и показала ему пятна. Он с минуту их разглядывал, а она молча за ним наблюдала. Казалось, он не может отвести от них глаз. Я не понимала их молчание. Странное оно было. Мне казалось, они отнеслись к этому пустяковому случаю до смешного трагически. Но, конечно, у французов бережливость в крови.
«Дома есть немного бензину,– сказала я.– Им можно вывести пятна. Или отдадим брюки в чистку».
Они не ответили. Робер сидел хмурый, не поднимая глаз. Мать перевернула брюки, наверно, хотела посмотреть, есть ли пятна сзади, а потом нащупала что–то в карманах.
«Что у тебя там?»
Робер вскочил.
«Не трогай. Нечего шарить по моим карманам».
Он попытался вырвать у нее брюки, но прежде она успела сунуть руку в задний карман и достала пачку банкнот. Увидев у нее деньги, Робер замер. Она уронила брюки на пол и со стоном прижала руку к груди, словно ее ударили ножом. Тут я заметила, что оба они бледные как смерть. Меня вдруг осенило, Робер часто мне говорил, что у матери наверняка есть кое–какие сбережения и она прячет их где–то в доме. Последнее время мы отчаянно нуждались. Роберу безумно хотелось поехать на Ривьеру; я там никогда не была, и он неделями твердил, что если б только ему раздобыть немного денег, мы бы туда поехали и наконец–то отпраздновали бы медовый месяц. Понимаете, когда мы поженились, он работал у того маклера и не мог уехать. У меня мелькнула мысль, что он нашел сбережения матери. Я подумала, что он украл их, покраснела до корней волос и, однако, не удивилась. Не зря я прожила с ним полгода, я знала, что ему это покажется забавной проделкой. Я видела у нее в руках билеты по тысяче франков. Потом оказалось, их семь. Мать так на него посмотрела, что казалось, глаза у нее выскочат из орбит.
«Где ты их взял, Робер?» – спросила она.
Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.
«Я вчера выиграл пари»,– ответил он.
«Ох, Робер,– воскликнула я,– ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».
«Тут дело было верное,– сказал он.– Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».
«Нет–нет, не надо ей этих денег! – крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразилась, потом она повернулась ко мне: – Поди прибери у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли неубранные».
Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сиены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.
«Бога ради оставь меня в покое,– сказал он.– Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».
Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.
«Усни, лапочка,– сказал он.– Не огорчайся из–за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самим собой».
«Это деньги твоей матери?» – шепотом спросила я.
Он сперва не ответил. Потом наконец сказал: да.
«Ох, Робер, как ты мог?» – воскликнула я.
Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:
«Если кто–нибудь о чем–нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».
«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» – воскликнула я.
«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».
Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, запахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.
«Не ходи»,– сказал Робер.
«Но в кухне что–то горит»,– сказала я.
«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешаешься, она тебя отругает».
И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.
«Если тебя станут про них спрашивать,– сказал он,– говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому–то бродяге. Клянешься?»
«Да»,– ответила я, насилу выговорила.
И тут он сказал ужасные слова:
«Может, от этого зависит моя жизнь».
Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтоб никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я смотрела, как он читает, и увидела, что он переменился в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.
«Ну что, малышка,– весело сказал он,– как насчет кофе? Ты что же, собираешься стоять так все утро, не сводя глаз со своего господина и повелителя, или накормишь его?»
Я поняла, в газете что–то есть, и я узнаю то, что непременно должна узнать. Робер позавтракал и пошел наверх одеваться. Когда он спустился, готовый выйти на улицу, я чуть не ахнула,– на нем был тот самый светло–серый костюм, в котором он ходил позавчера, те самые брюки. Но потом я, конечно, вспомнила, что, когда он заказывал костюм, брюк он заказал две пары. Об этом костюме было много разговоров. Мадам Берже ворчала, мол, слишком дорого, но он настоял на своем, сказал, если он не будет прилично одет, ему нечего и надеяться найти работу, и она наконец уступила, как всегда, только настояла, чтобы он заказал вторую пару брюк, брюки раньше обтрепываются, и экономнее заказать сразу две пары. Робер сказал, что к обеду не вернется, и вышел. Свекровь тоже скоро ушла за покупками, и едва я осталась одна, я схватила газету. И увидела, в своей квартире убит букмекер англичанин по имени Тедди Джордан. Его ударили ножом в спину. Робер часто о нем говорил, я слышала. Я поняла, что убил его Робер. У меня так заболело сердце, я думала, умру. Я была в ужасе. Не знаю, сколько времени я там сидела. Не могла шевельнуться. Наконец услышала – открывают ключом дверь, и поняла, что возвращается мадам Берже. Я положила газету на место и опять принялась хозяйничать.
Лидия тяжело перевела дух. Они приехали в ресторан не раньше часу, пожалуй, даже в начале второго, и кончили ужинать в два. Когда они входили, все столики были заняты и у стойки полно народу. Лидия рассказывала долго, а посетители мало–помалу расходились. Толпа у стойки редела. Теперь там сидели только двое, и кроме столика Чарли с Лидией был занят только еще один. Официанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу.
– По–моему, пора уходить,– сказал Чарли.– Они явно уже хотят от нас избавиться.
В эту минуту люди за соседним столиком встали, собираясь уходить. Женщина, которая принесла им с вешалки пальто, принесла и пальто Чарли и положила на соседний столик. Чарли спросил счет.
– Наверно, можно пойти куда–нибудь еще?
– Можно на Монмартр. У Граафа открыто всю ночь. Я ужасно устала.
– Что ж, если хотите, я отвезу вас домой.
– К Алексею и Евгении? Туда я сейчас не могу. Он наверняка пьян. Он будет всю ночь поносить Евгению за то, чем стали дети, мол, это она их такими воспитала, будет хныкать из–за своих горестей. В S rail мне не хочется. Лучше пойдемте к Граафу. Там, по крайней мере, тепло.
Казалось, она так удручена и вправду так измучена, что Чарли, не без колебаний, предложил поступить иначе. Он вспомнил слова Саймона, что в эту гостиницу можно привести кого угодно.
– Послушайте, у меня в номере две кровати. Почему бы вам не пойти со мной?
Она бросила на него подозрительный взгляд, но он с улыбкой покачал головой.
– Просто чтоб выспаться,–прибавил он.– Понимаете, я сегодня с дороги, взволнован, то, другое, в общем, я совершенно выдохся.
– Ладно.