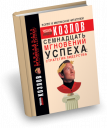Ночь в октябре
По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне все помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду, а в перерывах между этими звуками – та полная тишина, когда кажется, что земля остановилась и беззвучно висит в мировом пространстве.
Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал работать в деревню, в Рязань. Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом. В усадьбе жила старушка Василиса Ионовна – бывшая рязанская библиотекарша. В эту усадьбу я приезжал работать и раньше. И каждый раз, приезжая, я замечал, как разрастается сад и как старятся дом и его хозяйка.
Из Москвы я выехал последним пароходом. Рыжие берега тянулись за окнами каюты. На берега непрерывно набегали серые волны от пароходных колес. Всю ночь в салоне горела красным накалом дежурная лампочка. Мне все казалось, что на пароходе я совершенно один, - пассажиры почти не выходили из теплых кают. Только хромой капитан-сапер с обветренным лицом и прищуренными глазами бродил по палубе и смотрел, улыбаясь, на берега. Они были готовы к зиме: листва давно осыпалась, трава полегла, ботва почернела, а над избами прибрежных деревень курился белый дым – всюду уже топили печи. И река была готова к зиме. Почти все пристани убраны в затоны, бакены сняты, и ночью наш пароход мог идти только потому, что над землей лежала серая лунная мгла.
На пароходе я разговорился с капитаном-сапером, и мы оба обрадовались. Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит в Новоселках и что ему, так же как и мне, придется переправляться на лодке на другой берег Оки и идти через луга до той же деревни Заборье, что и мне. В Новоселки пароход должен был прийти вечером.
- Я-то иду не в Заборье, - сказал капитан, а подальше, в лесничество на Белом озере, но до Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта и всего навидался, а одному все же скучно идти ночью через тамошнюю глухомань. До войны я лесничествовал, а теперь демобилизовался, возвращаюсь на старое место. Чудесное дело – леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каждую ночь видел во сне.
Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет.
Когда глухим вечером пароход подвалил к Новоселкам, на пристани никого не было, кроме сторожа с фонарем. Сошло нас двое – Зуев и я. Едва мы соскочили на сырой настил со своими рюкзаками, как пароход отошел, обдав нас мятым паром. Сторож с фонарем тотчас ушел, и мы остались одни.
- Давайте не будем торопиться, - сказал Зуев. – Посидим на бревнах, покурим, сообразим, что делать дальше.
По голосу его, по тому как он вдыхал запах речной воды, оглядывался по сторонам и засмеялся, когда пароход дал за поворотом короткий гудок и ночное эхо начало перекатывать этот гудок все дальше, пока не занесло в заокские леса, - по всему этому я понял, что Зуев не хочет торопиться только потому, что с необыкновенной и какой-то изумленной радостью ощущает себя в привычных и милых местах, куда от не надеялся возвратиться.
Мы покурили, потом поднялись на крутой берег к сторожке бакенщика Софрона. Я постучал в окошко. Софрон тотчас вышел, будто он и не спал, узнал меня, поздоровался, сказал:
- Вода ноне прибывает. За сутки нагнало два метра. Должно, наверху дожди. Не слыхал?
- Нет, не слыхал.
Софрон зевнул.
- Дело осеннее. Ну что ж, поехали?
Ока ночью казалась очень широкой, гораздо шире, чем днем. Вода шла сильно, во весь размах реки. Всплескивала рыба. В мутноватом свете ночи было видно, как круги от всплесков стремительно уносятся течением, растягиваясь и разрываясь.
На том берегу мы вышли. Из лугов тянуло завялой травой, сладковатым запахом ивовых листьев. Мы пошли по чуть заметной тропинке, вышли на сенокосную дорогу. Было тихо. Луна опускалась к земле, - свет ее уже потускнел.
Мы должны были пересечь луговой остров шириною в лесть километров, потом перейти по старому мосту через второе – узкое и заглогшее – русло Оки, а за ним, за песками, уже лежало Заборье.
- Узнаю, - говорил, волнуясь, капитан. – Все узнаю. Оказывается, я ничего не забыл. Вон четыре купы деревьев! Это ивы на Прорве. Верно? Вот видите! Глядите, какой туман над Селянским озером! И ни одной птицы. А воздух! Какой воздух, мать моя родная! Настоялся на травах за всю эту осень. Я таким воздухом нигде не дышал, кроме как в наших местах. Слышите, петухи заголосили? Это в Требутине. Вот звонкие, черти! За четыре километра слышно!
Но чем дальше мы шли, тем все меньше говорили, а потом и совсем замолчали. Сумрачная ночь лежала над заводями, над черными стогами, над зарослями. Молчание этой ночи передалось и нам.
По правую пуку потянулось заросшее озеро. Вода в нем тускло отсвечивала. Зуеву было трудно идти из-за его хромоты. Мы сели отдохнуть на поваленную ветром иву. Я хорошо знал эту иву, - она лежала уже несколько лет и вся заросла низким шиповником.
- Да, жизнь! – вздохнул Зуев. – Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо, это, по-вашему? Или нет?
- Наоборот, - сказал я. – Совсем не глупо. У вас есть семья?
- Нет. Я бобыль.
Мы пошли дальше. Луна зашла за высоким берегом Оки. До рассвета было далеко. На востоке еще лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.
- Одного не пойму, - сказал Зуев. – Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?
- Наоборот, - сказал я. – Совсем не глупо. У вас есть семья?
- Нет. Я бобыль.
Мы пошли дальше. Луна зашла за высоким берегом Оки. До рассвета было далеко. На востоке еще лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.
- Одного не пойму, - сказал Зуев. – Почему лошадей перестали гонять в ночное? Раньше до самого снега гоняли. А сейчас в лугах ни одной коняги.
Я тоже заметил это, но не придал этому значения. Вокруг было так пустынно, что, кроме нас, на луговом острове, казалось, не было больше ничего живого.
Потом я увидел впереди неясную и широкую полосу воды. Ее раньше не было. Я всмотрелся, и у меня замерло сердце, - неужели так разлилось старое русло Оки!
- Скоро мост, - весело сказал Зуев, - а там и Заборье. Можно сказать, пришли.
Мы подошли к берегу старого русла. Дорога срывалась прямо в черную воду. Вода неслась у самых наших ног и подмывала низкий берег. То тут, то там был слышен тяжелый плеск, - это обрушивались куски подмытого берега.
- Где же мост? – спросил встревожено Зуев.
Моста не было. Его или смыло или затопило, и вода уже шла над ним толщей в полтора-два метра. Зуев зажег электрический фонарик, посветил. Из-под мутных волн торчали, качаясь, верхушки кустов.
- Та-ак! – сказали озадаченно Зуев. – Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать. – Он помоочал.
- Покричать, что ли?
Но кричать было бесполезно. До Забоья было еще далеко, и нас все равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не была ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.
- Придется идти на перевоз, - сказал я. – Конечно…
- Что «конечно»?
- Да ничего, дорогу я знаю.
Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз еще работает», но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, конечно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.
- Ну что ж! – согласился Зуев. – Пойдемте. Ночь как потемнела, окаянная!
Он снова посветил и выругался, - вода уже закрыла верхушки кустов.
- Дело серьезное! – пробормотал Зуев. – Идемте скорей!
Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетел из темноты и начал нести вкось над землей мелкую снеговую крупу. Все чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли, спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежало два небольших оврага – всегда сухих. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.
- Заливает овраги, - сказал Зуев. – Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода? Непонятно.
Это было действительно непонятно и потому страшно. Даже во время сильных осенних дождей вода никогда не подымалась так быстро и не заливала остров.
- А деревьев здесь нет, - заметил неожиданно Зуев. – Одни кусты.
На острове как раз против перевоза была наезженная дорога. Мы узнали ее по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла, на высоком берегу, тяжело гудел под ветром сосновый лес.
Чем дальше тянулась ночь, тем становилось все кромешнее и холодней. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарем. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заполаскивала в луга.
- Перево-оз! – закричал Зуев и прислушался. – Перево-оз!
Никто не откликнулся. Гудел лес.
Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождем. Редкие его капли начали тяжело стучать вокруг нас по земле.
Мы снова начали кричать. В ответ все так же равнодушно гудел лес.
- Нет перевозчика! – сказал с сердцем Зуев. – Ясно! И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, если остров заливает и на нем нет и не может быть ни души. Глупо… в двух шагах от родного дома.
Я понимал, что выручить нас может только случайность: или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничто не предвещало этой черной ночной беды,- к ней мы сами пришли навстречу.
- Пойдемте по берегу, - сказал я. – Может быть, наткнемся на лодку.
Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил фонариком, но свет его все тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.
Я наткнулся на что-то темное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажег спичку и сунул ее в солому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнем. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно гудел.
Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать, потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом – и воздух, и вода, и деревья, и даже ботва.
Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.
- Она сейчас погаснет, - тихо сказал Зуев. – Под ногами уже вода.
Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул лесов и плеск воды долетали слабые отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:
- Эге-гей! Лодка! Чюда!
Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:
-Иду-у!
Зуев быстро разгреб солому. Вырвалось пламя. В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихонько смеяться.
- Весла! – говорил он. – Весла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке!
Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь дикую тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, отваги, никогда не умирающие в нашем народе.
- Эй, на пески выходите! Пониже! – звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это женщина.
Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.
- Погодите садиться, воду надо отлить, - сказал тот же женский голос.
Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица ее не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова ее была закутана теплым платком.
- Как вас только сюда занесло? – строго спросила женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.
Она молчала и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:
- Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.
- А как вы попали ночью в лес, наша спасительница? – шутливо спросил Зуев.
- Шла на работу, - неохотно ответила женщина. – Из Пустыни в Заборье. Вижу – огонь на острове, люди. Ну, вот, догадалась. А перевозчики уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле весла нашла. Под сеном в шалаше. Я сел на весла. Я греб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что ее сносит к какому-то черному водопаду, куда низвергается вся мутная вода, и тьма, и вся эта ночь. Я часто оглядывался. Лесистый берег делался все круче, и только поэтому я догадывался, что мы плывем. Женщина молчала. Молчал и Зуев.
Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить. В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о ненастной ночи и недавней опасности. Но теперь ночь казалась мне удивительной и прекрасной. И приветливым и знакомым казалось мне лицо молодой женщины, когда мы закурили и всеет спички осветил ее мимолетным огнем. Серые ее глаз смущенно смотрели на нас. Мокрые пряди волос выбивались из-под платка.
- Никак ты, Даша? – вдруг очень тихо сказал Зуев.
- Я, Иван Матвеевич, - ответила женщина и засмеялась легким смехом, будто она смеялась чему-то известному только ей одной. – Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы! Никак не верили, что вы не вернитесь.
- Вот так оно и бывает, - сказал Зуев. – Четыре года воевал, смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти спасла меня Даша. Помощница моя, - сказал он мне. – Работала в лесничестве. Учил я ее всякой лесной премудрости. Была девочка слабенькая, как стебелек. А теперь посмотрите, как вытянулась! Какая красавица! И строгая стала, суровая.
- Да что вы! Я не суровая, - ответила Даша. – Это я так… от отвычки. А вы к Василисе Ионовне? – неожиданно спросила она меня, очевидно чтобы переменить разговор.
Я ответил, что да, к Василисе Ионовне, и зазвал Дашу и Зуева к себе. Надо было обогреться, обсохнуть, отдохнуть в теплом старом доме.
Василиса Ионовна нисколько не удивилась нашему ночному появлению. По старости своей она привыкла ничему не удивляться и все, чтобы ни случилось, толковала по-своему. И теперь, выслушав рассказ о нашем злоключении, она сказала:
- Велик бог земли русской. А про Софрона этого я всегда говорила, что он растяпа. Удивляюсь, как это вы, писатель, сразу его не раскусили! Значит, у вас тоже есть своя слепота на людей. Ну, а за тебя, - сказала она, оборачиваясь к Даше, - я рада. Дождалась ты наконец Ивана Матвеевича.
Даша покраснела, сорвалась с места, схватила пустое ведро и выбежала в сад, забыв затворить за собой дверь.
- Куда ты? – всполошилась Василиса Ионовна.
- За водой… для самовара! – крикнула из-за двери Даша.
- Не понимаю я нынешних девушек, - сказала Василиса Ионовна, не обращая внимания на то, что Зуев никак не может зажечь спичку и закурить. – Слова им не скажи – вспыхивают как костер. Чудная девушка! Могу сказать – моя отрада.
- Да, - согласился Зуев, справившись наконец со спичкой. – Замечательная девушка.
Конечно, Даша уронила ведро в колодец в саду. Я знал, как доставать ведра из этого колодца. Я доставал ведро шестом. Даша мне помогала. Руки у нее были ледяные от волнения, и она все повторяла:
- Вот чудачка эта Василиса Ионовна! Вот чудачка!
Ветер разнес тучи, и над черным садом уже сверкало, то сразу разгораясь, то как же сразу тускнея, звездное небо. Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из него – влажные зубы поблескивали в темноте – и сказала:
- Ох, как же я вернусь в дом, - прямо не знаю!
- Ничего, пойдемте.
Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой, - гордость Василисы Ионовны.
Дождливый рассвет
В Наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, - горел только один фонарь.
«Где же город? – подумал Кузьмин. – Тьма, дождь,- черт знает что!»
Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер.
Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.
- Часа три, - ответил помощник. – Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.
- Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.
- Да, задача! – вздохнул помощник. – Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.
Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.
- Эй, приятель, - громко сказал Кузьмин, - царство божие проспишь!
Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:
- Поедем, что ли?
- Поедем, - согласился Кузьмин.
- А куда везти?
Кузьмин назвал улицу.
- Далеко, - забеспокоился извозчик. – На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.
Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.
- Ты что ж, единственный в Наволоках извозчик? – спросил Кузьмин.
- Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?
- К Башиловой.
- Знаю, - извозчик живо улыбнулся. – К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний…
Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.
- Ты на дорогу смотри, - посоветовал Кузьмин. – Не оглядывайся.
- Дорога действительно… - пробормотал извозчик. – Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.
Извозчик замолчал. Кузьмин, закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше,» - подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.
«Остаться бы здесь на весь отпуск, - подумал Кузьмин. – От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окном в сад. В такую ночь открыть настежь окно, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».
- А вы не муж ихний? – спросил извозчик.
Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, - сообразил извозчик. – А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».
- Но, сатана! – крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. – Нанялась тесто месить!
«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью», - подумал Кузьмин. Почему Башилов – его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!
Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате об американских фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возразить. Но высмеивал хитро – намеками, шутками, и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.
За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, - подумал Кузьмин. – Вот, кажется, плачет. Значит, любит сильно».
Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил итальянскую офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.
- Что вы на меня так смотрите? – спросил Кузьмин.
- Хороший вы человек, - ответил Башилов. – Вы могли бы быть художником, дорогой майор.
- Я топограф, - ответил Башилов. – а топографы по натуре – те же художники.
- Почему?
- Бродяги, - неопределенно ответил Кузьмин.
- «Изгнанники, бродяги и поэты, - насмешливо продекламировал Башилов, - кто жаждал быть, но стать ничем не смог».
- Это из кого?
- Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.
- Чему завидуете?
Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.
- Чему завидую? – переспросил Башилов и положил свою руку на руку Кузьмина. – Всему. Даже вашей руке. И не левой. А именно правой.
- Ничего не понимаю, - сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но, чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать в стаканы вино.
- Ну и не понимайте! – ответил Башилов сердито.
Он помолчал и заговорил, опустив глаза:
- Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?
- Ну, что вы! – сказал растерявшись Кузьмин. – Вы тоже увидите вашу жену.
- Она мне не жена! – резко ответил Башилов. – Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».
- Она мне не жена! – так же резко повторил Башилов. – Она – все! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!
Он встал и протянул Кузьмину руку:
- Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.
Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.
«Далеко все-таки!» - вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:
- Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…
- Это можно, - тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».
Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.
Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» - с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел. Он том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.
«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, - так и жизнь пройдет», - почему-то подумал Кузьмин.
Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Это любовь удивляла его самого. Вырос он на юге в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому от и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы он родился в другой время, то был бы охотником, открывателем новых земель, авантюристом. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, сдержан, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет
Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? – подумал он. – Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом – неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».
Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.
Пролетка остановилась около дома с мезонином.
- Приехали! – сказал извозчик. – Звонок у калитки, с правого боку.
Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал – только завизжала ржавая проволока.
- Шибче тяните! – посоветовал извозчик.
Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, - никто, очевидно, не проснулся.
- Ох-хо-хо! – зевнул извозчик. – Ночь дождливая – самый крепкий сон.
Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:
- Кто такие? Чего надо? Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил:
- Отворяй, Марфа, - сказал он. – К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
- Кто с фронта? – так же неласково спросил за дверью голос. – Мы никого не ждем.
- Не ждете, а вот дождались!
Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноте, кто он и зачем приехал.
- Батюшки! – испуганно сказала женщина за дверью. – Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.
Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.
- Тут ступеньки, - предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. – Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, - у нас по ночам огня нету.
Она ушла, а Кузьмин остался в галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.
За приоткрытой дверью задрожал свет.
- Пожалуйте, - сказала женщина.
Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.
- Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, - улыбнулась старуха.
- Гудки с пристани здесь слышно? – вполголоса спросил Кузьмин.
- Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.
Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать, о чем написана книга, что в ней? Тургеневский ли это роман с его трепетом девичьей любви и солнцем за облетающими липами? А может быть, горькая повесть Катюши Масловой.
На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно позабытые слова:
И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…
Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая, теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.
Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, белым матовым абажуром, оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку, - здесь все старомодно, давно позабыто.
Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о жизни – а ее у Кузьмина никогда не было – и вызвало у него желание остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома – неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней. Желание погрузиться в течение жизни – ясной, лишенной душевного разлада, когда даже старость не пугает и не вызывает мучений, как не вызывает их летний вечер, постепенно тонущий во тьме ночи.
Но среди старых вещей и другие. На столе стоял букет полевых цветов – ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.
И рядом – раскрытая книга Блока. «Дорога дальняя легка…» И черная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.
Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. Только в жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.
Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.
«Старость это, что ли? – подумал Кузьмин и обернулся.
На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.
- Извините, - сказала женщина и протянула Кузьмину руку. – Я вас заставила ждать.
- Вы Ольга Андреевна Башилова?
- Да.
Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз – глубокий и немного туманный.
Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.
- Что ж мы стоим! – сказала она. – Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.
Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.
- Курите, конечно, - сказала женщина. – Я тоже, пожалуй, закурю.
Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закуривала, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.
Ольга Андреевна седа против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.
- Марфуша, - сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. – Поставь, милая, самовар.
- Нет, что вы! – испугался Кузьмин. – Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что… о вашем муже.
- Что рассказывать! – ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. – Он жив – я рада.
Кузмин молчал.
- Останьтесь, - просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. – Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.
- Почему?
- А у нас, батюшка, пониже Наволок, - сказала из соседней комнаты Марфа, - перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.
- Это правда, - подтвердила Ольга Андреевна. – Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?
- Тимофей их привез, - сообщила из-за двери Марфа.
Было слышно, как она гремит самоварной трубой. – Хоть чайку попейте. А то что же – из дождя да под дождь.
Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.
Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли старые синие чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.
Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала, и Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», - подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже не нужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:
- Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, - я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.
- Какое же затруднение! – поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: - Наоборот, это очень хорошо.
- Что хорошо?
Кузьмин покраснел.
- Что хорошо? – громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, - строго, подавшись вперед, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал. – Но все же, что хорошо? – опять спросила она.
- Как вам сказать, - ответил, раздумывая, Кузьмин. – Это особый разговор. Все, что мы любим, редко случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?
- Не очень, - ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.
- Как бы вам объяснить, - сказал Кузьмин, сердясь на себя. – С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, реки, лошаденка, проселочные дороги, уносится вся наша милая Россия, и слышите неясный звон. Что звенит, непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.
Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином:
- Пейте. Это рислинг.
- Я в жизни, - сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе, - всегда ждал во таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Не надолго, но бывал.
- И сейчас тоже? – спросила Ольга Андреевна.
- Да.
Ольга Андреевна опустила глаза.
- Почему?
- Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.
- Какой? – спросила Ольга Андреевна.
Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.
- Сел на пароход, - продолжал Кузьмин. – Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся из проспать. Вышел на палубу, увидел глухую ночь и подумал: как странно, что в этой закрывшей всю Россию темноте под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. И только сейчас, во сне, остановилась их жизнь. И то – не надолго. А день опять начнет плести нитку, - как бы вам сказать, - нитку судьбы у каждого. И у вас и у меня. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.
- Чем же вы все-таки счастливы? – спросила Ольга Андреевна.
- Так… - спохватился Кузьмин. – Вообще хорошо.
Он замолчал.
- Что же вы? Говорите!
- О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.
- Обо всем, - ответила Ольга Андреевна, она как будто не расслышала его последних слов. – О чем хотите, - добавила она. – Хотя все это немного странно.
Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.
- Что странно? – спросил Кузьмин.
- Все дождь! – сказала Ольга Андреевна и обернулась. – Вот вы – одинокий человек. И я – тоже. И такая встреча и весь этот разговор – разве не странно?
Кузьмин смущенно молчал. Ольга Андреевна подошла к календарю, оторвала листок.
- Двенадцатое июня. Я постоянно забываю, сколько дней в году?
- Триста шестьдесят пять.
- Мне двадцать восемь лет. Это сколько же будет дней?
Кузьмин подумал, улыбнулся.
- Около десяти тысяч.
- Ну, хорошо. Отбросим пять тысяч дней на детство. Значит, пять тысяч раз я ждала чего-то чудесного. Ждала, как и все ждут, - каждый божий день. Но никто мне не мог сказать, никакая гадалка, когда наконец среди этих дней выпадет самый памятный.
Она подняла на Кузьмина посветлевшие глаза и спросила:
- Я глупости говорю, конечно?
Кузьмин хотел ответить, что это вовсе не глупости, но в сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.
- Ну что ж, - как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. – Вот и гудок!
Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.
- Погодите, - сказала она спокойно. – Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.
Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые волосы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уезжал из этого городки, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина, живет и ждет самый памятный день.
Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.
Они вышли, молча пошли по темной улице.
- Скоро рассвет, - сказала Ольга Андреевна.
Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.
- Вам холодно? – встревожился он. – Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.
- Нет, не зря, - коротко ответила Ольга Андреевна.
Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.
В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Одни только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих вильный ливень.
В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом – предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.
- Как же мы спустимся? – спросил Кузьмин.
- Идите сюда!
Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.
- Дайте руку! – сказала Ольга Андреевна. – Здесь много гнилых ступенек.
Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.
На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что вот сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет, - ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.
- Попрощаемся здесь, - сказала Ольга Андреевна. – Дальше я не пойду.
Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?
Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.
Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно…» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.
Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожами и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу – Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.
Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.