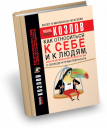СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
 Утром в понедельник, 14 декабря 1825 года погода была не очень холодная.
Утром в понедельник, 14 декабря 1825 года погода была не очень холодная.
Мороз всего восемь градусов и небольшой ветер с Невы.
В этот день Панька ночевал в Петербурге у брата своей матери, дяди Ефрема, и встал поздно. Тётка пекла пироги, а дядя — ямщик рано ушёл на ямской двор кормить лошадей.
Панька ждал его, чтобы нынче же уехать в Царское Село. Панька теперь был младшим садовником.
Время было тревожное. Все знали, что царь Александр умер. Но никто не знал, кто из братьев царя будет царствовать — Константин или Николай.
Дядя Ефрем пришёл очень поздно — взволнованный и как будто оглушённый.
— Слышал, что на площади-то делается?
— Не знаю ничего…
— Восстание! Гвардейцы хотят царя скинуть!
— Царя? На площади?!
— Встали возле Петрова памятника стеной. У офицеров сабли в руках! Солдаты с примкнутыми штыками стоят, как в бою!
— Ох, батюшки! — в ужасе произнесла тётка. — А ехать-то как же?
— Какое там ехать! — досадливо отозвался ямщик. — Все заставы закрыли.
— Что же теперь будет?
— То ли царь будет, то ли нет, — сказал дядя Ефрем.
— Я не про то, — стонала тётка, — я про Николая!
— Про великого-то князя? — спросил Панька. — Ну и шут с ним! Знаю я его!
— Да не про этого! Про нашего Николая!
Дядя и племянник растерянно посмотрели друг на друга.
— Николай-то в гвардии! — спохватился дядя Ефрем.
— Думаешь, он там?
Дядя Ефрем сплюнул.
— Может статься, что и там. Почём я знаю?
— Вот что, дядя Ефрем, — озабоченно промолвил Панька, — надо идти.
— Куда?
— На площадь!
Дядя Ефрем нахмурил густые брови и долго гладил бороду.
— Да, племянник, — сказал он, — надо идти.
— Ахти, убьют вас! — закричала тётка.
— Авось не убьют, — сказал ямщик, — а я один могу троих свалить.
— Тётенька, не волнуйте себя, — прибавил Панька, — мы в самый бой не полезем, а будем сбоку.
И он решительно надел шинель.
На площадь пройти не удалось, потому что все соседние улицы были забиты густой толпой. Здесь были люди всех званий, и больше всего мастеровых. Говорили и про царских братьев, и про господ офицеров, и что теперь, стало быть, всем воля будет. И ещё говорили про то, что солдат на площади мало, а с другой стороны, от Адмиралтейства, сила валит и даже кавалерия прискакала.
— Послушай, Паня, — сказал дядя Ефрем, — никуда мы тут не пробьёмся. Пойдём в сенатское здание. У меня там сторож знакомый.
В сенатское здание пройти оказалось проще простого. Сторожа не было, и народ валом валил по чёрной лестнице, прямо на чердак, а с чердака на крышу.
С крыши открылось зрелище невиданное. На площади двумя чёрными квадратами стояли гвардейские солдаты. Видны были офицеры с обнажёнными саблями. Блестели штыки. С другой стороны, вдоль здания Адмиралтейства, и дальше, на Адмиралтейской площади, стояла кавалерия, а сбоку группа генералов на лошадях. Деревянные леса строящегося Исаакиевского собора были усеяны людьми.
Ветер дул с Невы, трепал знамёна и сдувал снег с крыш. Низкие, серые облака двигались над площадью и над бронзовым памятником Петру I, который сидел спиной к восставшим, словно его всё это не касалось.
Панька присмотрелся к стоявшим на площади. Брата Николая он не увидел, да и трудно было разглядеть солдат, стоявших строем в одинаковой зимней форме. Зато Панька ясно увидел две знакомые с детства фигуры: это были долговязый Кюхельбекер и плотный, широкий Пущин.
Кюхельбекер был во фраке и в круглой шляпе. В руке он держал огромный пистолет. В другой руке у него была сабля. Он метался между строем солдат и штатскими, которые стояли у ограды памятника. Среди них выделялся Пущин в меховой накидке и меховой же шапке.
Пущин стоял неподвижно, опустив руки. Голова его ушла в плечи. Он словно вглядывался в даль.
Тайное общество стало явным. И в этот день, 14 декабря, всё должно было решиться — придёт ли в Россию свобода или всё рухнет на долгие годы.
На площади стояло три тысячи восставших солдат и офицеров. Против них было собрано двенадцать тысяч.
Панька увидел, как от Адмиралтейства поскакали к рядам восставших несколько всадников. Один из них был в треугольной шляпе с чёрным султаном.
Панька знал этого всадника — это был младший брат покойного царя Михаил Павлович, тот самый, который в Царском Селе ломал хлыстом розовые кусты.
— А этого сюда ещё зачем принесло? — проворчал Панька сквозь зубы.
Сидевший рядом с ним на крыше дюжий мужчина в армяке усмехнулся и сказал:
— Уговаривать едет…
 Но Михаилу Павловичу и слова сказать не пришлось. Кюхельбекер прицелился в него из пистолета. Царский брат повернул коня и поскакал обратно.
Но Михаилу Павловичу и слова сказать не пришлось. Кюхельбекер прицелился в него из пистолета. Царский брат повернул коня и поскакал обратно.
Кюхельбекер спустил курок, но выстрела не было. Вильгельм злобно поглядел на пистолет и хотел швырнуть его в снег, но какой-то усатый унтер-офицер схватил его за руку.
— Что делаете, ваше благородие? Снегом забьётся, стрелять не будет. Осечка у вас случилась, поберегите заряд!
Панька этого не слышал, но понял, что пистолет не выстрелил.
— Эх, и тут у него всё не как у людей! — проговорил он в сердцах.
— Ты его знаешь?—спросил дядя Ефрем.
— Как не знать! Из наших, лицейских!
Хрипло заиграла труба, кавалерия построилась.
Послышалась команда, засверкали сабли, и всадники поскакали на чёрный квадрат.
Солдаты взяли «к плечу». Громыхнул залп, взметнулся белый дым, две лошади упали, другие вздыбились.
Кавалерия рассеялась и помчалась обратно.
— Вот так лихо! — сказал мужчина в армяке. — Раньше уговаривали, а теперь, видишь, за сабли взялись!
— А раньше что было?
— Поначалу важный генерал солдат уговаривал, да в него из пистолета попали. Потом сам митрополит приходил с крестом, да назад ушёл. А они всё стеной стоят.
— И долго ли так будет?
Мужчина в армяке призадумался.
— Нам бы ружья, мы бы весь Петербург переворотили, — сказал он тихо.
— А ты бревном, — посоветовал дядя Ефрем.
— Ан нет, не дадут, — серьёзно отвечал мужчина в армяке. Сгущались ранние декабрьские сумерки. Становилось всё холоднее, и ветер крепчал. Революционеры ждали подкреплений, но никто не приходил.
Паньке с крыши было видно, как на Адмиралтейскую площадь выезжают пушки.
Ездовые отпрягли лошадей и отъехали в сторону. Пушки стояли нацеленные на солдат. Возле них вытянулись артиллеристы, одни с пальником1, от которого тянулась тонкая струйка дыма.
______________
1 Па льни к — железные щипцы с деревянной ручкой; ими держали фитиль, когда поджигали запал пушки.
Офицер скомандовал, но артиллерист с пальником не двинулся с места. Тогда офицер сам схватил пальник и поднёс его к пушке.
Полыхнул рыжий огонь, в воздухе раздался пронзительный визг.
Снег на крыше взметнулся вихрем, загрохотало железо.
Паньку словно хлопнули дубиной по ноге. Его потащило с крыши, и он ухватился руками за трубу. Мужчина в армяке упал лицом в снег.
— Почтенные, уходите, по крыше бьют! — крикнул кто-то рядом.
Дядя Ефрем подхватил Паньку под руку и поволок его на чердак. Панька слышал ещё один пушечный выстрел, но потом в глазах у него потемнело, и он потерял сознание.
Всю ночь Пущин провёл без сна. Он разбирал бумаги тайного общества и жёг их в печи.
Восстание было проиграно. Пушки уничтожили на площади строй солдат. Несколько десятков людей было убито. Всюду на снегу валялись трупы. Николай I вступил на престол.
А там, на крыше Сената, на лесах возле собора, погибали простые люди… Сколько их там осталось?
Пущин не мог сейчас думать о том, почему это случилось и кто виноват. Не мог он и бежать, да бежать было некуда. Он тщательно всё уничтожил и теперь сидел один у горящей печки.
Не надо было стоять на месте. Надо было атаковать. Время было потеряно даром. Всё рухнуло!
Теперь надо было с поднятой головой встретить судьбу.
И она пришла скоро. В дверь сначала громко постучали кулаком. Потом дверь затрещала и распахнулась настежь. На пороге стояли жандармы.
ВЕЧНО ЮНЫЙ ЖАННО
 Летом 1828 года в Царкосельском Лицее произошло большое событие – явился знаменитый поэт Пушкин. Это событие так взволновало лицейских, что они нарушили правила и столпились в прихожей.
Летом 1828 года в Царкосельском Лицее произошло большое событие – явился знаменитый поэт Пушкин. Это событие так взволновало лицейских, что они нарушили правила и столпились в прихожей.
В Лицее стихи Пушкина были запрещены и читали их тайком. В тогдашнем Лицее вообще многое запрещалось – например, читать «трагедии и различные романы», издавать журналы, выходить из Лицея без гувернеров, глядеть в форточки на улицу, посылать письма родным без утверждения директора и ложиться спать без молитвы.
Поэт Пушкин оказался человеком небольшого роста, в чёрном сюртуке и белых летних панталонах. Лицо у него было длинное и смугловатое. В руках он держал трость и шляпу, которые бросил гардеробщику, и, улыбаясь, повернулся к лицеистам.
— Как вас много! — сказал он. — В наше время куда меньше было… Покажите же мне Лицей.
Его повели наверх, в зал и столовую. Показывали ему стихи лицейских поэтов, рассказывали о лицейских правилах.
— Здесь я жил, — сказал Пушкин, указывая на знакомую дверь.
Это был уже не четырнадцатый, а сорок второй номер. Окошка с кисейной занавеской, где подслушивал Пилецкий, не было, но все двери и комнаты лицеистов были полуоткрыты, как на смотру. Так полагалось по правилам. И все комнаты выглядели аккуратно и одинаково.
Пушкин сначала улыбался, а потом улыбаться перестал. Поднимаясь по лестнице в библиотеку, он заметил, что у него болтается застёжка от панталон. Он оторвал её и бросил. Ею немедленно завладел лицеист Грот, который всю жизнь её хранил как воспоминание и показывал только в особых случаях.
В коридорах Лицея всё так же пахло чернилами, мелом и воском, но только этот привычный запах и остался от старых времён Лицея. Всё было другое. Даже походка у лицеистов изменилась: когда-то они ходили широкими шагами и фалды расстёгнутых мундиров летели за ними, как крылья. Теперь они шагали в застёгнутых до горла мундирах, как-то странно подкидывая ноги, и ходили большей частью парочками. Ходить гурьбой считалось неприличным.
И вообще никакого шума в Лицее не было — это запрещалось правилами.
Пушкин вышел из здания Лицея нахмуренный. Никто не провожал его до крыльца. Выходить на улицу без разрешения лицейским не полагалось.
Пушкин пошёл по аллее к пруду. Липы стали ещё гуще, чем когда-то. Золотые тени шевелились на песчаных дорожках. Но знакомых голосов не слышно было.
На камне, над вечно журчащим источником, всё так же сидела бронзовая девушка и глядела на разбитый кувшин.
Пушкин уселся на чугунную скамью на берегу пруда. Он положил шляпу и трость рядом с собой. Скрестив руки на груди, смотрел он на стройный силуэт Чесменской колонны. Ветра не было, пруд был гладок и пустынен.
 По берегу шёл, прихрамывая, дворцовый служитель. Сначала Пушкин не видел его лица, но когда он подошёл поближе, Пушкин вскочил и бросился ему навстречу.
По берегу шёл, прихрамывая, дворцовый служитель. Сначала Пушкин не видел его лица, но когда он подошёл поближе, Пушкин вскочил и бросился ему навстречу.
— Панька! Ты ли?
— Ваше благородие, — дрогнувшим голосом отвечал Панька, — ваше благородие… господин Пушкин!..
— Слава богу! — говорил Пушкин. — Хоть одного-то знакомого встретил! Что с тобой? Что делаешь, милый?
Он тряс Паньку, хлопал его по плечам, вертел и щекотал.
— Я садовником, ваше благородие… Парковые розы развожу. Господам придворным на развлечение…
— А лапту помнишь?
— Помню, — грустно отвечал Панька, — да ведь играть не могу — нога…
— Что у тебя с ногой?
Панька замялся.
— Ваше благородие, — проговорил он тихо, — здесь, при дворцах, думают, что меня зимой санями переехало…
— При дворцах? — удивлённо повторил Пушкин. — А на самом деле?
— Вам, лицейскому, могу сказать по правде: меня пулей в ногу ударило на площади… в декабре…
Пушкин оторопело опустил руки.
— В декабре?.. На площади? Ты был там?
— Я на сенатской крыше сидел.
— Боже мой! И ты видел? Ты наших видел?
— Видел, — подтвердил Панька. — их благородия господа…
— Молчи! — сказал Пушкин. — Я знаю, кого ты видел! Они далеко… очень далеко…
— В Сибири?
Пушкин помолчал.
— Длинный — в крепости, в тюрьме… А другой, тот в Чите, на каторге… Понял?
— Понял, ваше благородие, — отозвался Панька.
Оба долго молчали.
— Вот наши новости, — сказал Пушкин. — А твои как? Родители живы ли? Да не женат ли ты?
— Никак нет, не женат. Отец помер, а брата моего убили.
— Постой-ка, Паня… Брат твой, кажется, служил в гвардии рядовым?
— Так точно — там и убили… в декабре, на площади…
— Бедняга… — сказал Пушкин. — Дорого нам с тобой обошлась эта площадь…
Пушкин смотрел в сторону. По пруду медленной вереницей плыли белогрудые лебеди.
— А Лицей? — встрепенулся Пушкин. — Ты там бываешь?
— Нельзя, — отвечал Панька, — нынче в Лицее порядки военные, сторонних не пускают, даже подходить нельзя. Директором у них генерал, а сами шагают, как на параде.
— Я видел, — сказал Пушкин.
— А я садовником, — повторил Паня, — парковые розы сажаю. Дозвольте идти!
На этом они расстались. Пушкин, сидя на скамье, смотрел, как Панька, ковыляя, скрылся за старыми липами.
С пруда потянуло холодом. Лебеди уплыли. Кругом не было ни живой души. Неподвижная вода лежала, как гладкое зеркальное стекло, среди безлюдных зелёных берегов.
В 1853 году в сибирском городишке Ялуторовске в маленьком домике с тремя окнами на огород можно было увидеть широкоплечего человека с седоватыми густыми усами. Он лежал на диване и прислушивался к звукам пианино.
Пианино стояло в соседней комнате. Играла на нём дочь ссыльного Ивана Ивановича Пущина — Аннушка. Хорошо играть она ещё не научилась и подбирала на слух знакомые мотивы.
Пущин лежал на диване больной. У него сердце было плохое — постоянно колотилось без всяких причин, а нога болела из-за расширения вен. Было ему пятьдесят пять лет.
За окном белел недавно выпавший снег. Было девятнадцатое октября — годовщина основания Лицея.
В этот день Иван Иванович надевал на палец памятное чугунное кольцо. Ему казалось, что в этот день он становится моложе.
Бывало, в этот день в Лицее с утра готовились к балу, к спектаклю, посещению родных. Яковлев бродил по комнатам с гитарой; Пушкин сочинял эпиграммы; Горчаков загонял слуг, чистивших ему ботинки и мундир; Дельвиг и Данзас переписывали текст пьесы; Малиновский учил свою роль и кричал на весь Лицей. Шум стоял на всех этажах. Доктор Пешель, пожимая плечами, говорил:
«У старшего курса сегодня лихотряска!»
«Лихорадка», — поправлял его Илличевский…
Где теперь лицейские?
Володя Вольховский был в тайном обществе; послан офицером на Кавказ, потом изгнан из армии… Антон Дельвиг умер в Петербурге… Вильгельм Кюхельбекер умер в ссылке… Ваня Малиновский служил офицером, теперь живёт безвыездно в своём имении… Федя Матюшкин — капитан флота, славный исследователь северных морей… Миша Яковлев служит в Петербурге и музыку сочиняет… Сильверий Броглио погиб, сражаясь за свободу Греции… Саша Пушкин…
Иван Иванович вспомнил давно прошедший день, когда заезжий петербургский офицер Розенберг зашёл к нему в одиночную камеру тюрьмы. Иван Иванович спросил, что с Пушкиным. Розенберг замялся.
— Нечего от вас скрывать, — сказал он неохотно, — Друга вашего нет! Он был ранен на дуэли и через двое суток умер. Я был при отпевании его тела в церкви, накануне выезда моего из Петербурга.
Пушкин убит! А Иван Иванович не раз в каторжной тюрьме радовался, что поэта не было на площади, что он уцелел для России, для всего народа русского…
Не надо поддаваться дурным настроениям! Энгельгардт сказал ему однажды:
«Друг Жанно, не мудрено жить, когда хорошо. Умей жить, когда худо…»
Кажется, Иван Иванович научился «жить, когда худо», не давать воли сердцу, думать не о себе, а о товарищах, быть «как можно ровнее в расположении духа». Как дедушка говорил: «Исполняй долг свой, сообразуясь с разумом». Только так и можно продержаться.
Может быть, тогда, в лицейские годы, Пущин не правильно избрал путь свой?
А был ли у него другой путь?
Иван Иванович встал с дивана и подошёл к столу. Много лет его единственным развлечением было писать письма туда, «на волю». Хорошо, когда письмо можно было послать с проезжим, верным человеком. А посылая письма по почте, Пущин обязан был писать на конверте: «От государственного преступника И. И. Пущина». Такое письмо вскрывалось и читалось в жандармерии и зачастую не доходило по адресу.
На столе лежало письмо Феде Матюшкину:
«…Только это состояние отрадное — вера в человечество, стремящееся, несмотря на все закоулки, к чему-нибудь высокому, хорошему, благому. Без этой веры трудно жить…» Письмо было подписано: «Вечно юный твой Жанно».
 За стеной Аннушка снова заиграла на пианино. Иван Иванович подошёл к дочери.
За стеной Аннушка снова заиграла на пианино. Иван Иванович подошёл к дочери.
Над пианино висел рисунок, изображавший Лицей. Вот он со всеми подробностями — четыре этажа строгого вида, а сбоку высокая арка, под которой идёт улица. Над аркой библиотека. Вот полукруглое общее окно комнат тринадцатой и четырнадцатой — «Иван Пущин», «Александр Пушкин»…
Из окна виден дворец царский. Думали при дворце основать школу для обучения чиновников, а выросли в ней вольнодумцы и бунтари!
Аннушка заиграла мелодию, которую она знала с малых лет. Иван Иванович тихо подпевал:
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!..
— Батюшка, а ведь у вас голос совсем молодой! — сказала Аннушка и обняла отца.
Рубинштейн Лев. Повести Вся эта книга на одну тему — о том, как когда-то учились подростки в России, кем они хотели быть, кем стали и как он