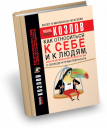В ОГНЕ
Третий день настал с тех пор, как заговорили польские пушки, а все не умолкал их дикий рев, все изрыгали их медные жерла огонь, дым и чугун. Хуже всех приходилось тем монастырским пушкарям, что засели на Водяной башне, напротив злой пушки Трещеры. Но и тут явное чудо свершалось, хранил святой Сергий своих воинов: ядра сбивали зубец за зубцом, вонзались в каменную толщу стен, но народу били немного; да и башня, хотя вся тряслась и осыпалась, а трещин не давала… Пробоины заделывали глиной с песком и мелкими каменьями.
Самый ловкий пушкарь обительский Меркурий Айгустов, из детей боярских, служил примером другим воинам.
В ясное октябрьское утро живая работа кипела наверху Водяной башни; молодые послушники носили снизу по каменной узкой лестнице ядра и порох; пушкари наводили жерла на туры вражеские, заряжали пушки…
— Не спеши! Не спеши! — покрикивал Меркурий Айгустов своим помощникам. — Пусть ляхи без передышки палят — уморятся скорей. Ну, с Богом…
Подожгли запал, грянул выстрел; видно было, как одна тура, сбитая ядром, осела, свалилась и открыла красные жупаны польских воинов.
— Наводи на них!
Новое ядро заставило врагов попрятаться. С их стороны рявкнула Трещера — отлетел угол зубца башенного; молодого послушника задело по плечу каменным осколком — испугался юноша и ядро из рук выпустил… Айгустов все сразу приметил…
— Не робей! Не робей! Давай ядро сюда!..
Но послушник, бледный, дрожащий, бросился к лестнице, шепча трясущимися губами:
— Ой, страшно! Спаси, Господи! Ой, боюсь!..
Из темного отверстия лестницы показался черный клобук архимандрита Иоасафа. Настоятель слышал испуганный лепет юноши и шагнул вперед.
— Чего страшишься, чадо неразумное? Без воли Господней ни единый волос не упадет с главы нашей… Смотри, я за тебя послужу пушкарям…
И старый инок, с трудом подняв откатившееся тяжелое ядро, понес его к пушке. Застыдился боязливый послушник, впереди других бросился он помочь крепкому духом старцу.
— Так, так, чада мои милые! — говорил с доброй улыбкой отец архимандрит, видя, как живо и ладно закипела опять работа, как бодро сносили подвигнутые его примером послушники тяготы боя.
— Отец архимандрит, — молвил весело Айгустов, заряжая пушку. — О нас не кручинься — справимся…
— Вижу, вижу… Исполать тебе, добрый молодец! Благословив Меркурия, воинов и послушников, старец
неспешно спустился по лестнице на стену. Тут шла та же работа; воевода князь Долгорукий всех подбодрял, за всеми смотрел. Благословил старец и князя.
— Жарко, отче, — молвил князь. — Ишь, нехристи без устали палят. Бывал я в битвах и осадах, а такой не помню.
— Не робеют ли у тебя, княже, ратные люди? — допрашивал архимандрит, поглядывая на воинов.
— Нет, отец Иоасаф, молодцами держатся. И деревенские парни не хуже стрельцов. Вон тот молодец у меня больно ловок, так палить привык, что уж я его в сотники поставил. Эй, парень!..
Данила Селевин, в новом кафтане с галуном, подошел к ним, усталый от жаркой работы. Отец Иоасаф, любовно улыбаясь, благословил его:
— Откуда будешь, молодец?..
— Молоковские мы все, отец архимандрит, трое нас, братьев… Пришли святому Сергию послужить… Селевиными звать…
— Тот богатырь-то, что от богомольцев приходил ко мне, брат что ли тебе?
— Старший брат, отец честный… Все мы крест целовали — не сдавать обители до смерти…
Еще раз благословил отец Иоасаф Данилу; пошел сотник к пушкам.
— А быть скоро приступу, отче, — сказал воевода. — Вишь, как ляхи палят спешно… И целят-то худо… знать, просто оглушить,, напугать норовят, а там и нагрянут.
— Отобьемся с Божьей помощью, князь.
— Вестимо… Эй, левее наводи, левее!..
И князь поспешил к пушкарям. Успокоенный, ободренный, спустился настоятель со стен во двор обители.
Около келий да амбаров много люду толпилось. Плакали и вопили ребята, голосили женщины, старики и больные молились в полный голос… Велика была на обительских дворах сумятица, но и тут отцу Иоасафу не пришлось сильно кручиниться. Заботливы были старцы монастырские, умели они народ разумным словом утишить, успокоить.
Иеромонах отец Корнилий сидел на крылечке своей келейки; плотным кругом теснились к нему богомолки и богомольцы: девушки, бабы, старики, дети… И не было слышно тут ни плача, ни криков; так все заслушались старца, что словно бы и позабыли про ляхов, про грохот вражеских пушек.
— И не раз, чада мои милые, — говорил старец, — находила на Русь година тяжкая, не раз шли на нее боем враги-нехристи, простой люд и бояр в полон брали, рушили храмы православные, города и села огнем жгли. В старину ханы татарские всю землю нашу под своей рукою держали; к ним, в орду поганую, ездили князья православные ответ держать, кланяться… Но и та беда горькая прошла над Русью-матушкой. Восстал на татар великий князь московский Димитрий Иоаннович… Долго князь глубокую думу думал, золото-серебро собирал, полки снаряжал. И пошел он, великий князь, к подвижнику Божию, к святому Сергию, что тогда еще длил свое житие земное. И дал святой Сергий великому князю благословение, и с бодрым духом двинул князь полки на Мамая, злого хана татарского. О ту пору даровал Господь молитвами святого Сергия дружинам княжеским победу великую… Почто же смущаетесь и плачетесь теперь, чада мои? За нас, за всю Русь православную преподобный Сергий у престола Божия печется!..
Не пропускали богомольцы ни единого слова из мудрой речи старца Корнилия. Слезы текли по щекам их, вызывала те слезы вера и надежда светлая.
К другому кружку богомольцев перешел отец Иоасаф. Старец Гурий тоже ободрял и поучал простой народ.
— И повелел благоверный царь Василий Иоаннович мощи невинно убиенного отрока, царевича Димитрия, перенести из Углича в стольный град Москву. Святители церкви православной Филарет Ростовский и Феодосии Астраханский прибыли с боярами царскими в Углич. Многими тысячами стеклись угличане к могилке царевича. И когда начали рыть землю над гробом отрока — разлилось в воздухе райское благоухание, и словно дым кадильный изшел от гробницы Димитрия. И открыли гроб, и обрели тело отрока-мученика неистлевшим. Даже ризы царевича Димитрия не коснулось тление земное. Держал убиенный отрок в левой руке платок, шитый золотом; цел и невредим нашли тот платок в руке его. В правой же руке держал мученик — в ту пору, как нож убийцы нечестивого прекратил житие его, — орех садовый. И тот орех нашли у него в руке целым… Великое чудо сотворил Господь! Пятнадцать лет лежало в сырой земле тело мученика и по воле Божией избегло оно тления, и исполнилось оно силы чудотворной… Многие чудеса совершились у святых мощей царевича… В Москве встретили мощи царь, патриарх, царица-инокиня Марфа, поставили их в церкви Михаила Архангела в раке деревянной, обитой атласом золотым… И доныне открыт доступ к мощам святого царевича Димитрия, и исходят от них чудеса и исцеления… Как же, чада мои любезные, верить ныне злому обманщику, именующему себя царевичем Димитрием, сыном Иоанновым?!
Зашумела толпа, заволновалась, послышались угрозы ляхам, самозванцу… А вражеские пушки ревели все громче.
Дальше пошел отец Иоасаф, туда, где за крепкими каменными стенами монастырских кладовых, под навесами, лежали раненые, ушибленные каменьями, оглушенные выстрелами. Стоны и мольбы встретили архимандрита: одни просили исповеди и причастия, другие молили перевязать раны, водицы испить… И тут не омрачилось лицо троицкого игумена, бодрый, твердый взгляд его. Приметил он богомолок, молодых и старых, что пеклись о страдальцах, переходя от одного к другому. Всех заботливее была одна девушка, еще не вышедшая из детских лет; с молитвой на устах помогала она то этому, то тому раненому, не содрогаясь, примачивала водой студеной страшные кровавые язвы, подкладывала под головы страдальцев свежего сена… С глубокой нежностью взглянул архимандрит на Грунюшку — то она была радетельницей и помощницей страдальцам…
— Благослови тебя Господь, отроковица! — молвил он, кладя ей на голову руку.
Слезы засверкали в голубых очах Грунюшки. Прильнула она горячими устами к другой руке старца.
— Ох, отче, изболелось сердце мое за страдальцев несчастных… То-то мучение, то-то раны кровавые!..
— Не кручинься, дочь моя! За святое дело страдают и томятся мученики. Примет их Господь в Свое Царство небесное, отпустит им все прегрешения за то, что пролили они кровь в защиту святой обители. Облегчай же их муки, дочь моя, и тебе на небесах зачтется!..
— Истинно, отец архимандрит, зачтется, — отозвался седой стрелец, раненный в голову, которому Грунюшка только что обвязала окровавленный лоб, оторвав лоскут от своей скудной одежи. — Добра она, словно Ангел Божий…
Подозвал отец Иоасаф проходившего послушника.
— Беги к отцу казначею; пусть велит он из погребов принести сюда вина крепкого, фряжского; пусть отпустит из кладовых полотна да холста потоньше… Надо льющим за нас кровь страдальцам телесные силы подкрепить, надо им язвы перевязать. Да скажи, не велел-де отец настоятель скупиться, не время теперь бренные блага беречь…
Просветлели раненые, услышав приказ игуменский, посыпались на отца Иоасафа благословения…
В трапезной монастырской в чугунное било ударили, созывая братию к трапезе. Отец Иоасаф повелел, чтобы все обычным порядком шло, дабы не смущались иноки и миряне… Потянулись из келий старцы, коим не под силу было на стенах помогать. Пришли и от пушек смены воинов и богомольцев-охотников подкрепиться пищею. Сытными блюдами, крепкими, сладкими медами угощали иноки своих защитников: в монастыре всего вдоволь запасено было.
Все в трапезной не уместились — расставили по дворам скамьи да столы, и с молитвою насыщались бойцы монастырские под рев пушек.
Молодцы молоковские все рядом сели; сначала молча ели: натрудились за целое утро, голод их мучил… Потом, передохнув, и разговорились…
— Как у вас там, на Плотнишной башне, Тимофей? Сильно ядра сыплют ляхи? — спросил Ананий.
— Словно град идет, — отвечал Суета, справляясь с ковригой монастырского хлеба. — И меня задело…
Он показал локоть, обвязанный тряпицей.
— Чай, больно? — спросил торопливо Оська Селевин, и пугливо забегали его лукавые глаза на побледневшем лице.
— Чего больно! Я и думать забыл… Суета придвинул к себе чашку с брагой.
— А слышь, Ананий, — начал Данила Селевин, — больно уж сильна та пушка ляшская, что в нашу сторону палит. Ядра-то с голову людскую!.. Такие ямы в стенах рвет, что страсть одна… Да и метят из нее лихо…
— Чай, много побило у вас людей?
— Немало. Намедни одного пушкаря хватило, да еще не самым ядром, а осколком от стены… Не пикнул даже бедняга, пополам голову разнесло… Со мной рядом стоял.
— Рядом? — переспросил Оська, даже зубы у него застучали о край чашки с брагой. Ананий сурово покосился на него.
— А тебе, Оська, я вижу, больно жизнь дорога?! Смутился Осип, голову опустил, побледнел еще более.
— Что ж, кому помирать охота? — пробормотал он.
— За обитель-то святую? За веру-то? — грозно проговорил Ананий. — Смей ты у меня еще такое слово молвить!..
— Да разве я отрекаюсь? Христос с тобой! Что он меня, братцы, ни за что, ни про что изобидел? — плаксиво прибавил младший Селевин.
Ананий пуще нахмурился…
— А к тому я это тебе молвил, что вижу я в тебе робость, вижу шатание великое… Не с радостью, не с легким сердцем подставляешь ты грудь под пули за обитель святую. Ой, крепись, Осип! Крепись, говорю… молитву читай! Силен лукавый, и хитры пути его!
Помолчали все. Ананий, пригрозив брату, задумался. Суета и Данила прислушивались к гулу пушечному и поглядывали — не пора ли на стены идти?..
— Надо бы, други-товарищи, той большой пушке ляшской как-никак жерло заткнуть, — сказал наконец старший Селевин. — Не то много она у нас-людей сгубит… Отпрошусь-ка я у воеводы ночью за стены… Товарищей поудалее наберем; может, и доберемся до трескотухи горластой. Попытаем счастья, ребята?..
— Попытаем! — отозвались весело Данила и Суета, и даже Оська, скрепя сердце.
— Пушкаря Меркурия возьмем. Он места здешние знает, да и к делу огнестрельному привык…
Стали они горячо толковать о ночной вылазке.
Вдали из дверей трапезной вышел воевода князь Григорий Борисович; не торопясь пошел он между трапезующими воинами, приветливо на них поглядывая.
— Досыта ешьте, молодцы. Раньше ночи со стен не пущу. Бодро поглядывали монастырские бойцы на своего храброго воеводу, на его поступь смелую, на плечи могучие…
— Дозволь, княже, слово молвить, — сказал старший Селевин, пробравшись к нему сквозь толпу. — Да не здесь, на народе, а в сторонке где…
Повел его с собою воевода за угол башни, где пусто было. Ласково светились зоркие очи воеводы, весело улыбался он, слушая про затею богатыря Анания…
— Доброе дело ты замыслил, молодец. Да нелегко свершить его удачно. Догонят вас ляхи, перерубят всех…
— А я тайный ход нашел, князь-воевода. Мне старцы показали — у Сушильной башни. И неведомо будет ляхам, как мы из обители выйдем и как вспять уйдем…
— Попытай, молодец, счастья… Только обождать надо: чай, скоро ляхи на приступ пойдут — тогда мне все добрые воины понадобятся… Ты, что ль, у Красных ворот стоишь?
— Там, воевода. И молодцев удалых я подобрал…
Не пришлось воеводе с Ананием беседу до конца довести. С Водяной башни послышались громкие крики, на стенах — видно было — народ заметался…
— Воевода! — подбежал к князю Долгорукому стрелецкий сотник. — Пушку у нас подбили! Поранили многих.
Кинулся князь Григорий Борисович в то место, где беда стряслась. Поспешили за ним и другие воины.
Всему виной опять была Трещера… Так из нее метко ядро пустили, что оно смяло медное жерло у лучшей обительской пушки, что палила в ляхов с Водяной башни. Потом отскочило ядро и поранило трех пушкарей; Меркурию Айгустову тоже ногу задело… Оробели непривычные воины…
— Эй, чего всполошились! — загремел воевода, взбираясь на башню. — Тащите другую пушку со стены боковой. А эту, негодную, вниз сбросьте!
Закипела работа. И тут богатырская сила Анания Селевина кстати пришлась. Один-одинешенек подпер он новую пушку на крутой, узкой лестнице могучим плечом и наверх двинул. А там уж подхватили ее десятки ловких рук — и опять, как прежде, зачернело грозною пастью медное жерло, глядя на ляхов.
Ляхи тоже не дремали… Видно было с башни, как громоздили они на свои окопы все новые и новые туры, как подвозили и ставили все новые и новые пушки и пищали. Гуще и чаще забелели клубы порохового дыма, белым поясом охватившего стены. Гром выстрелов не прерывался ни на миг. Уже едва слышны были из-за него колокола обительские…
Жутко пришлось стрельцам, богомольцам и послушникам. Робкие убегали со стен, не слушаясь начальников; кое-где и рук не доставало для пальбы… А на дворах монастырских стон и плач стоял. С испугу падали без памяти молодые и старухи, дети криком кричали, думая, что убили их сестер и матерей…
Пуще всех оробел в этот злой час Оська Селевин. На его долю досталось нехитрое дело: подавал он главному пушкарю ядра, что кучкой были сложены за каменным уступом на стене, близ Водяной башни. Онемел, оглох, обеспамятовал он от страха; кричат ему, чтобы ядра давал, а он с головой за уступ схоронился — ни с места!
— Поранило, что ль? — услышал он над собой знакомый голос брата Данилы. Сильная рука схватила его за ворот и поставила на ноги.
— Да ты цел-целехонек! Трусишь? Хоронишься? Так вот тебе! — и Данила сгоряча такой удар брату отвесил, что едва не слетел Оська вниз со стены. Злобно засверкали его глаза, недобрым взглядом окинул он середнего брата и за дело принялся…
Тем временем и отец Иоасаф услышал, что больно сильна пальба, что робеют защитники обители. Бодро выпрямился седовласый архимандрит, подал пастырский клич соборным старцам и впереди их поспешно вошел в большой храм обительский…
Вскоре широко-широко распахнулись железные двери храма, и показалась вереница старцев-иноков, послышалось стройное многоголосое пение… Отец Иоасаф нес впереди золотое распятие, за ним старцы Корнилий и Гурий высоко поднимали большую икону преподобного Сергия, игумена монастырского, в богатом окладе. Далее другие старцы выносили икону за иконой, хоругвь за хоругвью… Согласное пение их уже достигало до стен обители, вливая в сердца защитников бодрость и отвагу. Длинной цепью, сверкая серебром, золотом, дорогими каменьями икон, крестный ход поднялся на стены, перешел на одну башню, на другую, на третью…
Отрываясь от пушек, воины падали на колени перед святыми ликами… Колокола обительские загремели могучим звоном…
— Святой Сергий, заступник наш! — кричали стрельцы и пушкари. — Помоги, святой Сергий!
И опять загромыхали со стен выстрелы, отвечая огненными молниями на град ядер вражеских.
— Поборайте врага, православные! — воскликнул далеко слышным, юношески сильным голосом отец Иоасаф.
Вновь раздался умилительный, проникновенный хор старцев-иноков и молодых послушников.
Изумленные ляхи прервали на короткое время пальбу, но скоро опять зачастили выстрелы. Ободрясь духом, монастырские отвечали им тем же…
ПРИСТУП
Наступил тринадцатый день октября месяца. Осажденные уже привыкли, притерпелись к ежедневному грохоту пушек, к дождю ядер и пуль; наловчились и сами метко отвечать на выстрелы, укрываться от снарядов за зубцами и выступами, заделывать проломы в стенах от ядер. Дружно бок о бок держались на монастырских стенах и стрельцы, и дети боярские, и деревенский люд.
Отдохнув краткое время от трудов истекшего дня, воевода князь Долгорукий вышел на рассвете поглядеть, что кругом творится. Прежде всего направился князь на Водяную башню; злая Трещера беспощадно громила и терзала ее меткими, тяжелыми ядрами. Много изувеченных бойцов выбыло из отряда ее защитников, не один раз пришлось на нее и новые пушки встаскивать, взамен разбитых.
Бодро поднялся воевода на башню; там уже давно пальба началась; ляхи принялись громить обитель с первым проблеском зари — не пришлось воинам монастырским и отдохнуть хорошенько.
Поздоровался князь с храбрым пушкарем Меркурием, с товарищами его, окинул взором ляшские туры.
— Что, еще не разбила вас Трещера?
— Живы еще, княже, молитвами святого Сергия… Еще две пробоины враги сделали, да не больно страшно: забили мы их глиною…
— Ладно, молодцы!
И опять стал воевода зорко в польский стан глядеть. Показалось ему, что вражьи полки за ночь ближе к турам подвинулись. Словно гуще стали отряды их. Задумался князь Григорий Борисович, подозвал к себе сотников стрелецких, Меркурия Айгустова, Анания Селевина и других бойцов, ловких да сметливых.
— Вот что скажу я вам, други мои… Приметил я, что в стане ляшском полки собраны. Гляньте-ка вон там, на горе Терентьевской, гусары краснеются, а дальше — венгерцы в своих куртках зеленых… Не впервой мне в боях быть, не обидел Бог опытом. Пойдут ляхи на приступ. Готовьтесь.
Переглянулись бойцы, словно говоря друг другу: "Мы уж давно готовы… хоть сейчас в бой…"
Понял их разумный воевода.
— Надо, други, камней запасти, бревен тяжелых. Женкам-богомолкам велите вар варить… Зарядов запасите…
— Вдоволь запасено, — в голос ответили молодцы.
— А теперь пойду других оповестить. Будет приступ, будет! Пошел князь-воевода по всем башням да стенам наказы отдавать, ободрять непривычный к бою люд. Суматоха началась в обители, стар и мал помогал воинам…
Дошла весть и до архимандрита; поспешил отец Иоасаф тоже на стены словом и примером укрепить дух защитников. Встретился он с воеводою Долгоруким на той же башне Водяной, откуда все туры ляшские, как на ладони, были видны…
— Ну, отец архимандрит, молись теперь со старцами за нас, — говорил воевода. — Крепко нахлынут ляхи — по всему вижу…
Гляньте! Гляньте! — крикнул зоркий Ананий Селевин. — Эк их сколько высыпало!
Запестрели от ярких польских нарядов луга Клементьевские, Келарские и другие открытые места вокруг обители. Гусарские доломаны отливали алым цветом; вились на шишаках длинные, белые перья; синели расшитые желтыми шнурами венгерские куртки; мелькали высокие, черные казачьи шапки с разноцветными верхами; желтые наряды немецких пеших стрелков ясно виднелись на черной стене насыпей и тур. От сапегинского стана примчались латники в шлемах с серебряными крыльями, с длинными пиками, на остриях которых трепетали синие и красные значки. Смело выступила конница на открытое поле и начала бешеную скачку — потеху воинскую. То летели ляхи целыми рядами, то — по крику ротмистров — разрывали строй и рассыпались лавой, вскидывая вверх копья, сверкая обнаженными мечами, доспехами…
— Что это они игрище затеяли? — спросил отец Иоасаф.
— Таков уж у них обычай… Удивить да напугать нас хотят своей силой… Немало у них рати…
Воевода правду молвил. Смущаясь и дивясь, глядели со стен воины монастырские на несметные полчища, на их коней быстролетных, на доспехи и оружие иноземное. Казалось, бойцы святого Сергия считали силу вражескую и конца ей не видели. А из-за туров все высыпали да высыпали новые полки. В одном конце поля показался, под бунчуком, первый вождь Петр Сапега с ближними начальниками. От Терентьевской рощи выехал Александр Лисовский на горячем черном коне, окруженный своими головорезами. Красные перья вились на шлеме знаменитого всадника; заметен он был в толпе по росту и осанке…
Видно было со стены, как съехались вместе два ляшских начальника и завели беседу.
— Погибель нам замышляют, разбойники, — усмехаясь, проговорил князь Григорий Борисович.
— На свою главу привлекут они смерть и гибель лютую… Не оставит нас игумен Сергий! — громко воскликнул отец Иоасаф.
Встрепенулись стрельцы и пушкари, грозно заблистали глаза их, крепче сжали они в руках оружие.
Молчали в этот день пушки ляшские, боялись их пушкари ядрами задеть своих. Но все же гром, гул и крик стояли вокруг стен обители: многотысячная конница, словно море, волновалась, кипела и переливалась по полям и пригоркам. Вот начали небольшие отряды подскакивать все ближе и ближе к монастырю. Быстрее стрелы каленой сновали то туда, то сюда поджарые казацкие кони, ляшские аргамаки, татарские скакуны.
Грозили обители враги, поносили ее защитников разноязычным говором, показывали свое блестящее, дорогое оружие; так и сыпались хвастливые речи…
— Сдавайтесь нашим панам и царю Димитрию! — кричали наездники, гарцуя перед башней…
— Уходите, братцы, от монахов… Валите к нам, у нас житье раздольное, — звали казаки…
— Нехристи! — зычным голосом, не стерпев, рявкнул Ананий. — Отъезжайте, не то выпалю!
Схватился он за свою тяжелую пищаль, но остановил его руку отец архимандрит.
— Пусть их пустые слова сыплют… Обожди…
Удалой пан Лисовский тоже захотел потешиться — примчался на своем черном скакуне под стены и хитрые речи повел:
— Что супротивничаете, старцы? Эй, послушайтесь совета доброго: бросьте палить да попусту кровь лить. Иль неведомо вам, что царь Димитрий на той неделе Москву одолел, царя Василия в полон взял?.. Все земли покорились: и северская, и тверская, и новгородская, и владимирская… Одни вы, неразумные, на гибель идете… Покоритесь, монахи, сдайте пушки и зелие; царь вас пожалует…
Тут уж не мог Ананий Селевин удержать гнева правого, спешно нацелился он и грохнул из пищали.
Но только захохотал пан Лисовский, круто повернул коня и отъехал от стен, погрозив саблей. Не могла пробить пуля пищальная его крепкого панциря иноземной ковки.
Мало-помалу отскакали от обители и другие наездники, видя, что попусту там тратят слова и насмешки, что и стрельцы, и иноки крепко стоят на своем.
— Смотри-ка на того казака седого, Ананий, — молвил Меркурий. — Кажись, старый знакомец.
— Атаман казацкий, у него мы пушки-то разбили!
— Он самый… Невесел что-то…
И вправду, атаман Епифанец тоже был у стен обительских, а теперь отъехал хмурый и скорбный. Не поносил он иноков и стрельцов, не улещал их лукавыми речами. Слушал он, как звонили колокола обительские, глядел на стрельцов и послушников, твердо стоящих за святыню, и что-то неведомое, чудное творилось в душе старого, седоусого всадника.
Во многих битвах обагрил он руки человеческой кровью, с юных лет жил он убийством и грабежом, о молитве давно уж и думать забыл… Но в этот час невольно вспомнилось старому казаку-разбойнику краткое светлое детство, ласка материнская, благозвучная служба церковная… Почему-то затуманились глаза старого атамана, и, отвернувшись, скрыл он лицо от своих казаков-удальцов .
Проводили обительские воины глазами врагов, приметили, что и остальные полки отошли по далее к турам; спешились утомленные скачкой и гоньбой нарядные ляшские наездники, легли отдохнуть. Из-за окопов выкатили бочки с медом и вином; начали ляхи пить, веселиться, разгульные песни петь.
— Теперь еще не пойдут на приступ нечестивцы, — вымолвил, приглядываясь к стану, воевода. — Оставят нам время потрапезовать. Знаю я их повадку: перепьются вдосталь, а как стемнеет — полезут на стены.
— Будем ждать, уповая на Бога, — бодро ответил отец Иоасаф и пошел со стен в обитель проверить — все ли в порядке, не смущаются ли духом богомольцы.
Как в обычное время, зазвонил в монастыре трапезный колокол, потянулись все подкрепиться простой пищей для трудов предстоящих. На стенах и башнях половина воинов на стороже стояла, зорко следя за ляхами.
Оська Селевин, злой и угрюмый, сидел за столом на дворе монастырском рядом с Тимофеем Суетой; старшие Селевины на стенах остались.
— Слыхал, Суета, что ляшский пан про Москву-то молвил? — спросил Оська соседа.
— Брешет пан, как дворовый пес! — пробурчал Суета, трудясь за доброй обительской трапезой.
— А если не брешет? Худо нам будет…
— Двум смертям не бывать…
И не стал более Суета слушать. А Оська еще более закручинился, затуманился…
Суета, захватив с собою кое-какой снеди, взобрался на Водяную башню к Ананию. Там все было по-прежнему тихо; дымились готовые фитили в руках у пушкарей; заряженные ядрами и сеченым свинцом жерла грозно глядели на окопы и на шумную польскую рать.
Побеседовали воины, отдохнули по очереди — а в ляшском стане все гудели громко пирующие, долетали до тихой обители хмельные песни. Только когда уже смеркаться стало, завыли трубы вражеские, и снова высыпали по всему полю удалые конные полки. Уж не тешились, не скакали без толку наездники, а плотными рядами строились, готовые к бою. За конницей из-за окопов показались пешие дружины, блестя пищалями; челядь ляшская тащила огромные деревянные щиты, длинные тонкие лестницы, ручные плетеные туры… Опять завыли трубы, и опрометью со всех сторон ко всем башням и воротам обители бросились дикие, разноязычные полки…
Да не врасплох напали они на воинов монастырских.
— Постоим за святого Сергия! — крикнули воеводы и сотники.
— С Богом, чада мои! — ободрял защитников показавшийся на стене отец архимандрит.
В тревожном гулком набате слились колокола обительские; завопили, завыли бешено несущиеся ляхи…
Через передовой вал и ров монастырский враги перебрались легко, набросали тур, камней — и прихлынули к самым стенам.
Разом громыхнули монастырские пушки в густую, кипящую толпу надвинувшихся врагов. В вечернем полумраке ясно был виден багровый огонь выстрелов, изливавшийся мгновенными, грозными потоками из бойниц, из-за зубцов. Сотнями валились ляхи, но разгоряченные вином, сломя голову, слепо рвались вперед. Венгерские стрелки открыли огонь из ручных пищалей; искусны были венгры в бою огнестрельном — и все чаще и чаще стали раздаваться на стенах стоны раненых, все чаще и чаще падали вниз осажденные, сраженные меткими пулями.
Спешившись, пан Лисовский, отважно подставляя грудь огню и железу, зорким взглядом искал слабого, доступного места в стенах обители.
— Руби ворота, — заревел он, и вперемежку с выстрелами застучали тяжелые топоры и секиры о могучие, окованные железом ворота монастыря.
— Братцы, ломятся в ворота! — прозвучал с башни чей-то дрожащий пугливый голос.
— Пан Брушевский, велите лестницы ставить, дружнее на стены! — гремел внизу крик Лисовского. — Рубите запоры, товарищи!
Сотни гибких, но крепких лестниц скользнули к толстым стенам, словно белки быстро начали взбираться по ним осаждающие под защитой метких пищалей венгров.
Перегнулся через зубец Водяной башни богатырь Ананий Селевин, видит — ляхи что есть силы ворота рубят.
— Вот вам гостинец, — крикнул молоковский молодец, подняв такой камень, что и вчетвером бы другие не шевельнули. Грохнулся вниз камень, смял, передавил ляхов; в ужасе отпрянули назад уцелевшие враги, замолк стук секир и топоров…
— Сыпьте каменья! Мечите бревна! — раздалось по всем стенам обительским — и полетели тяжкие гостинцы на головы и плечи теснящихся врагов. Еще бешенее и злобнее завыли, завопили ляхи, но не хотели ни на шаг отступить: все так же отважно лезли на стены.
Гремели стрелецкие пищали, в упор пронизывая смельчаков ляшских, что цеплялись с лестниц за монастырские бойницы; сверкали бердыши, мечи и топоры, отсвечивая кровавым огнем выстрелов; боевые палицы со звоном раздробляли панцири и шишаки…
Вне себя от гнева и Злобы пан Лисовский метался, как бешеный волк, от лестницы к лестнице; два раза уже его сбросили вниз, но ему, ловкому, привычному к бою, все нипочем было. Не одного обительского воина достали уже меткие выстрелы его немецких пистолей… И, по примеру начальника, все сильнее и сильнее напирали ляхи на стены. Близ Водяной башни, там, где бился середний Селевин, приставили они к стене целый десяток лестниц, разом взлетели по ним и начали меж зубцов биться.
Привычны были враги к рукопашному бою, перебили, переранили, оттеснили обительских, одной пушкой почитай уж овладели…
— Не выдай, святой Сергий! — крикнул Данила Селевин, налетая орлом на ляхов с секирой тяжелой. Подоспел на подмогу слуга монастырский Пимен Тененев, отважный боец. Не щадя живота, задержали молодцы врагов, а там десяток стрельцов воевода Долгорукий прислал: зорко следил он за боем… Сбросили осаждающих, перерубили лестницы. Данилу Селевина мушкетной пулей в щеку задело…
Приметил это отец архимандрит, что во время боя не сходил со стен, с крестом в руке ободряя малодушных, поощряя отважных.
— Поранили тебя, молодец? — спросил он Данилу, унимавшего рукою обильную кровь. — Дай-ка я помогу тебе…
Оторвал отец Иоасаф от рясы изрядный лоскут и крепко-накрепко перевязал рану храброму сотнику.
— Не смущайся, чадо мое, что служу тебе: старец — юноше, инок — воину… За обитель ты кровь свою пролил…
Благословил архимандрит Данилу и далее пошел по шумным, окровавленным стенам обители.
Неистощима, казалось, ляшская сила; новые и новые отряды лезли на стены; на смену порубленным лестницам тащили десятки других, целых. Венгров подкрепили немецкие пехотинцы; градом защелкали в бойницы и зубцы пули вражьи…
Но не посрамил своей славы боевой, своего княжеского имени и воевода Долгорукий. Везде, где жарче дело было, где грудами трупы лежали, являлся он с обнаженным мечом в руке, отважный и могучий: сам рубил и сбрасывал смельчаков ляшских, сам нацеливал пушки — ободрял воинов громким, смелым окликом. Другой воевода, Голохвастов, что близ Плотнишной башни главным был, не таким орлом глядел, а все же не уступал ни пяди врагам…
Все темнее и темнее становилось, а не оставляли поляки боя кровавого; стоны, крики и проклятия оглашали монастырские стены. Вот полетели в осаждающих горящие головни, вот, шипя, дымясь и сверкая в темноте искорками, полился со стен кипящий вар из раскаленных больших котлов…
В первый раз дрогнула ляшская сила. Ужаснулись нехристи, как стало их жечь и палить, словно пламенем геенны вечной. Первыми казаки побежали, потом сапегинские дружины; отступили и венгры, и немцы; лишь головорезы Лисовского продолжали биться. Но и сам удалой начальник их не надеялся уже на победу.
— Пан Брушевский! Пан Тышкевич! — кликнул он своих любимцев. — Довольно людей терять попусту. Собирайте жолнеров… Отступление!
 Жалобно зазвучала труба; вышколенные жолнеры сомкнулись в ряды и, все еще стреляя, начали отходить от грозных стен обители…
Жалобно зазвучала труба; вышколенные жолнеры сомкнулись в ряды и, все еще стреляя, начали отходить от грозных стен обители…
— Слава святому Сергию! — восклицали, переводя дыхание, защитники.
— Спасибо, молодцы! — говорил воевода князь Долгорукий, обходя своих воинов. — Бились на славу!
— Благослови вас Господь! — радостно повторял отец Иоасаф, обнимая, целуя и благословляя храбрецов.
Волнуясь и гудя во тьме, уходили от монастыря полки ляшские, словно морской отлив в непогожее время. Изредка сверкал еще огонь выстрела, жужжала пуля…
— Воевода! — крикнул Ананий Селевин, спешно подбегая к князю Долгорукому с Суетой, с Данилой, с Меркурием и другими молодцами. — Дозволь за стены выйти, проводить ляхов, попугать да бердышами посечь!
Дозволил им воевода, похвалил даже за храбрость.
Возле Сушильной башни была потайная железная дверь; ее Ананий давно приметил, подновил запоры, укрыл землей да камнями. Теперь пригодилась она… Захватив лишь топоры да бердыши, по одному выбрались удальцы за стены. Попросившись тоже идти, на вылазку, Оська Селевин сильно удивил Анания: не ждал тот от меньшого брата такой прыти.
— Что ж, пойдем. Только не робей, — молвил Ананий.
Поспешно и неслышно погнались удальцы за отставшим отрядом Лисовского. Вел ляхов пан Брушевский, позамедливший в пути оттого, что было с ним много раненых.
Громовой клич раздался позади ляшского отряда.
— За святого Сергия! Бей их, нехристей, бей!
Смутились враги; одни побежали, другие мигом легли, изрубленные топорами и бердышами; немногие стали отбиваться во главе с паном Брушевским. Но хоть силен и ловок был любимец Лисовского и саблею владел искусно, а не устоял он супротив богатыря молоковского, Анания; смял его силач, саблю бердышем перебил и живьем скрутил пана. Как дитя, лежал связанный пленник на руках у Анания.
Рассеяв ляшский отряд, поспешили молодцы обратно в обитель, чтобы новые ляхи не нагрянули на них. Все храбро поработали в схватке.
— А где ж Оська? — спохватился Ананий, запирая потайную дверь и оглядывая товарищей. — Убили, что ль?..
— Да он, как мы ударили на ляхов, в сторону метнулся, с той поры и не видать его было, — молвил один из воинов. Еще двое-трое то же сказали…
Переглянулись Ананий с Данилой и тяжко-тяжко вздохнули… Радостно встретили в обители смелых бойцов.