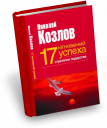Глава пятая. Волчье лыко
Матрена Сидоровна увела девчонок в репетишную комнату, Дуню же замкнула на ключ.
И вот сидит Дуня около окошка. Сидит одна-одинешенька. В горнице жарко, душно. Жужжат мухи. Садятся Дуне на руки, на шею, па лоб. Но Дуня от них и не отмахивается. Э> чего там… Все одно. Пусть их садятся.
На лице у Дуни багровые пятна — и на одной щеке, и на другой. Тяжела ладонь у Матрены Сидоровны! А на душе у Дуни тошнехонько. За всю жизнь так горько еще не было.
За окном в утренних лучах нежатся, млеют кусты орешника. Чуть шевелит ветвями береза — иные свесились к самой траве. А малиновые цветы кипрея жарко полыхают на солнце, ими вся полянка заросла.
Но Дунины глаза ни на что на это не смотрят. В мыслях одно — распахнуть бы настежь окошко, выпрыгнуть на волю и бежать отсюда. Бежать куда глаза глядят. Нет, не куда глаза глядят, а прямо в Белехово. Да как найти туда дорогу?
Перед глазами маячит лицо Василисы. Ее белые зубы. Открытый смеющийся рот. И вся она в своем пышном наряде. С издевкой смотрит на Дуню.
Разве нужна на свете такая красота? Такая злая? Такая нехорошая?
Вдруг вспомнились Дуне далекие дни. Однажды взяла ее мать с собою в лес за хворостом. Давно это было. Мать тогда молодой была, румяной, а Дуне еще и пяти годков не было.
Шли они по лесу, мать песни пела. Не во весь голос, а больше для себя. Раньше мать голосистой была; видно, Дуня в нее уродилась певуньей. Набрали они по вязанке хвороста — мать большую, еле на спине тащила, а у Дуни горсть хворостинок, больше для забавы.
Вышли обе на поляну. Лес уже начал в зелень убираться. Не то чтобы листья на деревьях, нет,— только почки лопнули, чутотная зеленца проклюнулась. И казалось, будто деревья в каком-то Зеленом тумане стоят. Под елками кое-где еще снег не стаял, сырая Земля под лаптями чавкала.
Остановилась мать.
— Давай-ка, Дунюшка, отдохнем маленько. Сладостью лесной надышимся.
Скинула мать со спины вязанку, села на нее, а голову к небу запрокинула.
— Смотри, Дуняшка, птицы летят…
Дуня поглядела на небо. А там, в небесной синеве, над верхушками деревьев стаей летели птицы.
— Счастливые, вольные…— тихо сказала мать, и глаза у нее тоскою затуманились.
Маленькой Дуне вдруг стало обидно: что это мать на птиц смотрит и вроде бы птицам завидует. Даже закручинилась. С укором сказала Дуня:
— Мамушка, а мы-то с тобой разве не вольные, не счастливые? Зачем тебе на птиц-то глядеть.
Мать в ответ горько усмехнулась.
— Эх, доченька, воли-то у нас с тобой нет и не будет…
Не могла Дуня тогда понять — почему же воли-то у них нет? Вон идут они по лесу куда хотят. Хотят — в эту сторону, хотят — в ту. Чем же это не воля? А дома разве худо? Отец у них здоровый, крепкий. Такого здорового, работящего мужика во всей деревне не сыскать, говорят соседи. И братик Демка у них есть. И бабушка по избе ходит — добрая, сказок сколько знает. Чем же птицы счастливее?
А мать все сидела и смотрела на небо, хоть птицы давно улетели.
Дуне стало скучно. Пошла она по полянке искать синие подснежные цветы. Вдруг остановилась. Обомлела. Увидела куст несказанной красоты. Всюду еще и листьев нет, а этот — цветами убрался. Цветы эти, не то розовые, не то лиловые, сидят пучками на голых безлистых ветках и пахнут. Ах, как сладко пахнут! На весь лес разносится их запах. Перебивает и запах прелых листьев, и запах мокрой земли и талого снега…
Со всех ног кинулась Дуня к цветущему кусту. Наломать бы таких веток. Да побольше! Снести домой розовые пахучие цветы. Пусть стоят в избе, пусть красуются.
— Не смей… Не смей… Не тронь…— услыхала Дуня за своей спиной испуганный окрик матери.
И вот уже мать рядом с ней. Со щек весь румянец страхом согнало. Глаза потемнели. И давай шлепать Дуню и по рукам, и ниже спины, и опять по рукам.
— На всю жизнь запомни… (И — шлеп! — по одной руке.) Волчье лыко это! (И — шлеп! — по другой руке.) Никогда не трогай… (И опять шлепок.) Глупая, несмышленая. (Куда попало лупила мать маленькую Дуню.) Притронешься — язвы пойдут. Волчье лыко это! Волчье лыко! Помереть от него можно…
Дуня вся изревелась, вся слезами облилась от этого материнского учения. Однако наука пошла ей впрок. Никогда больше не притронулась она к кусту, у которого такие душистые, такие красивые и такие страшные цветы. Не раз видела она волчье лыко. Видела весной, когда стоит в безлистом еще лесу нарядный куст, весь убранный сиреневыми цветами,— и тянет, и манит своей красотой. Но Дуня знала — только с виду кустик пригож. Обходила его и весной в пору цветения, и осенью, когда на нем созревали темно-красные крупные ягоды… Волчьи ягоды.
И вдруг такой тоской защемило у Дуни сердце. Прижать бы голову к теплому плечу матери, выплакать всю обиду. Только мать поймет и пожалеет. Пошепчет ей на ухо: «Ничего, доченька, перетерпи. Утри глаза да запомни: растет в лесу и волчье лыко. Что поделаешь!» Но матери рядом нет, а на глазах у Дуни ни одной слезинки. Глаза у нее суровые… Коли надо, и не такое она может перетерпеть. Но надо ли?
За окном, млея на солнце, покачиваются пышные цветы кипрея. А тут, в горнице, томительно жужжат мухи.
У входной двери щелкнул замок. Дуня насторожилась: неужто девушки уже воротились? Так быстро? Или незаметно для себя провела она возле окошка долгие часы?
В горницу ворвалась Матрена Сидоровна. Платок на волосах сбился. Тяжелая шаль с широких плеч сползла на спину. На Дуню уставился колючий, почти ненавидящий взгляд:
— Свалилась на мою голову… Дубина стоеросовая! Сбирайся, балда… Живее! Барин тебя требует.
Глава шестая. В репетишной комнате
Репетишная комната, куда Матрена Сидоровна волокла Дуню, была устроена по образцу той репетишной комнаты, которую Федор Федорович видел в Кускове, бывая там на спектаклях в театре графа Шереметева.
С Шереметевым, вельможей и крупнейшим русским богачом, он познакомился еще в Париже, лет двадцать назад. Конечно, Урасов не был ровня богачу Шереметеву: Урасов — помещик среднего достатка. Но молодых людей тогда сближала любовь к театру. И тот и другой неукоснительно бывали на всех спектаклях знаменитого на весь мир парижского театра «Гранд опера». Оба были без ума от модных в ту пору опер Гретри. Благоговели перед музыкой великого Глюка.
Для Федора Федоровича молодой граф и тогда, в Париже, был примером подражания. Он завел себе двойной лорнет, такой же, как у графа. Жабо и манжеты у него тоже были из тончайшего и очень дорогого кружева. И пуговицы на камзолах из граненого стального бисера были точь-в-точь такими, как у Шереметева.
По когда однажды Федор Федорович похвалился Шереметеву новинкой парижских театралов — тростью с золотым набалдашником, в который был вделан свисток, чтобы освистывать неудачливых актеров, граф поморщился. Сказал по-французски: «Вещица эта годится более для вертопрахов». С тростью этой Федор Федорович в театр уже не появлялся.
Кроме того, оба они и сами были музыканты. Шереметев играл на виолончели, и прекрасно играл. А Федор Федорович начинал тогда играть на скрипке. Оба брали уроки: Шереметев у лучшего виолончелиста оперного театра — Ивара; Урасов же занимался у кого-то из второстепенных парижских скрипачей.
Оказалось также, что соседствуют их подмосковные поместья: урасовское поместье Пухово находилось верстах в сорока от Кускова, одной из вотчин Шереметева.
Разумеется, в репетишной комнате в Пухове не висели драгоценные картины старых итальянских мастеров, какие висели в Кускове. Здесь все было попроще, победнее. Но и тут была люстра с хрустальными подвесками, а возле окна на постаментах стояли два бюста — Вольтера и Руссо, великих французских писателей, весьма почитаемых Федором Федоровичем.
Вдоль одной из стен стояли мягкие кресла, обитые пунцовым штофом. Висело большое зеркало, хотя и в раме не из красного дерева, но красной краской покрашенное.
Репетишная комната была разгорожена на две части занавесом. В дальнем углу, за занавесом, стояли шкафики, в которых хранились ноты. Здесь же были пюпитры для музыкантов и клавесин, недавно выписанный из Парижа.
В этой комнате шли занятия с актерами, певцами и музыкантами, проходили репетиции оперы «Дианиво древо», которая готовилась ко дню именин барина. Здесь же обычно занимались и девочки. Их учили и танцевать, и петь, а также благородным манерам, чтобы представлять на сцене высокородных дам — королев, принцесс или графинь.
Сегодня с девочками занималась мадам Дюпон. Та самая француженка, которую Федор Федорович привез в свое поместье года полтора назад. Она была в высоком напудренном парике, украшенном лентами и цветами. Ее старые костлявые плечи были открыты, как того требовала тогдашняя мода. В руке она держала преогромнейшнй веер.
На занятия в репетишную комнату барин приказывал водить девочек в юбках на фижмах и в туфлях на высоких каблуках. Матрене Сидоровне велено было брать все нужное у хромой Лизаветы, ведавшей гардеробной комнатой.
На этот раз Матрена Сидоровна не подумала, что Дуню следует переодеть, прежде чем вести барину на показ. И она потащила Дуню в репетишную комнату, в чем ее застала: в лаптях, в изрядно смятом сарафане, к тому же еще с полурасплетенной косой. В таком вот виде и оказалась Дуня в репетишной комнате.
Мадам Дюпон, мешая русские слова с французскими, показывала девочкам, как надобно кланяться, низко приседая; как следует ходить, гордо вскинув голову; как обмахиваться веером, дабы приятным образом развевать свои волосы; как оттопыривать мизинец, подавая в танце кавалеру руку.
Четыре девочки старались изо всех сил. Особенно Василиса. Француженка ее хвалила более других. То и дело слышалось:
— Жоли! Жоли! Трэ жоли!..
И Василиса знала, что слова эти относятся к ней и означают: «Красиво, красиво, очень красиво!»
То, кивая головой, мадам Дюпон повторяла:
— О, си, си…
И опять же Василисе было понятно, что мадам говорит именно ей: «Так! Так!»
От камердинера Василия узнала Матрена Сидоровна, что барин желает нынче же обучать разным премудростям и новую девку, вчера привезенную в Пухово. Прогневить барина, ее угодить барину Матрене Сидоровне было страшнее страшного.
Не дав бедной Дуне опомниться, она втащила ее в дверь репетишной комнаты и сильным пинком вытолкнула на середину, где прохаживались четыре нарядные девочки, делая низкие реверансы. И чуть ли не крича, подскочив к француженке, стала требовать:
— Ваша милость, сию новую дансерку тоже надобно учить. Манерам, ваша милость, манерам! Барин приказать изволил…
Француженка смерила Матрену Сидоровну высокомерным взглядом: ты-то, мол, чего суешься не в свое дело? Потом, показав веером на Дунияы ноги, с возмущением залепетала:
— Не, не… Нельзя! Она в ляпот, в ляпот…
Тут и Матрена Сидоровна возмутилась: не за себя — за своего барина. Как это нельзя, коли барин приказал?
И под стать француженке она тоже принялась ломать русские слова, чтобы той было понятнее:
— Можно в ляпот! Можно, ваша милость! Надобно, всенепременно, стало быть…
А мадам Дюпон свое: ляпот да ляпот! Нельзя да нельзя! И все время показывает веером на Дунины ноги.
Василиса не выдержала и потихонечку фыркнула, прикрыв рот ладонью. За нею принялась смеяться Верка. Улыбнулась и Фрося. Ульяша, забыв о манерах, которым ее только что обучали, вовсе разинула рот и по-гусиному:
— Га-га-га…
Дуне до того стыдно, хоть сквозь землю провалиться. Да что ж Это такое? Неужто всегда над нею будут девчонки потешаться?
Убежать ей, что ли?
И все бы еще ничего, да вдруг одна из дверей в репетишную комнату раскрылась настежь, и на пороге — сам барин Федор Федорович.
Сперва он не заметил ни Дуни, стоявшей в замешательстве посреди комнаты, ни возмущенной француженки, которая тотчас смолкла при его появлении, ни позеленевшей от страха Матрены Сидоровны.
Прежде других он увидел Василису. Она стояла ближе остальных к той двери, через которую он вошел. Барин подошел к ней и слегка потрепал по щеке. Василиса, сверкнув на барина зелеными глазами, чуть-чуть улыбнулась только уголками розового рта и присела в низком поклоне. Что и говорить, не зря ее учила мадам Дюпон: реверанс был сделан превосходно, лучше некуда, по всем правилам.
Француженка не стала терять времени и подбежала к Федору Федоровичу. Жеманясь, стала что-то объяснять, показывая на Дуню и на ее лапти. Федор Федорович поднес лорнет к глазам: так вот она, эта белеховская девчонка, которую ему всучила сестрица Варвара Алексеевна!
Перед ним сейчас стояла жалкая нескладеха, которой впору лишь гусей пасти или за скотиной навоз выгребать. Не отослать ли ее обратно? Чего ей тут делать?
Но в памяти у него вдруг возникло другое Дунино лицо — с блестящими веселыми глазами, и голос звонкий и чистый, и грациозные ее движения в пляске… Нет, все-таки пускай ее проверят, послушают. Вернуть всегда можно, в любое время.
Успокоив возмущенную француженку, Федор Федорович чуть заметным движением пальца подозвал к себе Матрену Сидоровну, Сказал ей несколько слов, и та, еще больше позеленев, дернула Дуню за рукав и вместе с ней исчезла из репетишной комнаты.
Глава седьмая. Девчонки помогают Дуне
Следующие два дня были и того хуже: девчонки не переставая потешались над Дуней. Особенно Верка. Весело, с озорными ужимками, показывала, какой недотепой стояла Дуня в репетишной комнате, как мадам трясла головой и, показывая пальцем на Дунины ноги, с возмущением повторяла: «Нельзя, не, не… ляпот, ляпот…» И как уволокла за собой Дуню разгневанная Матрена Сидоровна. Еще разное придумывала Верка. Все новое и новое. Да так смешно представляла, что девчонки помирали с хохоту, руками держались за животы.
Дуня молчала. Крепилась изо всех сил. Старательно улыбалась, чтобы не видели, как ей обидно. Смотрела на балагурство Верки, стиснув зубы: только бы не зареветь… Смотрела на глупое смеющееся лицо Ульяши, на Василису, которая от хохота розовела и становилась еще краше. Фрося, хоть и унимала озоровавшую Верку, тоже лукаво посмеивалась. Что там говорить — было над чем. На третий день Верка вдруг перестала озорничать и глумиться над Дуняшей.
Глянула на нее, хотела что-то подкинуть острое, потешное и осеклась. Вдруг поняла, каково у Дуни на сердце: увидела, как похудела она за эти дни, какая вымученная у нее на лице улыбка.
А Ульяна приготовилась смеяться. Стала приставать к Верке, канючить:
— Ну? Чего ж ты? Давай, давай показывай! Как она тогда стояла дура дурой?.. А как мадама? Ну-ну!
Верка, кинув исподлобья быстрый взгляд на Дуню, отрезала:
— Скоморох я вам, что ли? Не стану.
— И то правда…— сказала Василиса и чуть усмехнулась, поиграв ресницами.
Зато Дуня этой ночью плакала навзрыд. Все дни терпела да и не вытерпела. Плакала беззвучно, уткнув лицо в набитую соломой подушку. Плакала и от своего одиночества, и от тоски по дому, а более всего — от унижения, которое претерпевала здесь. В мыслях у нее было одно-единственное: как убежать из постылого Пухова, как вырваться отсюда? Но понимала, что для нее это несбыточна. Тихо было этой ночью у них во флигеле. Только сверху, из светелки, доносился мощный храп Матрены Сидоровны, да где-то внизу, в подполе, скреблись мыши…
Ночь была лунная. Самой-то луны не видно, где-то сбоку плывет по небу, но березы за окном все освещены. Стоят серебряные и не шелохнутся. Будто в сонной истоме.
Девчонки крепко спят. А Дуне не до сна. Убивается, плачет., обливается горючими слезами: за что ей бог такое наказание послал? Чем прогневила его?
Кто-то легонько тронул Дуню за плечо. Дуня затаила дыхание. Неужто, плача, Василису разбудила? Ох и попадет же ей…
— Дуня, Дунюшка,— раздалось у самого уха.
Нет, не Василисин голос.
Дуня оторвала голову от подушки, повернулась. Рядом — глаза в глаза — Веркино лицо. И Верка ей шепотом:
— Скучаешь?
Дуня в ответ лишь всхлипнула. А Верка ей опять в самое ухо:
— Не горюй, Дунюшка… Привыкнешь.
Дуня без слов помотала головой: нет, никогда, нипочем…
Снова Верка шепотом:
— Я сперва тоже убивалась, ревела.
Рукавом рубахи Дуня утерла мокрое лицо. А Вера ей:
— Не серчай на меня, Дуня. Прости, если что не так…
— Да нет, я ничего…
— Ты лучше спи.
— Спасибо тебе на добром слове…
— Тебе спасибо, Дуня, что не осерчала на меня, на глупую,— шепнула Верка и крепко поцеловала Дуню в щеку.
Потом обе лежали молча, вздыхали каждая о своем. И наконец заснули.
Днем Дуня заметила, что Верка с Фросей о чем-то шепчутся. Поглядят на нее, на Дуню, и тихонько друг дружке: ш-ш-ш… Опять поглядят на нее, на Дуню, и опять друг дружке: ш-ш-ш-ш…
О чем? Не знала Дуня и не допытывалась.
Но, когда в горнице не было ни Василисы, ни Ульяны, они, перебивая одна другую, стали Дуне рассказывать.
Жила здесь с ними еще одна, пятая девчонка. Санькой звали. Убивалась и тосковала похуже Дуни. Тошнехонька ей было тут, Василиса ее невзлюбила, а от Матрены Сидоровны на нее, на бедную, побои так и сыпались. Надоумили добрые люди Саньку — сходить к Марфе.
— К Марфе? — оживилась Дуня.— А кто такая Марфа?
— Колдунья Марфа-то…— тихо сказала Фрося.— У нас в Пухове чародейством занимается. Вот кто такая Марфа.
У Дуни дыхание перехватило.
— Ну-ну! Рассказывай, Фросюшка!
Было так: ночью сбегала Санька к колдунье. Чего с ней Марфа сделала, этого Санька не сказывала, но вот ведь диво дивное: вскоре отправили Саньку подобру-поздорову обратно домой…
— Не сгодилась,— объяснила Верка.— То пела соловей-соловьем, а то вдруг осипла, безголосой стала.
— Ну? — стала дальше выспрашивать Дуня. Но про себя подумала: нет, осипнуть, безголосой ей стать неохота. Нет, нет…
— Ну и все!
Верка рубанула перед собой ладонью, как бы показывая, что дальше ничего и не было: отправили Саньку домой, и дело с концом.
А живет Марфа отсюда недалеко, продолжали свой рассказ девочки. На самом краю деревни. Изба Марфина возле пруда стоит. Рядом с избой — банька.
Как найти ту избу? Проще простого. Сначала перемахнуть овраг. Этот, который из ихнего окна виден. А дальше — полем. Тропка мимо овсов идет. Там уже и видна Марфина изба. Изба приметная — три рябины около крыльца стоят. В ряд все три выстроились.
— Побежишь? — спросила Верка.— Только надо ночью! Днем — ни-ни…
Дуня поежилась: а ну как осипнет вдруг, безголосой станет?
Промолвила чуть слышно:
— Боязно…
— Боязно — это ладно,— помолчав, сказала Фрося.— Главное не в том…
— В чем же?
— Как из дому выйти? Коли Матрена Сидоровна приметит…
— Пустяковое дело!— Веркины косоватые глаза сверкнули удалью.— За это я берусь. В окно Дуняшу высадим.
А Дуня между тем прикидывала: страшно-то страшно, это верно. Но, если наколдует Марфа, чтобы домой ее отправили… Ведь радость будет!
— Ладно. Побегу,— сказала Дуня.— Здесь мне как в темнице.
Глава восьмая. Колдунья Марфа
Ночью, когда Василиса с Ульяшей уснули, а наверху наконец захрапела Матрена Сидоровна, три девочки, таясь и чуть слышно перешептываясь, поднялись с дерюжки, на которой спали.
Фрося с Верой помогли Дуне выпрыгнуть из окна. Снизу, с земли, она помахала им рукой, шепнула: «Спасибочки…» — и побежала. Быстро перемахнула неглубокий овражек и поднялась на противоположную его сторону.
Было светло от луны. Словно большое серебряное блюдо, висела она на самой середке неба. От ее света даже звезды померкли, зато на лугу был виден чуть ли не каждый цветок. Особенно ромашки. Их было видимо-невидимо. Казалось, что они сами светятся, отражая своими белыми лепестками свет луны. И еще казалось, будто все звучит и все поет вокруг. Не только ручей, который, булькая, перекатывался по камешкам на дне оврага, но и сам воздух, и травы, и цветы, и маленькие тучки, летящие мимо светлой луны. А уж о кузнечиках и лягушках и говорить нечего — трещали, квакали во всю свою мочь. Одни — внизу, где влажно и пахло сыростью, другие — наверху среди сухих стеблей высоких трав.
Но Дупины глаза ни на какую красоту сейчас не смотрели. Не до того ей было.
Где-то вдалеке — не то за оврагом в усадьбе, не то за лугом в деревне — вдруг хором забрехали псы. И этот далекий собачий лай, пожалуй, был слышнее всего. Слышнее, чем близкое журчание ручья, слышнее, чем треньканье ночной пичужки в кустах.
Дуне было страшно. Ей было страшно оттого, что ее могли увидеть среди этого просторного светлого луга, среди этих светящихся ромашек. «Что будет, коли увидят? Ох, что будет!..» Ей было страшно, что где-то в деревне разбрехались собаки. «Неужто меня почуяли? А ну, как всех людей перебудят да на ноги подымут?» Но страшнее всего ей было, что она решилась пойти не куда-нибудь а к колдунье. И не к ихней знакомой белеховской, а к тутошней, неизвестной. Прямо жуть брала… «Матушка родимая, да что ж со мной будет?»
Осмотревшись, Дуня не сразу отыскала тропку, про которую ей давеча толковали Фрося и Вера. А найдя среди травы еле приметную стежку, почувствовала к девочкам нежность и благодарность. Знала: обе не заснут, будут дожидаться ее возвращения. Значит, не одна она теперь в Пухове. Подружки у нее есть…
«Чего же я стою? Чего мешкаю?» — подумала Дуня. Подхватилась и побежала.
Избу, о которой ей говорили Вера с Фросей, Дуня сразу увидала. Три высоких дерева стаяли в один ряд. Будто нарочно они выросли, чтобы заметнее была изба колдуньи.
У крыльца Дуня огляделась: туда ли она пришла? Не было бы ошибки. А изба была как изба — три небольших оконца, крыша, крытая соломой, завалинка под окнами.
Дуня подняла руку, чтобы постучаться, и тут ее взяла оторопь. Ей вдруг представилось: стукни она в дверь, и выглянет из избы колдунья. Нос у колдуньи клювом изогнут, изо рта гнилой клык торчит, волосы лохматые, из глаз сыплются искры. Точь-в-точь как в сказках, какие старая бабка ей махонькой сказывала. Опустилась Дунина рука, так и не постучав. А из избы раздался ленивый, певучий голос:
— Входи, коли пришла. Дверь не заперта…
Дуня и не удивилась, что постучать она еще не постучала, а уж ее кликнули, велели в избу входить. Раз колдунья, так и должно быть — сквозь стены видит. Толкнув дверь, Дуня вошла.
В избе было светло. Но не от лучины, а от луны, которая наискось глядела в небольшие низкие оконца. На лавке, освещенная лунным светом, сидела женщина и пряла. Лицо этой женщины было в тени, но по всему было видно, что она молода, красива и не похожа на ту колдунью, какую думалось увидеть Дуне.
И Дуня усомнилась: нет, не туда она попала. Не колдунья сидит перед ней на лавке и прядет.
Женщина все тем же медленным и певучим голосом спросила:
— Чего стоишь, голуба? Садись вон сюда.— Она показала на лавку возле себя.
Но Дуня все в том же сомнении стояла у дверей. Ноги ее точно прилипли к порогу. Наконец она вымолвила:
— Марфу бы мне…
— Я и зовусь Марфой,— ответила женщина и усмехнулась: — Аль непохожая?
— Непохожая,— призналась Дуня.
— Хоть непохожая, а ошибки нет… Присядь да поведай: отколь пришла? С какой бедою? Друг милый покинул? На тебя не глядит, другая приворожила?
— Нет,— сказала Дуня,— не в том моя беда… Исподтишка она окинула взглядом избу. Ничего не увидела, вокруг все было черным-черно: словно ни стен в этой избе, ни печи, ни стола. Словно все попряталось в глубокую тень. Лишь светлый квадрат лунного света, вырвавшись из оконца, лежал на полу у Марфиных ног, да Марфины руки — большие, белые, ловкие,— отщипывая от кудели, неслышно сучили льняную нить.
— Садись, садись, не бойся.— И женщина снова кивнула на лавку возле себя.
А веретено ее меж тем без устали вертелось, и от кудели к нему тянулась нить — светлая, легкая, будто из чистого серебра.
Дуня чуть присела на самый край лавки, не сводя глаз с женщины. Начала с опаской, а потом уже и разговорилась. Поведала все по порядку с того самого вечера, как плясала и пела перед пуховским барином, и до того дня, как привезли ее сюда. И тошнехонько ей тут живется — без дела, взаперти, далеко от родимых мест…
Марфа (да полно, была ли она колдуньей?) слушала Дуню молча, не перебивала, не переспрашивала, а лишь изредка вскидывала на нее глаза. И тогда глаза Марфы странно мерцали, как у настоящей колдуньи.
А веретено все крутилось, вертелось. Все вилась-вилась к нему тонкая серебряная нить. Вся в лунном свете. Вся, будто сама из лунного света, неясная, трепетная…
— Чего ж ты хочешь, голуба? —спросила Марфа.— От меня чего желаешь?
Дуня ответила еле слышно:
— Домой хочу…
— Так ли? — переспросила Марфа и вдруг перестала прясть. А Дуня и сама теперь не знала: самое ли свое сокровенное желание она высказала?
Марфа встала.
Была она высокой, статной. Перекинула тяжелую длинную косу со спины на грудь. Посмотрела на Дуню пристально. Качнула головой.
— Эх, голуба, голуба…
И, с каким-то сомнением снова покачав головой, прибавила, слегка помедлив:
— Не знаю, голуба, что и сказать тебе. Не знаю…
Дуня тоже поднялась с лавки. Хотела было припомнить Марфе: а как же Санька? Та девчонка? Ведь Саньку-то живо отправили обратно домой, когда Марфа ей поколдовала. Помогло, значит, Саньке колдовство. А ей, Дуне, почему же не поможет?
Однако постеснялась об этом говорить. Лишь тихо сказала:
— Что ж… пошла я…— и медленно направилась к двери.
— Звать тебя как? — остановила ее Марфа.
Дуня назвалась.
Марфа все так же молча и пристально продолжала смотреть на Дуню. Какие мысли роились., в ее голове? О чем она думала, глядя на бледное Дунино лицо, еле различимое в потемках?
— Ладно, Дуня,— наконец сказала она.— Иди за мной. Сдернув с деревянного крюка платок, она накинула его себе на голову и направилась к двери. Легким движением руки поманила за собой и Дуню.
И вот они обе вышли из избы па волю. Идут по двору. Обогнули плетень. Впереди Марфа — шагает уверенно, размашисто. Привычно отстраняя кусты бузины, спустилась по крепко утоптанной дорожке вниз. Дуня за нею.
А в низине поблескивает пруд. У пруда, окунув в воду темные
листья, стоят старые сгорбленные ветлы.
В мыслях Дуниных творится непонятное: то ли убежать ей, пока не поздно, то ли, упаси бог, не отстать от Марфы. И плетется Дуня следом за колдуньей быстрыми дрожащими шажками, вся замирая и от страха и от любопытства.
Возле самого пруда темнеет убогая избенка. Банька, что ли?
Ох-ох-ох, страхота какая!