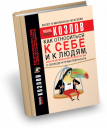Глава пятая. В Пухово съезжаются гости
Ну и гостей понаехало к барину Федору Федоровичу! Видимо-невидимо… Такого Дуне еще видеть не приходилось. Как глянешь в сад, там по дорожкам одни господа расхаживают. Туда-сюда, туда-сюда… И такие все авантажные, расфранченные. Ах, ах, ах!
Помнится, к их белеховской барыне Варваре Алексеевне гости тоже езживали. Не без того. Бывало, и на святках соберутся. И опять же в день барыниных именин. И так, без особого случая, явится кое-кто из соседей, родни. То приедут гостевать на все лето Фастовсжие барин с барыней и с детками-малолетками. То из Ломтева — барынина двоюродная тетка. Эта ехала через всю деревню. Здоровенная колымага катила мимо их изб. А колеса у той колымаги скрипели так, что слыхать было издали, когда выезжали из леса. И, узнав этот скрип, все деревенские говорили: «Ну, к барыне Варваре Алексеевне из Ломтева тетка жалует!» Бывали, бывали и у них в Белехове гости. Что и говорить!
А сюда в Пухово господа начали съезжаться дня за два до бариновых именин.
То подкатит карета, вся разрисованная розами да купидонами. И выпорхнет из той кареты московский щеголь, сам похожий на купидона. Щеки нарумянены, губы накрашены, а на голове парик.
Спереди — в крутых буклях, на затылке — косица с бантом. Вот это кавалер! И башмаки-то у него на розовых каблуках, на башмаках-то преогромнейшие пряжки.
То, громыхая, подъедет старинный рыдван. Четверка лошадей, на запятках — лакеи, на козлах — кучер и форейтор. А в рыдване барыня сидит. От старости даже головой трясет, однако в волосах перья и ленты, на шее — алмазы, на щеках белила, румяна. А юбка и роба у барыни, чтобы пошире были, на китовые усы распялены. Два лакея ее из рыдвана с превеликим трудом вытаскивают, сзади еще и служанка подталкивает. Хоть стара, а тоже не против и на представление поглядеть и себя показать.
Сам Федор Федорович ее под руку в дом вводит.
— Милости просим, княгинюшка! Благодарствую, что приехали, ваше сиятельство!
А та шамкает в ответ:
— Спасибо тебе, батюшка, что вспомнил. Вот, бывало, на куртагах и машкерадах, еще при покойной государыне Елизавете Петровне… Да, батюшка, было, было времечко…
И снова карета. И опять экипаж. И все гости, гости, гости.
В канун именин за стол Федора Федоровича село уже чуть ли не пятьдесят человек. А то и более. Но главных еще не было. Главных гостей ждали только на завтрашний день. А из главных — самым главным был, понятно, граф Николай Петрович Шереметев. И потому самые дорогие яства на стол не подавались. Берегли их к завтрашнему пиру, пока не подносили гостям.
«Ну и пусть не подносят, не наше дело,— думала Дуня.— Но отколь все это Верке известно? Каждый вечер она их разными разговорами тешит. Что ли, глаз у нее такой наметанный? Все-то ей доподлинно известно!»
А для Дуни вдруг обернулись эти дни вольной волюшкой…
Словно по чьему-то неведомому чародейству разомкнулись все Запоры, упали все затворы на дверях флигелечка, где жили девочки-актерки. Нет более надзора Матрены Сидоровны! Да и самой ее почти целыми днями и не видно и не слышно. Где она — неизвестно. На барской ли кухне? Или где в другом месте? Разве в эдакой кутерьме и суматохе, которая нынче в Пухове, концы сыщешь?
У Дуняши словно бы крылья расправились: беги куда хочешь! Спроса с тебя никакого. Ответа держать некому. Колотушки не сыплются. Летает Дунюшка и туда и сюда в свое удовольствие! Хоть в театре не занята — не поет там и не танцует, — а тоже дел по горло. С утра до вечера носится, всем рада пособить, каждому с охотой помогает.
Мелькает ее сарафан с золотыми пуговками то тут, то там. Будто с крылышками ноги, обутые в привычные лапотки.
То Надежда Воробьева велит:
— Снеси, Дунька, этот парик к куаферу Степочке. Пусть букли покруче свертит. А обратно понесешь — тихим шагом иди. Коли взлохматишь, не поздоровится.
И бежит Дуня с рыжим Надеждиным париком к Степе-куаферу. Он всем парики подправляет и разные прически делает. В Москве этому обучался.
А там Антон Тарасович с просьбой:
— Дуния, миа амика, надобно поскорее ноты принести.
— Где взять-то, Антон Тарасович?
— Петруша даст. Партии, какие в ветхость пришли, сидит переписывает.
Петруша даст… Стало быть, надо бежать в тот флигель, где живет Антон Тарасович со своими музыкантами?
Вот хорошо-то! Петрушу повидает, словечком с ним перемолвится. Ведь последнее время Антону Тарасовичу недосуг ее учить. Все словно бы очумели с театром. Вот Петрушу и не приходится видеть… Бегом, бегом Дуня за нотами.
Флигель стоит недалеко от театра, чуть виден за деревьями. В одной из комнат стоит старый клавесин. Здесь Антон Тарасович с учениками занимается. А в задних двух светелках мальчики-му-Зыканты живут. И Петруша Белов с ними.
Тук-тук-тук — в окошко. Здесь ли Петруша? Не ошиблась ли?
Окошко — раз! — и отворилось. Петруша выглянул.
— Дуня? Ты?
А сам — в краску. Кумачом залился.
Кафтанчик на Петруше хоть и ветхий, но уж до того лазоревый, прямо под стать его глазам! А глаза-то сейчас усталые. Тенью обведены. Видно, всю ночь писал ноты. Умаялся. Что сделаешь? Кроме как Петруше, некому доверить. Антон Тарасович лишь на Петрушу надеется. Знает его старательность. Знает, что все будет правильно — и бекары поставит, где надобно, и бемоли и диезы. Ох, мудреное это дело — ноты! Потом-то, конечно, все ясно-понятно, а сначала в голове незнамо что творилось…
— Ноты давай. Антон Тарасович прислал.
— Дуня…
— Ты в окошко протяни. Я возьму.
— Дуня, повремени немного. Словечко тебе скажу.
Как сладко щемит сердце! Но в ответ ему со строгостью:
— Только мне с тобой и разговаривать. Вот еще!
А самой бы и не уходить прочь от окна. А самой бы стоять тут до поздней ночи. И чтобы Петруша оказал то словечко, какое посулил сказать.
— Ну, давай ноты. Антон Тарасович дожидается.
— Дуня…
— Али не готово?
— Все готово, возьми. Эти вот листки для флейты, эти — для скрипок.
— Ладно. Антон Тарасович разберется.
Бежать надобно. Антон Тарасович ждет. А ноги — ни с места. Вроде бы смолой прилепило к земле.
— Ты бы поспал, Петруша. Ишь какой томный. Тебе ведь соло на виолончели играть.
— Дунечка…
— Что, Петруша?
— Я для тебя романс сочинил.
— Для меня?
— Для тебя. И слова придумал.
— И слова…— Теперь уже Дуня кумачом залилась.
— Хочешь, сыграю?
— Да ведь недосуг мне сейчас, Петруша. Ведь Антон Тарасович приказал, чтобы мигом..,
— Тогда беги, Дунечка. Коли Антон Тарасович так велел, тогда скорее беги.
— Будь здоров, Петруша. Побегу.
— Будь здорова, Дунюшка… А у самого в глазах печаль.
Бежит Дуня обратно в театр, а в голове думы, думы, думы… Много ей всего думается. Почему так мил ей Петруша? Уж не потому ли, что он родной Фросин брат? Наверно, потому. Да нет!
Разве в том дело?
Ближе к вечеру, откуда ни возьмись, появилась Матрена Сидоровна и вдруг приказала:
Снесешь эту кошелку. Отдашь хромой Лизавете. Дуня мотнула головой: ладно, мол, снесу.
— Куда нести, знаешь?
Как не знать? Хромую Лизку все знают. Она девушкам-актеркам прислуживает. Одевает их, раздевает, в бане моет.
Стрелой умчалась Дуня. Но, добежав до густых кустов, свернула в сторону. Залезла в самую зелень и притаилась. Не будет она спешить. Авось не помрет Лизка, получит потом кошелку. А она, Дуня, посидит в кустах и поглядит, чего там гости делают, как по дорожкам разгуливают, какие один с другим комплимэнтные разговоры разговаривают.
Увидела неподалеку двух барышень. Надо быть, сестры эти барышни. Очень похожие. Прямо на одно лицо. И одеты одинаково: обе в кисейных платьях, голубыми атласными лентами перепоясаны. А кудри у каждой до плеч. Красивые барышни! Круглые, белые, будто репки, водой мытые. Ходят по дорожке взад и вперед, а сами на барина Федора Федоровича глазки скашивают.
Но барин Федор Федорович на них и взора не кинет. Все вокруг другой девицы увивается. А та, другая девица, из себя не важненькая. Чего он в ней нашел? А рот-то как скривила… Фу-фу-фу!
Вечером, рассказывая об этом девчонкам, Дуня погримасничала, как та криворотая, описала во всех подробностях платье, в какое девица вырядилась, и какие на девице украшения — тоже не позабыла упомянуть:
— На шее бусины сверкучие… Серьги в ушах — во! Спереди бант золотой, тоже весь в камушках. И на каждом пальце у нее по два кольца. И руками-то она по-всякому вертит, чтобы камушки у нее пошибче играли. А все равно — никудышная! И чего это наш Федор Федорович в ней распрекрасного нашел? Ни на шаг от нее…
— Богачка,— объяснила Верка.— Недавно тетка у нее померла. Сказывают, несметное богатство оставила. Вот наш-то и увивается. Жениться на ней желает.
Удивилась Дуня:
— А ему-то, Федору Федоровичу, на кой богатство? Ведь сам-то, надо думать, богач богачом…
— Наш? — Верка присвистнула.— У него только на брюхе шелк, а в брюхе-то щелк! Весь в долгах. А для нонешнего праздника и вовсе высадился. Для него одно спасение — на богатенькой жениться.
Ну и ну! Ну и Верка! Даже бариновы достатки ей известны. Острый глаз у девки — что и говорить.
Час был поздний, когда девочки улеглись на дерюжку, постланную на пол. Завтра же чуть свет всем им быть на ногах. Перед спектаклем Федор Федорович приказал, чтобы репетировали полный день. Уж до того боялся конфуза!
— Скотину и то более, чем нас, берегут, — ворчала Верка, укладываясь на дерюжку. — Деревянные мы, что ли? Ну как мы завтра плясать станем? Ноги ровно дудки гудят… Окаянство одно — не жизнь!
Глава шестая. Нежданное, негаданное
А утром вдруг тяжко занемогла Фрося.
Проснувшись, хотела встать и бежать вместе со всеми в театр на репетицию, да вдруг закашлялась. Кашляла долго, надрывно, припав губами к платку. А как отпустил кашель, она привалилась спиной к стене и бессильно бросила на колени худенькие руки.; И стала часто-часто дышать открытым ртом, будто рыбка, выброшенная на песок. На платке же расплылось кровяное пятно.
Снова хотела подняться, хотела встать на ноги и опять зашлась долгим, мучительным кашлем. И, уж совсем обессилев, плашмя повалилась на дерюжку. Горько заплакала.
Верка тотчас побежала к Матрене Сидоровне: что делать-то? Фрося у них захворала. Встать не может, не только что идти на репетицию.
С гневным воплем Матрена Сидоровна ворвалась в горницу. Стала трясти Фросю за плечи.
— Ах она бестия! Лежит, будто благородная. Ишь когда вздумала хворь на себя напустить… Поднимайся, дрянь эдакая!
С испуга Фрося было попыталась вскочить на ноги, но кашель снова свалил ее на дерюжку.
— Верка! — в ярости крикнула Матрена Сидоровна.
— Чего? — отозвалась Вера.
— Сбегай-ка за крапивой. Живо! Я ее сейчас крапивой огрею. Она у меня живо подскочит. За погребом жгучая растет. Побольше рви!
Верка с места не двинулась. Лишь исподлобья кинула на Матрену Сидоровну колючий взгляд.
— Василиска, Ульяна, Дунька, за крапивой… — по очереди выкликала Матрена Сидоровна девчонок. Но они все точно оглохли.
Всегда услужливая, Василиса начала тихим голосом:
— Сударушка…— Поглядела на Фросю и осеклась. Тоже вышла из повиновения. Побледнев, глаз не спускала с Фроси.
А Фрося все порывалась подняться со своей дерюжки и, как срезанная серпом травинка, валилась обратно. Кашель трепал ее все сильнее, сильнее.
Тут Матрена Сидоровна уразумела: кричи не кричи, а криком Фросю на ноги не поставить. Тем более, нельзя ей нынче плясать перед гостями. Не приведи господи, еще свалится во время танцевания.
Бранясь на разные лады, Матрена Сидоровна кинулась за распоряжением в господский дом, к самому барину. Что делать: девка, которая плясать назначена, занемогла, подняться не может.
Но до барина ей добраться не пришлось, хоть камердинера Василия слезно просила доложить. Он на нее руками замахал: обалдела ты, что ли? Полон дом гостей, а она с какой-то хворой девкой суется! К Григорию Потаповичу надо идти! Ну ясно — к Басову! Он же в театре над актерами главный…
И то верно. Подхватилась Матрена Сидоровна и — скорее в театр. А там последние приготовления идут. Народищу нагнали — ужасти-ужасти! И всем, видать, дел хватает… Кто масляные лампы пробует, чтобы ярко горели. Кто занавес вверх поднимает, вниз опускает, не получилось бы заминки, когда станут его при гостях вздергивать. С кресел, со скамеек каждую пылинку смахивают— господа-то ведь в каких туалетах усядутся! В шандалы, какие в зале на стенах висят, восковые свечи вставляют.
Вон Григорий Потапович. Он и есть главный над всеми актерами и актерками, дансерами и дансерками. Вроде бы как итальянец Антон Тарасович над музыкантами. Только тот пению да музыке всех обучает, а этот всяческому говорению да танцеванию.
Хоть из простых мужиков Григорий Потапович (не так давно и в Гришках хаживал!), а грамотный и в театральных делах оказался умельцем. Когда Федор Федорович задумал у себя в Пухове театр завести, он Гришку Басова изо всей дворни выделил. И не зря послал его в Москву на выучку. Почти целый год Басов прожил в Москве, всякому-разному учился там у актера Василия Померанцева. Говорят, барин за эту выучку актеру Померанцеву чуть ли не две сотни отвалил. Да и сам Гришка Басов учился с превеликим старанием. Бывало, и недоест и недоспит, а уж не пропустит ни одного представления, какие в тот год давались в Москве. Многое посмотрел. Даже сумел проникнуть в театр графа Воронцова, что на Знаменке, и в Кусковский театр графа Шереметева. Видел он и комическую оперу «Два сильфа», и «Инфанту Заморы», и оперу Сальери «Данаиды», и «Ричарда Львиное Сердце» французского композитора Гретри, и многое-многое другое.
А в публичный театр Меддокса, который был вновь отстроен на Петровской улице, его и на репетиции пускали. Владельцу театра, англичанину Меддоксу, своим рвением и любовью к театру Григорий Потапович по душе пришелся.
В те годы у Меддокса подле оркестра имелись особые места для постоянных посетителей театра. Назывались эти места «табуретами». Большая часть постоянных посетителей имела собственные крепостные театры. Они получали приглашение на две генеральные репетиции нового спектакля и были всегда строгими ценителями и судьями. Григорий Потапович Басов тоже имел доступ на эти репетиции. Рта он, понятно, не смел раскрывать, но слушал внимательно и многому научился.
Когда вернулся из Москвы, никто его и не узнал. Наряжен по-господски и еле-еле с людьми разговаривает. Весьма даже загордился. Кто-то вздумал его по-свойски Гришкой окликнуть. Изо всей силы он по затылку того огрел и сказал: «Запомни: зовусь Григорием Потапычем».
С той поры уже ошибок не было. Стали Басова величать Григорием Потапычем и, здороваясь, кланялись в пояс.
Григорий Потапович стал правой рукой барина в его театральных затеях. По его совету выбрали и оперу «Дианино древо». На манер барина и Григорий Потапович завел себе хлыстик. Конечно, рукоятка у его хлыстика была никакая не черепаховая, а самая простецкая. Однако пускал в ход свой хлыстик Григорий Потапович куда чаще барина Федора Федоровича. Злой был мужик, с норовом.
Теперь Григорий Потапович находился на сцене. Что-то заело там с пещерой, которая должна то спускаться под пол, то подниматься наверх. Весь потный, красный, бегает, суетится. На всех орет. И к нему подступа нет.
Однако Матрена Сидоровна умеет быть настырной. От нее не так-то отобьешься. Тоже полезла на помост, который сценою зовется. Пошла ходить за актерским управителем:
— Григорий Потапыч, а Григорий Потапыч…
Куда там — не слышит. Вернее, не хочет слышать. Глаза чумовые. Сам какие-то веревки тянет, ругается.
— Григорий Потапыч, а Григорий Потапыч…
Наконец пещера и вниз спустилась, и наверх поднялась. Тогда услыхал. Глянул осатанело — сейчас по щеке смажет.
— Отвяжешься ты от меня, подлая баба?
— Да, Григорий Потапыч…— Матрена Сидоровна чуть ли не стонет: — Занемогла у нас одна дансерка, которая нынче антраша должна выделывать
Прислушался.
— Какая еще дансерка?
— Да которая нимфу пляшет… Она же еще и пастушку…
— Фрося Белова, что ли?
— Она, она!
— Другую веди. Там полагается, чтобы пара дансерок была. Понятно тебе?
— Понятно. Кого же вместо Фроськи-то сюда пригнать?
— Кого хочешь.
— Так другая, которая имеется, необученная…
— Гони без промедления. Здесь обучим!
Вот спасибо человеку! От души отлегло. Матрена Сидоровна рысью помчалась обратно к дому.
А там Фрося все так же пластом лежит. Не лучше ей. Уже не бледная она, а вся жаром полыхает.
Возле нее Дуня, руку Фросину держит и плачет. Тут же и остальные девчонки. Все растерянные. Про репетицию и вовсе думать забыли.
Матрена Сидоровна мигом их в чувство привела. Всех погнала в театр. И Дуне велела немедля туда же бежать.
Дуня ушам своим не поверила.
— А мне-то зачем?
Но Матрена Сидоровна сказала, что она, Дуня, будет плясать вместо Фроси и нимфу и пастушку.
Дуня в слезы: да рехнулись они, что ли? Одурели все? Ей плясать? Перед гостями? Да не умеет она, не обучена… На позорище ее хотят, видно, выставить.
Но посмотрела на Фросю и подумала: пусть позорище, пусть ее, Дуню, обругают, пусть высекут за неумение, лишь бы Фросю не тревожили.
Утерла слезы и стала поспешно одеваться. А Фрося ей чуть слышным шепотом:
— На Веру поглядывай, Дунюшка. Как она, так и ты… Не больно хитрое дело.
И снова ее худенькое тело стал сотрясать жестокий кашель. Выползла алая змейка из уголка рта и поползла-поползла по подбородку на шею. Точно хотела бедную Фросю ужалить насмерть в самое сердце.
И вот Дуня на сцене.
Темно здесь. Горит сальная свеча. Тускло освещена сбоку лишь одна кулиса. Со всех сторон висят пестро разрисованные холсты. Дуня знает, что эти разрисованные холсты называются декорациями. Когда на помосте зажгут масляные лампы, здесь будет и сад, обнесенный стеной, и голубая речка, а за речкой зеленая рощица, будет и дерево с золотыми яблоками, и пещера, в которой спрячутся нимфы и богиня…
Но хоть и знает это Дуня, верится ей с трудом. Сейчас всюду на сцене только тряпки, пестро и непонятно размалеванные, а более ничего.
Кажется, давно ли это было? Слыхом она не слыхивала, что бывает дом, который зовется театром. А в театре есть помост, который называется сценой. И разве знала она, что бывают какие-то богини, а у богинь есть прислужницы — нимфы; и еще бывают пастушки, которые не столько коров или гусей пасут, а лишь пляшут да поклоны отвешивают…
А вот сейчас она, Дуня Чекунова, крепостная девчонка из деревни Белехово,— на сцене. Сама будет представлять нимфу, богини Дианы прислужницу. Потом будет пастушкой. И тогда наденут на нее голубую пышную юбку с белым кисейным передником, а на голове у нее будет веночек из розовых цветов. Щеки же ей намажут пунцовой помадой…
Все утро ее обучали танцам. И как на носочках бегать то влево, то вправо, а то вперед к краю сцены. Учили, как руки над головой вздевать, как кружиться, как поклоны и полупоклоны делать, как в разные стороны руками махать, вроде бы как лебедиными крыльями. Многому ее учили в это утро.
Сперва не очень все складно-ладно у Дуни выходило. Но бранить ее не бранили, а по щекам и вовсе не шлепали. Просто заставляли до одурения, так что ноги подкашивались, повторять все движения; когда же накрепко она затвердила, в какую сторону ей сперва бежать, а в какую потом и как присесть, вытянув ноги, и как кружиться подле прекрасной охотницы — богини Дианы, тогда главный управитель Григорий Потапович подозвал ее к себе. Спросил, ероша свои рыжие волосы:
— Тебя как звать?
— Дуней,— робко ответила она. И вся сжалась: вот сейчас-то и начнется наука: и отлупит ее Басов, и отругает — знала от девчонок о его свирепости.
Но Григорий Потапович хоть грубовато, но без гнева сказал:
— Музыку слушай, Дуня. Ушами, руками, ногами, всем, что в тебе есть! Разумеешь?
— Я и так слушаю,— сказала Дуня и прибавила, осмелев: — Я люблю музыку. Страсть, как люблю!
— Девка ты хорошая. Подучишься, отменной дансеркой станешь.
Дуня хотела было возразить, что — нет. Дансеркой ей быть не хочется. Это она лишь заместо Фроси, пока Фрося хворает. Она ведь пению обучается у Антона Тарасовича. Но вслух ничего этого не сказала. Лишь зарделась от неожиданной похвалы.
Басов тут же от нее отвернулся, будто с нею и не разговаривал. Подскочил к кому-то на помосте и хлыстом его, хлыстом, хлыстом.
— Ты что, леший? Очумел? Куда прибиваешь? Песья голова… Где твое соображение?
Дуня была вся как в тумане. Все у нее болело, ломило. Неужто надо будет ей при бариновых гостях плясать? Страшилась она предстоящего и ждала. Но больше страшилась, чем ждала.
Так нежданно-негаданно оказалась Дуня впервые на сцене.
Глава седьмая. Звезды за окном
В назначенный час стали собираться гости. В зале уже горели свечи — ив люстре, которая свисала с потолка, и в шандалах, прикрепленных к стенам. Зажгли масляные лампы и на сцене. От маленьких зеркальных отражателей, которые были приделаны к каждой лампе, и впрямь все преобразилось: вместо размалеванных холстов появилась и речка яркой синевы, и тенистая роща, и таинственная пещера из серых камней.
Занавес на сцене был спущен, но слышалось, как в зале смеются и переговариваются бариновы гости — господа, которые пришли смотреть на представление.
Потом заиграла музыка — громкая, красивая, радостная, и представление комической оперы «Дианино древо» началось.
Хорошо ли, плохо ли танцевала она, понять Дуня этого не могла. Что верно, то верно — старалась она изо всех сил. Сперва, правда; изрядно робела, все посматривала на Верку, все выспрашивала у нее глазами: так ли она делает? Не ошибается ли? А Верка ей улыбкой и чуть приметными движениями рук помогала, подавала знаки, и Дуня понимала, что все у них пока идет хорошо, ладно и не надо бояться…
Но чем дальше, тем смелее и свободнее танцевала Дуня. Уже перестала смотреть на Верку, просто слушала музыку. И стало ей казаться, что музыка играет лишь для нее одной — и обе скрипки, и флейта, и Петрушина виолончель… Особенно виолончель! И будто говорит ей Петрушина виолончель те слова, которые чуть было не сказал он тогда, возле окошка. Чуть было не сказал, да все-таки не сказал.
Лучше всего запомнилось Дуне из этого первого ее выступления на сцене, как она, завертевшись на носочках, долго-долго кружилась. Потом, быстро перебирая ногами, не побежала, а заскользила к самому краю помоста. И всем показалось, что она не удержится, что упадет с помоста в зал. Чей-то голос громко вскрикнул: «Ох!»
Но Дуня не собиралась падать. Она знала, что, добежав до края сцены, лишь протянет вперед руки и, снова закружившись на носочках, еле касаясь пола, отбежит и скроется за деревьями, которые нарисованы сбоку на сцене.
Уже стоя за кулисами и тяжело дыша, услыхала Дуня, как гости и сам барин Федор Федорович и другой барин в белом атласном камзоле, которого она приметила в кресле первого ряда, закричали: «Браво! Браво!» — и захлопали в ладоши.
Ей ли, Дуне ли, кричали они «браво» и хлопали в ладоши или кому другому, этого она понять не могла. Но будто сладкий дурман разлился в ее сердце.
И ноги-то у нее гудели, во рту пересохло. Привалившись к какому-то столбу, она еле стояла от усталости. Но такая большая радость наполняла ее, что век не уходила бы она с этого помоста.
Из оркестра ей кивал синьор Антон Тарасович. По губам его она понимала, что говорит он: «Браво! Бравиосимо!» И доподлинно знала, что относятся эти слова к ней, к Дуне Чекуновой, и ни к кому иному.
А Петруша Белов, продолжая водить смычком по струнам виолончели, теперь и в ноты не глядел. А лишь на нее, на Дуню. Глаз не сводил. По его глазам Дуня знала, что Петруша тоже ее хвалит.
Музыка играла—ах как дивно! Пела Надежда Воробьева. Она была в костюме охотницы Дианы с серебряным полумесяцем на голове.
Ей вторила Катерина Незнамова.
В зале колыхалось пламя свечей — нарядные барыни с голыми плечами обмахивали себя веерами из белых лохматых перьев.
Барин Федор Федорович был, видно, весьма доволен представлением. Улыбался. То и дело подносил к глазам золотую тростинку со стеклами. Что-то говорил своему гостю, важному барину в атласном камзоле. Тот кивал в ответ и тоже поглядывал на сцену через стеклышки на длинной тростинке. А на его белом камзоле переливались алмазами две звезды, а третья, тоже алмазная, висела на шее. Через плечо же была перекинута широкая голубая лента. Ничего не скажешь — авантажный барин!
Вдруг Дуня сообразила, что барин этот и есть сам граф — Николай Петрович Шереметев. Его она видела в карете, про него тогда спросила у Василия: не царевич ли?
Григорий Потапович, возле которого сейчас стояла Дуня, строго сказал:
— Не больно верти головой. И глазами во все стороны не зыркай! Перезабудешь все антраша… А будешь гирляндой махать, не растягивай. Разорваться может гирлянда-то…
Дуня кивнула, будто поняла, о чем толкует ей Басов, но на самом деле ничего толком и не слыхала и уразуметь не могла.
Гирлянда? Да что ж это такое, гирлянда-то? О чем речь ведет Григорий Потапович?
Была она словно в каком-то забытьи. И не мудрено: слишком много она за один нынешний день увидела, узнала и перечувствовала. Было от чего голове кругом пойти…
Потом занавес опустился и гости ушли из театра. В зале и на сцене потушили огни,— девчонок Матрена Сидоровна погнала обратно во флигелек.
Девочки давно спали, а Дуня не могла уснуть. Лежала с открытыми глазами, смотрела на звезды за окном. Впервые она ясно ощутила, что не хочется ей обратно в Белехово. Здесь, только Здесь должно ей быть. Театральный помост ей лучше дома, слаще материнской ласки, и ничего, ничего ей, кроме этого, не нужно…
А потом усталость взяла свое. Ресницы у нее смежились. И она уснула.
Приснился ей сон. Будто она вовсе не Дуня Чекунова, а королевна. Такая, о которых в сказках сказывают. На голове у нее не то корона, не то венец в самоцветных камушках. И сияют эти камушки, вроде бы роса на траве — и зеленым, и красным, и голубым, и фиолетовым, все переливаются. Да так, что от них и светло и ясно вокруг.
И вот будто идет в самоцветной короне она, королевна Дуня, дремучим-дремучим лесом. Одни ели в лесу — огромные и темные. Упираются ели верхушками в небо. А по небу облака плывут и задевают за эти ели. Облака же не белые, как бывают летним днем, а закатные и светятся.
Идет Дуня по лесу, а сама не знает куда. Что-то ищет, а сама не знает что.
И вдруг дремучий лес кончается и начинается другой, веселый, светлый. И весь этот лес поет. Каждая ветка на дереве поет. Каждый лист на дереве поет, и травы поют. И цветы поют. И уже знает Дуня, что хочет она в этом сказочном поющем лесу отыскать Петрушу Белова, который играет где-то рядом на виолончели.
Только нет его нигде. Нигде нет. А песня-то звучит все ближе, все явственнее.
Приставила Дуня к губам ладони и крикнула:
«Петруша, ау! Где ты, Петруша? Отзовись…»
А из-за куста доносится:
«Здесь я, Дунюшка! Обойди куст и увидишь меня».
Знает Дуня: стоит ей обойти куст, увидит она Петрушу в его ветхом кафтанишке с заплатой на локте.
А куст такой красивый, что словами рассказать невозможно — весь в цветах. Никогда таких пышных цветов Дуня не видывала.
«Вот сорву сейчас тот малиновый, и поможет он мне сыскать Петрушу Белова»,— думает Дуня. Но только приблизила пальцы к дивному кусту, как рядом, возле плеча, услыхала голос матери: «Не тронь! Не смей… не касайся… Волчье лыко это. Волчье лыко…»
Отскочила Дуня от куста, руки за спину спрятала, а вместо куста стоит колдунья Марфа — красивая, статная. Стоит, смотрит на Дуню и хохочет. Зубы блестят —вот как хохочет! До упаду. «Не найти тебе ничего! Не увидеть тебе никого! Хоть весь век ищи».
Рядом другой голос, знакомый, жалобный…
Проснулась Дуня. Посмотрела на окно — темным-темно за окошком. И звезд никаких не видно. Ушли куда-то, скрылись. Во сне стонет и мечется больная Фрося. Жаром от нее полыхает.