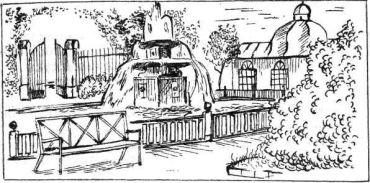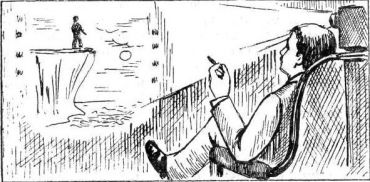|
Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Саша Черный. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКАРисунки М.Гуменюка |
Купить и скачать книгу можно на ЛитРес
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
1881—1925
СЛЕПЦЫ
Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Ave беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.
Пожилой приветливый господин обернулся к Ave и после некоторого колебания спросил:
— Кто вы такой?
— Я? Ave. Писатель.
— Хорошая профессия, — одобрительно улыбнулся незнакомец. — Интересная и почетная.
— А вы кто? — спросил простодушный Ave.
— Я-то? Да король.
— Этой страны?
— Конечно. А то какой же…
В свою очередь Ave сказал не менее благожелательно:
— Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.
— Ох и не говорите, — вздохнул король. — Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек королевствование не такой мед, как многие думают.
Ave всплеснул руками и изумленно вскричал:
— Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.
— А вы довольны? — иронически прищурился король.
— Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.
— Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.
— Я бы на вашем месте не боялся никакой критики, — возразил задумчиво Ave и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля. — Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.
Король махнул рукой:
— Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.
— Пробовали?
— Пробовал.
— Я бы на вашем месте…
— Э, на моем месте! — нервно вскричал старый король. — Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте… Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет…
— Куда… посадил бы? — осторожно спросил обстоятельный Ave.
— На свое место!
— А! На свое место… Разве это возможно?
— Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали… чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!
Ave скромно сказал:
— Ну, что ж… Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного… гм… смешным — не осуждайте меня.
— Ничего,— добродушно улыбнулся король. — Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей… Итак, хотите?
— Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.
— С Богом! — кивнул головой король. — Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?
— Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика… Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела… Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руку и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?
— Вы добрый парень, — устало улыбнулся король. — Да поможет вам Бог. А я пойду спать.
И, уходя, загадочно добавил:
— Бедные слепцы…
Уже три дня королевствовал скромный писатель Ave. Нужно отдать ему справедливость — он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги — и не менее одной книги в день на каждую душу, вместо утренних булок…
Ave поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, «Законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».
Однажды (это было на четвертый день утром) Ave стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу.
Неожиданно внимание его было привлечено странным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.
С юношеским проворством выбежал Ave из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.
— Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?
— Ничего он не сделал, — ответил полисмен.
— За что же вы его и куда гоните?
— Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.
— По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?
— А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу.
Ave, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:
— Мой закон?!
Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:
— Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?
— Да уж, — поддержал другой голос, — умный закончик: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!
Как вихрь влетел Ave в свой королевский кабинет и крикнул:
— Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!
По расследовании загадочный случай с законом «Об охране слепцов от внешних сил» разъяснился.
Дело обстояло так.
В первый день своего королевствования Ave призвал министра и сказал ему:
— Нужно издать закон «О заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».
Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:
— Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения.
Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:
— Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.
— Слушаю-с.
Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:
— Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?
— Так точно, господин начальник!
Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:
— Господа! Разъясните полисменам новый закон: «Всякого слепца, который шатается без толку по улицам, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует».
— Что значит «куда следует»? — спрашивали потом сержанты друг у друга.
— Вероятно, в участок. На высидку…Куда ж еще…
— Наверно, так.
— Ребята! — говорили сержанты, обходя полисменов. — Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!!
— А если они не захотят идти в участок?
— Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади — небось побегут!
Выяснив дело «об охранении слепцов от внешних влияний», Ave сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.
Чья-то рука ласково легла ему на голову.
— Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе «охранения слепцов», — «бедные слепцы!»? Видите, во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл.
— Что вы выиграли? — спросил Ave, отыскивая свою шапку.
— Да как же? Одним моим критиком меньше, Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу — заходите.
«Дожидайся!» — подумал Ave и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.
РОКОВОЙ ВЫИГРЫШ
Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читатель-брюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным безапелляционным тоном:
— Не может быть такого случая в жизни!
А я вам говорю, что может быть такой случай в жизни!
Читатель, конечно, способен спросить:
— А чем вы это докажете?
Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О, Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.
Надеюсь, другого доказательства не потребуется?
Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?
Да и что здесь такого необычного?.. Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову? Может!
Ну, вот и все. Корова — это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыграться вся пьеса, или — ни я, ни читатель — ничего не понимаем в музыке.
В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено, по случаю престольного праздника, «большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых — живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар».
Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.
Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта — «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков, с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена…
И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:
— А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею… Вдруг да что-нибудь выиграем!
Рыцарь Еня не прекословил.
— Настя! — сказал он. — Ваше желание — форменный закон для меня!
И ринулся к лотерейному колесу.
С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил:
— Выбирайте. Один из них мой, другой ваш. Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» — и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик: «Выиграл!»
И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами:
— Если зеркало или духи — дарю их вам.
Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:
— Барышня! Номер четырнадцать — что такое?
— Четырнадцать? Позвольте… Это корова! Вы корову выиграли.
И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.
И — таково страшное действие богатства и славы — даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка — не чета Насте — могла бы украсить его пышную жизнь.
— Скажите, — спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. — Я могу сейчас забрать свою корову?
— Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за двадцать пять рублей.
Бешено засмеялся Еня.
— Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше ста пятидесяти рублей», а сами предлагаете двдцать пять?.. Нет-с, знаете… Позвольте мне мою корову, и больше никаких!
В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:
— Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать…
Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:
— Неужели вы с ней будете так… таскаться?
— А почему же? Животное как животное; да и не на кого ее же здесь оставить!
Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.
Наоборот, — широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел…
Настя, нахмурив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала…
— Слушайте, Еня… Значит, вы меня домой не проводите?
— Провожу. Отчего же вас не проводить?
— А… корова??
— Чем же корова нам мешает?
— И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!
— Ну, хорошо… — после некоторого раздумья сказал Еня, — сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.
— А… корова?
— А корову привяжем сзади.
Настя вспыхнула.
— Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!
— Вы думаете, это очень остроумно? — надменно спросил Еня. — Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.
— А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь…
— Как угодно, — пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. — Если вам моя корова не нравится…
— Значит, вы меня не провожаете?
— Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..
— Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить.
— Пожалуйста, — расшаркался обиженный Еня. — И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так…
— Благо, нашли себе подходящее общество!
И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.
Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.
Потом очнулся…
— Эй, ты, корова… Ну, пойдем, брат.
Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:
— Коровичий сын свою маму спать ведет!
— Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, — сурово сказал Еня.
— А ну, дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?
Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.
На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня, с рассеянной миной, пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего…
Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше…
Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату… И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль: «А куда я сейчас дену корову?»
Сарая для нее не было. Привязать во дворе — могут украсть, тем более что калитка не запирается.
— Вот что я сделаю, — решил Еня после долгого и напряженного раздумья. — Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате…
Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:
— Эй, ты! Иди сюда, что ли… Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.
Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы, потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей судьбы и к своему новому месту жительства.
Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.
— Кш! Ишь ты, проклятая, — подушку грызет! Ты что… есть, может, хочешь? Или пить?
Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом, крадучись, вышел на двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же…
— На, ты! Как тебя… Васька! Ешь! Тубо!
Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.
— Цыц ты, проклятая! — ахнул растерявшийся Еня. — Молчи, чтоб тебя… Вот анафема!..
За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.
— Это вы, Иван Назарыч? — шепотом спросил Еня. — Входите, не бойтесь… У меня корова.
— Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?
— Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!
— Да как же можно корову в комнате держать? — недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. — Узнают хозяева — из квартиры выгонят.
— Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.
«М-м-му-у!» — заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.
— А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой! Ну, ты! Что я с ней сделаю — одеяло жует! У-у, черт!
Еня отбросил одеяло и хватил из всей силы кулаком корову между глаз. «М-мму-у-у!..»
— Ей-богу, — сказал жилец, — сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.
— Так что же мне делать?! — простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. — Ну посоветуйте.
— Да что ж тут советовать… А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.
— То есть… как это зарезать?
— Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.
Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли па одном уровне с мыслительными способностями хозяина.
Еня тупо поглядел на жильца и сказал после некоторого колебания:
— А что же мне за расчет?
— Ну как же! В ней мяса пудов двадцать… По пяти рублей пуд продадите — и то сто рублей. Да шкура, да то, да се… А за живую вам все равно не больше дадут.
— Серьезно? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож, и тот тупой. Ножницы еще есть — больше ничего.
— Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга…
— А вдруг она… станет защищаться… Подымет крик…
— Положим, это верно. Может, отравить ее, если…
— Ну, вы тоже скажете… Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?..
«Му-у-у-у!..»— заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.
За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятенным Еней предстал сонный растрепанный хозяин.
Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:
— Вон!
— Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич…
— Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразие заводить!
— То, что я вам и говорил, — сказал жилец таким тоном, будто все устроилось, как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.
Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).
— Ну, ты, проклятая! — сказал Еня сонным голосом. — Иди, что ли! Не стоять же тут…
Тихо побрели…
Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.
— Тепло, в сущности, — пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. — Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.
И заснул Еня — это удивительное игралище замысловатой судьбы.
— Эй, господин! — раздался над ним чей-то голос.
Было яркое, солнечное утро. Еня открыл глаза и потянулся.
— Господин! — сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. — Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему ж такое?
Вздрогнув, как ужаленный вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.
Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.
Всхлипнул и завопил:
— Украли!!
— Постойте, — сказал участковый пристав. — Что вы мне все говорите — украли да украли, корова да корова… А какая корова?
— Как какая? Обыкновенная.
— Да какой масти-то?
— Такая, знаете… коричневая. Но есть, конечно, и белые места.
— Где?
— Морда, кажется, белая. Или нет! С боку белое… На спине тоже… Хвост такой тоже… бледный. Вообще, знаете, какие обыкновенно бывают коровы.
— Нет-с! — решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. — По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!
И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод… Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня…
И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно: и корова, и жилище, и любимая девушка.
Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все — ее слепые, покорные рабы.
ГРАБИТЕЛЬ
С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело розовое, молодое лицо — черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.
Я спросил:
— Чего тебе надо?
Он ухмыльнулся.
— Собственно говоря, ничего.
— Это наш сад, — деликатно намекнул я.
— Ты, значит, здешний мальчик?
— Да. А то какой же?
— Ну, как твое здоровье? Как поживаешь? Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезные разговоры.
— Благодарю вас, — солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. — Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли!..
Это вышло шикарно. Совсем как у тетки.
— Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что: у тебя, кажется, должна быть сестра?
— А ты откуда знаешь?
— Ну, как же… У всякого порядочного мальчика должна быть сестра.
— А у Мотьки Нароновича нет, — возразил я.
— Так Мотька разве порядочный мальчик? — ловко отпарировал незнакомец. — Ты гораздо лучше.
Я не остался в долгу:
— У тебя красивая шляпа.
— Ага! Клюнуло!
— Что ты говоришь?
— Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?
— Ну, это, брат, невозможно.
— Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка!
Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.
Но спорт — это святое дело.
— Гоп! — И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.
Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал.
— Ну, здравствуй, отроче. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?
— Откуда ты знаешь?
— По твоим глазам вижу.
Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал:
— А теперь?
Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:
— Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь… Ты во что тут играешь, в саду-то?
— В саду-то? В домик.
— Ну? Вот то ловко! Покажи-ка мне твой домик.
Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня…
«О Господи, — подумал я. — А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено с таким трудом и лишениями: живую черепаху в коробочке, ручку от зонтика в виде собачьей головы, баночку с вареньем, камышовую палку и бумажный складной фонарик?»
— А зачем тебе? — угрюмо спросил я. — Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать.
Он быстро, с некоторым испугом схватил меня за руку.
— Ну, не надо, не надо! Не уходи от меня… Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме.
— Почему?
— Мне без тебя будет скучно.
— Ты, значит, ко мне пришел?
— Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался… Сестра Лиза дома сейчас?
— Дома. А что?
— Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?
— Да… Вот то окно — папина кабинета.
— Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.
— Да я не хочу. Что мы там будем делать?
— Я тебе что-нибудь расскажу…
— Ты загадки умеешь?
— Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.
— Трудные?
— Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?
— Никого. А вот отгадай ты загадку, — предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. — «В одном бочонке два пива — желтое и белое». Что это такое?
— Гм! — задумчиво сказал молодой человек. — Вот так штука! Не яйцо ли это будет?
— Яйцо…
На моем лице он ясно увидел недовольство разочарования: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывали.
— Ну, ничего, — успокоил меня незнакомец. — Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.
— Ну вот, отгадай: «Семьдесят одежек и все без застежек».
Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.
— Шуба?
— Нет-с, не шуба-с!..
— Собака?
— Почему собака? — удивился я его бестолковости. — Где же это у собаки семьдесят одежек?
— Ну, если ее, — смущенно сказал молодой человек, — в семьдесят шкур зашьют.
— Для чего? — безжалостно улыбаясь, допрашивал я.
— Ну, ты, брат, не отгадал!
После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие.
— Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?
— Эх ты! — снисходительно сказал я. — Это кочан капусты.
— А ведь и в самом деле! — восторженно крикнул молодой человек. — Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю: море? Нет, не море… Зонтик? Нет, не похоже. Вот то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?
— В своей комнате.
— Одна?
— Одна. Ну что ж ты… Загадку-то?
— Ага! Загадку? Гм… Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: «Два кольца, два конца, а посредине гвоздик».
Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.
Но внутренняя деликатность подсказывала мне не отгадывать ее сразу.
— Что же это такое?.. — задумчиво промолвил я. — Вешалка?
— Какая ж вешалка, если посредине гвоздик, — вяло возразил он, думая о чем-то другом.
— Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.
— А два конца? Где они?
— Костыли? — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью: — Ножницы!..
— Вот черт возьми! Догадался-таки! Ну и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?
— Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.
— И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?
— Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя…
— Нет, а мужчины-то есть?
— Есть. Один тут к нам ходит.
— Зачем же он ходит?
— Он…
В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.
Я пришел в восхищение.
— Сколько стоят?
— Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?
— Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он — старый. А эти банты — завязываются или так уже куплены?
— Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?
— Согни-ка ногу… Почему они не скрипят? Значит, они не новые, — критически сказал я. — У кучера Матвея были новые, так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.
— Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?
Я вздергнул плечами.
— А то как же! Конечно, хочется.
Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.
— Ты чего?
— Голова болит.
Болезни — была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.
— Ничего… Не с головой жить, а с добрыми людьми.
Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.
— Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?
Я удивился:
— А как же иначе? Как же тут не хотеть! Ты разве не видал никогда свадьбы?
— А что?
— Да ведь, будь я женщиной, я бы каждый день женился: на груди белые цветы, банты, музыка играет, все кричат «ура», на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.
— Так ты полагаешь, — задумчиво произнес незнакомец, — что она именно поэтому хочет за него замуж?
— А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке платок повязан. Подумай-ка! Жду не дождусь, когда эта свадьба начнется.
— Я знал мальчиков, — небрежно сказал незнакомец, — до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать…
Он затронул слабейшую из моих струнок.
— Я тоже могу!
— Ну, что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?
— Ей-богу! Хочешь?
— И по лестнице наверх?
— И по лестнице.
— И до комнаты Лизы?
— Там уже легко. Шагов двадцать.
— Интересно было бы мне на это посмотреть… Толь- кб вдруг ты меня надуешь?.. Как я проверю? Разве вот что… Я тебе дам кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!
— Здорово! — восторженно крикнул я. — Вот увидишь — доскачу. Давай бумажку!
Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.
— Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай — все равно тогда не поверю.
— Учи еще! — презрительно сказал я. — Гляди-ка!
По дороге к комнате сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что, если он нарочно придумал этот спор, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой — эти люди превращаются в бессовестных грабителей.
Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:
— Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему выйду.
— А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И, заметь, все время на левой.
— Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно. Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.
— Ну, подождем, — сказал он. — Кстати, как тебя зовут?
— Илюшей. А тебя?
— Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.
Я ахнул.
— Ты… Пронин? Нищий?
В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпками галоша и за плечами грязная сумка с бесформенным куском сухого хлеба.
— Нищий? — изумился Пронин. — Какой нищий?
— Мама недавно говорила Лизе, что Пронин — нищий.
— Она это говорила? — усмехнулся Пронин. — Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.
— Конечно! — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. — У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?
— Брат? Вообще, брат есть.
— То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?..
Он не успел ответить на этот вопрос… Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры.
Пронин кивнул ей головой и сказал:
— Знавал я одного мальчишку — что это был за пролаза, даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскивать в сирени пятерки, да как! Штук по десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков…
— Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!
— Двадцать?! — воскликнул этот простак, широко раскрыв глаза. — Ну, это, милый мой, что-то невероятное.
— Хочешь, найду?
— Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пятерок… Ну, — с сомнением покачал он головой, — пойди поищи. Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем…
Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в моем потном, грязном кулаке. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:
— Ну! Не двадцать? На-ка, пересчитай!
Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.
— Ну и ловкач же ты, — сказал он изумленно. — Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.
— Большая важность! — презрительно заметил я. — Только идти не хочется.
— Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепив перекладиной за плечи.
— Я тоже смогу, — быстро сказал я. — Хочешь?
— Нет, это невероятно! К самой стене?..
— Подумаешь — трудность!
Решительно, в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронияский, мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом, еще в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход.
Пронинский мальчишка был посрамлен.
— Ну, хорошо, — сказал Пронин. — Ты — удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки…
О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:
— Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!
— Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!
— Хочешь? Вот увидишь!
Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.
Двадцать шесть троек было у меня в руке, несмотря на то что прошло всего четверть часа. Мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет.
Простачок… Хороший простачок! Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие шутки — все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик… Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышовая палочка и сигарная коробочка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем…
Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика. Через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу и матери:
— Простите меня, но я уже вышла замуж.
— За кого?
— За Григория Петровича Пронина.
Это было подло вдвойне: они обманули меня, насмеялись надо мной, как над мальчишкой, да, кроме того, выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет, — все равно никто не обращает внимания.
Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:
— Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?
— Ей-богу, не за этим, — засмеялся он.
— А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?
— Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье, в коробку она положила разные свои мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно…
— Ну, ладно, — сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. — Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку.
— Загадку? Изволь, братец: «Два кольца, два конца, а посредине…»
— Говорил уже! Новую скажи…
Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе.
Ничего другого у него не было… Как так живут люди — не понимаю.
— Неужели больше ты ничего не знаешь?..
И вдруг — нет! Этот человек был решительно не глуп — он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:
— «Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам — вою не оберешься».
Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примиривший с хитроумным шурином. Оказалось: рояль.
СТРАШНЫЙ МАЛЬЧИК
Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.
Широким полем расстилается умилительное детство: безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, большая перемена в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» — или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непроветренного класса — запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы и, наконец, — среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.
Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренка, а я в пугливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.
Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым гнусным образом.
Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.
Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека, или двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.
Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами. Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот — и так далее.
Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.
Вот что это был за человек — Аптекаренок.
Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?
Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам — все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв… Вдруг он поймает меня и изобьет меня вконец — «пустит юшку», по его живописному выражению.
Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились…
Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:
— Ты чего на нашей улице задавался?
Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:
— Я… не задавался.
— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговчц отнял?
— Я не отнял их. Он их проиграл.
— А кто ему по морде дал?
— Так он же не хотел отдавать.
— Мальчиков на нашей улице нельзя бить, — заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:
— А ты… — Это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи. — А ты что? Может, тоже хочешь получить?
— Нет, — пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка. — За что же… Я ничего.
Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.
— Я до тебя давно добираюсь… Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!
«Все знает проклятый мальчишка», — подумал я. И спросил, осмелев:
— А на что они тебе… Ведь это не твои.
— Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана — лучше бы тебе и на свет не родиться.
Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.
Страшно жить на свете маленькому человеку.
Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.
Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.
Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.
А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:
— Братцы! А ну, покажем ему «рака».
В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала — так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».
Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец… И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:
— Рак! Рак!
— Смотри, рак! Черт знает, какой огромадный! Ну и штука же!
— Вот так рачище!.. Гляди, гляди — аршина полтора будет.
Мужичище — какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани, — конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».
А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».
Целый фонтан — нечто вроде смерча — взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.
Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника.
Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты — мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.
Пятнадцати лет отроду мы все начали «страдать».
Это — совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное арго) было:
— Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?
— За Маней Огневой. А ты?
— А я еще ни за кем.
— Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли ча?
— Да мине Катя Капитанаки очень привлекаеть.
— Врешь?
— Накарай мине Господь.
— Ну, значит, ты за ней стрядаешь.
Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.
После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.
Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.
Страшный Юноша Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:
— Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?
— Гуляю… — ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.
— Чиво ж ты гуляешь?
— Да так себе.
Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.
— А ты за кем стрядаешь?
— Да ни за кем.
— Ври!
— Накарай меня Госп…
— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?
И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:
— За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.
— Ну, это можно.
Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.
Помолчав, спросил:
— А ты знаешь, за кем я стрядаю?
— Нет, Аптекаренок, — ласково сказал я.
— Кому Аптекаренок, а тебе дяденька, — полушутливо-полусердито проворчал он. — Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить «я» вместо «а» — был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то…
Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.
— Видал? А так ничего, гуляй. Что ж… всякому стрядать приятно.
Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.
12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.
Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:
— Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?
Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого. Я с недоумением поглядел на него и спросил:
— Вы это мне?
— Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты на нашей улице — узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.
— Аптекарев?!
Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.
Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.
— Милый Аптекаренок? Офицер?
— Да.
— Ранен?
— Да. — И в свою очередь: — Писатель?
— Да.
— Не ранен?
— Нет.
— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?
— Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?
— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.
— Почему?
— Потому что мне самому хотелось воровать.
— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь…
— Да, брат, — усмехнулся он. — И вообразить не можешь.
— А что?
— Да вот, гляди… — И показал из-под одеяла короткий обрубок.
— Где это тебя так?
— Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого… Меньше.
Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых, и промолчал. Бедный Страшный Мальчик!
Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:
— За кем теперь стрядаешь?
И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, — такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.
ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.
День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:
— А теперь ступай на крыльцо — погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, — постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там…
Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю с сдобными сухариками.
Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозревать в этом случае подвох. Она кротко одернула на животе передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу», — и вышла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.
Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда не видела.
Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — «постеречь, не пошел бы дождь», — один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелем, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.
— Здравствуй, девочка, — приветствовал он ее.
— Здравствуй, — робко отвечала Ниночка.
— Ты здесь и живешь?
— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлейн, няня, кухарка и я.
— Ого! Нечего сказать, — покривился мальчик. — А как тебя зовут?
— Меня? Ниночка.
И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчик с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:
Нинка-Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась…
Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:
Нинка-Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась…
Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О Боже, Боже! За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?
Солнце померкло в глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросенок? Она — подавилась грязью? Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.
Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сказано, что «Ниненок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.
Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.
— Пойдем, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов, — а то эта плакса пожалится еще — нам и влетит.
Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька… О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часа просидела она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.
И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних.
О, первая радость и муки творчества!
Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те летучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью. Теперь Колька узнает, как затрогивать ее.
Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом снова вышла на крыльцо.
Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру. Именно — каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутри кольца, не задев пальцев, — счастливый игрок радостно улыбался.
Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру.
Ниночка полюбовалась немного на происходившее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:
— А тебя как зовут?
— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.
— Да ничего, ничего… Ты только скажи: как тебя зовут?
У нее было такое простодушное, наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.
— Ну, Колька, — прохрипел он.
— А-а-а… Колька…
И быстро, скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:
Колька-Коленок,
Серый поросенок,
С горки скатился,
Подавился… грязью…
Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею открытою дверь, а вслед ей донеслось:
— Дура собачья!
Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.
— Няня, дождик не идет.
— Ну и хорошо.
— Что ты делаешь?
— Не мешай мне.
— Можно смотреть?
— Нет, нет уж, пожалуйста. Поди лучше посмотри, что делает Лиза.
— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.
— А потом скажи мне.
— Хорошо…
При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:
— Тебе что надо?
— Няня сказала, чтоб я посмотрела, что ты делаешь.
— Уроки учу. Не видишь, что ли?
— А можно мне около тебя посидеть?.. Я тихо. Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.
— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.
— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.
— Ну, так вот что… Пойди посмотри, где Тузик. Что с ним?
— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.
— Ну вот. Так ты пойди посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.
Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.
— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.
— Нет. Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще, посиди там у него, понимаешь?
— Хорошо…
С видом домовитой хозяйки-хлолотунки спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).
— Папа!
Папы в кабинете нет.
— Папа!
Папы нет в гостиной.
— Папа!
Наконец-то… Папа сидит в комнате фрейлейн, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.
При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:
— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет очей моих?
— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.
— Ага… И хорошо, брат, сделала; потому они, животные эти, без пищи тово… Ну а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.
— Куда, папа?
— Ну… пойди ты вот куда… Пойди ты… гм! Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.
— Да я уж только была у нее. Она уроки учит.
— Вот как… Приятно, приятно.
Он красноречиво глядит на фрейлейн, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:
— Ну… в таком разе… пойди ты к этой самой… пойди ты к няньке и погляди ты… чем там занимается вышесказанная нянька…
— Она что-то шьет там.
— Ага… Да постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?
— Два кусочка.
— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес может быть сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати… Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.
— А если грызет, прийти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.
— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее… Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да, если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь книжка смешная с картинками, то ты ее, значит, тово… посмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?
— Поняла. Посмотрю и расскажу.
— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?
— Хорошо. Завтра.
— Ну, путешествуй.
Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы. — Лиза! Тузик не грызет ножку стола.
— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.
— Куда идти?
— Пойди к папе. Спроси, что он делает?
— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо завтра рассказать.
— Ах ты Господи! Что эта за девочка! Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.
Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усечения пирамид, конусов и треугольников.
— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что?
— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди в кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?
— Нет…
— Ну, пойди посмотри. Потом мне расскажешь.
— Что ж… пойду.
У Ариши гости: соседская горничная и посыльный «красная шапочка».
— Ариша, скоро будешь картошку чистить? .Мне надо смотреть.
— Где там скоро! И через час не буду.
— Ну, я посижу подожду.
— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.
— А чего?
— Ну, там она знает чего.
— Чтоб сейчас дала?
— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!
Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений по горло. И все самые важные, неотложные.
Бедная «неприкаянная» Ниночка!
И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.
— А-а, Ниночка! — бурно встречает ее тетя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка… Ты меня слушаешь?
— Да, тетя. Слушаю.
— Вот что, милая… Ко мне сейчас придет Александр Семенович, ты знаешь его?
— Такой, с усами?
— Вот именно. И ты, Ниночка… (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка… сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе спать пора, ты говори, что не хочешь. Слышишь?
— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?
— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут — и больше никаких. Поняла?
— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.
— Нет, нет, она еще посидит со мной. Правда, Александр Семеныч?
— Да пусть спать идет, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови.
— Нет, нет, я ее не пущу. Я ее так люблю…
И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку…
А когда Александр Семенович, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:
— А теперь ступай спать, детка. Нечего тут рассиживаться. Вредно…
Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная, Ниночка думает про себя в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к Небу, по настоянию няньки, за покойную мать: «А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?»
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ У КИНДЯКОВЫХ
Одиннадцать часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр. Нервный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям.
Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные.
Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.
На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе.
Хорошо жить. Только бы Володька не бил и, вообще, не задевал его. Этот Володька — прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.
Но Володьке — двенадцатилетнему ученику городского училища — не до своего кроткого меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло.
Он давно уже сидит у окна, стекла которого мороз украсил затейливыми узорами, и читает.
Книга — в старом, потрепанном, видавшем виды переплете, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углубленный в чтение Володя нет-нет да и посмотрит со стесненным сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.
Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.
А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы… Их двое: Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и всё о чем-то шепчутся.
Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно — накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной — «церковное» вино, в другой — цветочек, — всё как в первых домах.
Оба сидят у своего стола, поджавши ноги, и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.
И только одна ужасная мысль грызет их сердца: что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив позади себя мрак и разрушение.
— Он читает, — шепчет Карасик.
— Пойди, поцелуй ему руку… Может, тогда не тронет. Пойдешь?
— Сама пойди, — сипит Карасик. — Ты девочта. Буквы «к» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так:
— Тарасит.
Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника. Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв, страшной руке… Целует свежими розовыми губками.
И робко глядит на ужасного человека.
Эта умилостивительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги:
— Ты что, красавица? Весело тебе?
— Весело.
— То-то. А ты вот такие пояса видала?
Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но, чтобы подмазаться к нему, хвалит:
— Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..
— То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.
— Ах, как пахнет!!! Прямо — кожей.
— То-то и оно.
Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает… Обращается к Карасику:
— Поцеловала.
— Не дерется?
— Нет. А там окно такое замерзнутое.
— А Егорта стола не тронет? Пойди и ему поцелуй руту.
— Ну вот еще! Всякому целовать. Чего недоставало!
— А если он на стол наплюнет?
— Пускай, а мы вытирем.
— А если на толбасу наплюнет?
— А мы вытирем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно.
В дверь просовывается голова матери.
— Володенька! К тебе гость пришел, товарищ. Боже, какое волшебное изменение тона!
В будние дни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему — он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки!»
А сегодня мамин голос — как флейта. Вот это праздничек!
Пришел Коля Чебурахин.
Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности.
Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю — Егорке:
— Позвольте представиться — Чебурахин. Очень приятно.
Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина обыкновенно были иные.
Чебурахин обыкновенно ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:
— Ты чего задаешься?
— А что? — в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». — Я ничего.
— Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?
— Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.
— Говори: где я учусь? — мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший, полуоборванный герб на фуражке.
— В городском.
— Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?
Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный, униженный гимназист горько рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный, «как тигр (его собственное сравнение), крадется» дальше.
И вот теперь этот страшный мальчик, еще более страшный, чем Володя, вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, чебурахинские щеки.
Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине это Рождество делает с людьми чудеса!
Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.
— Ну, вот хорошо, что ты пришел. Как поживаешь?
— Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?
— «Дети капитана Гранта». Интересная!
— Дашь почитать?
— Дам. А у тебя не порвут?
— Нет, что ты! (Пауза.) А я вчера одному мальчику по морде дал.
— Ну?
— Ей-богу. Накажи меня Бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, а он ка-ак мне кирпичиной в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!
— После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?
— Обязательно пойдем. Я резину для рогатки купил. (Пауза.) Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?
Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак невозможно… Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.
— Нет, не ел. А наверно, вкусное. (Пауза.) Ты бы хотел быть пиратом?
— Хотел. Мне не стыдно. Все равно пропащий человек…
— Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как другие. Только что грабит.
— Понятно! Зато приключения. (Пауза.) А я одному мальчику тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое? Наябедничал на меня тетке, что курю. (Пауза.) А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.
— Бушмены. Они привязываются к белым.
А в углу бушмен Егорка уже, действительно, привязался к белым:
— Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.
— Пошел, пошел! Я маме скажу.
— Дай конфету, а то плюну.
— Ну и плюй. Не дам.
Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает ее на тарелку. В глазах ее долготерпение и кротость.
Боже, сколько в доме враждебных элементов… Так и приходится жить — при помощи ласки, подкупа и унижения.
— Этот Егорка меня смешит, — шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.
— Он дурат. Тат будто это его тонфеты.
А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Чилибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор пока не уселись за стол.
За столом шумно.
— Ну, кума, и пирог! — кричит Чилибеев. — Всем пирогам пирог.
— Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на грубке пеки.
— А поросенок! — восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность. — Это ж не поросенок, а черт знает что такое.
— Да и подумайте: такой поросенок, что тут и смотреть нечего, — два рубли!! С ума они посходили там, на базаре! Кура — рубль, а к индюшкам приступу нет! И что оно такое будет дальше, прямо неизвестно.
В конце обеда произошел инцидент: жена Чилибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.
Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала. Но по лицу ее было видно, что если бы это было не у нее в доме и был бы не праздник, она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро, как пороховая мина.
Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:
— Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, — и ступай. Расселся, как городская голова! До неба скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!
И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, все созерцательно-восторженное настроение… Блуза украсилась зловещим темным пятном, душа оскорблена, втоптана в грязь в присутствии посторонних лиц, и главное — товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.
Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь.
Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку.
И странная вещь: не будь темного пятна на блузке — все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.
Но теперь, как решил Володя, терять было нечего.
Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников.
— Ты чего задаешься? — грозно спросил Володя одного из них.
— Дай ему, дай, Володька! — шептал сбоку Чебурахин.
— Я не задаюсь, — резонно возразил гимназистик. — А вот ты сейчас макарон получишь.
— Я?
В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.
— Я? Кто вас от меня, несчастных, отнимать будет?
— Сам форсила несчастная!
— Эх! — крикнул Володя (все равно блуза уже не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся…
А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим…
— Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! — хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворенно поглядывая на друга затекшим глазом. — Нет, ты, брат, попробуй два на два… Верно?
— Понятно.
И остатки праздничного настроения сразу исчезли — его сменили обычные, будничные дела и заботы.
Под столом
Пасхальный рассказ
Дети, в общем, выше и чище нас. Крохотная история с еще более крохотным Димкой наглядно, я надеюсь, подтвердит это.
Какая нелегкая понесла этого мальчишку под пасхальный стол — неизвестно, но факт остается фактом: в то время как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный пасхальными яствами и питиями стол, Димка, искусно лавируя между целым лесом огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол, вместе с верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусленным краем сдобной бабы…
Разложил свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдения…
Под столом — хорошо. Прохладно. От свежевымытого пола, еще не зашарканного ногами, веет приятной влагой.
А ног сколько! Димка начал считать, досчитал до пяти и сбился. Нелегкая задача!
Теткины ноги сразу заметны: они в огромных мягких ковровых туфлях — от ревматизма, что ли. Димка поцарапал ногтем крошечного пальчика ковровый цветок на туфле… Нога шевельнулась, Димка испуганно отдернул палец.
Лениво погрыз край потеплевшей от руки сдобной бабы, дал подкрепиться и верблюду, и вдруг — внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.
Нога, обутая в эту элегантную штуку, сначала стояла спокойно, потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в которой стороне добыча…
Димка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюции были две маленьких ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.
Скрещенные ножки спокойно вытянулись и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками. Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки — черной с золотом.
Но все эти замечательные — с точки зрения другого, понимающего человека — вещи совершенно не интересовали бесхитростного Димку.
Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.
Это животное, скрипя и извиваясь, доползло наконец до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом: не дадут ли за это по шее?
Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад.
Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.
Димка отнюдь не считал себя цензором нравов, но ему просто, безотносительно, нравилась голубая туфелька, так прекрасно вышитая серебром; любуясь туфелькой, он не мог допустить, чтоб ее запачкали или ободрали шитье.
Поэтому Димка пустил в ход такую стратегию: подсунул, вместо голубенькой ножки, морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок.
Надо было видеть разнузданную радость этого беспринципного щеголя! Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Он кликнул на помощь своего коллегу, спокойно дремавшего под стулом, и они оба стали так жать и тискать невозмутимое животное, что будь на его месте полненькая голубая ножка — несдобровать бы ей.
Опасаясь за целость своего верного друга, Димка выдернул его из цепких объятий и отложил подальше, а так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой — пришлось, в виде возмездия, плюнуть на носок предприимчивого ботинка.
Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз наконец восвояси, несолоно хлебавши.
С левой стороны кто-то подсунул руку под скатерть и тайком выплеснул рюмку на пол.
Димка лег на живот, подполз к лужице и попробовал: сладковато, но и крепко достаточно. Дал попробовать верблюду. Объяснил ему на ухо:
— Уже там напились, наверху. Уж вниз выливают — понял?
Действительно, наверху все уже приходило к концу. Стулья задвигались, и под столом немного посветлело. Сначала уплыли неуклюжие ковровые ноги тетки, потом дрогнули и стали на каблучки голубые ножки. За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой, лакированные туфли, а там застучали, загомозились американские, желтые — всякие.
Димка доел совсем размокшую сдобу, попил еще из лужицы и принялся укачивать верблюда, прислушиваясь к разговорам.
— Если устали, — слышал он голос матери, — так прилягте тут на диване — никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную.
— Да как-то… этого… Неловко.
— Чего там неловко — ловко.
— Ей-богу, как-то не тово…
— Чего там — не того. Дело праздничное.
— Я говорил — не надо было мешать мадеру с пивом…
— Пустое. Поспите, и ничего. Я вам сейчас с Глашей подушку пришлю.
Топот многочисленных ног затих. Потом послышалось цоканье быстрых каблучков и разговор:
— Вот вам подушка, барыня прислала.
— Ну, давай ее сюда.
— Так вот же она. Я положила.
— Нет, ты подойди сюда. К дивану.
— Зачем же к дивану?
— Я хочу христ… ее… соваться!
— Уже христосовались. Так нахристосовались, что стоять не можете.
Неописуемое удивление послышалось в убежденном голосе гостя:
— Я? Не могу стоять? Чтобы у тебя отец на том свете так не стоял, как… Ну, вот смот… три!..
— Пустите, что вы делаете?! Войдут!
Судя по тону Глаши, она была недовольна тем, что происходило. Димке пришло в голову, что самое лучшее — пугнуть хорошенько предприимчивого гостя.
Он схватил верблюда и брякнул его об пол.
— Видите?! — взвизгнула Глаша и умчалась, как вихрь.
Укладываясь, гость ворчал:
— Аи и дура же! Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели… Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская… Ей-богу, право!.. Взять бы хлыст хороший да так попудрить… Трясогузки!
Димке сделалось страшно: уже стало темнеть, а тут кто-то бормочет под нос непонятное… Лучше уж уйти.
Не успел он подумать этого, как гость, пошатываясь, подошел к столу и сказал, будто советуясь сам с собой:
— Нешто коньячку бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая. Я думаю, это дурачье и не заметит.
Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола что-то ползет. Разглядев, успокоился:
— Тю! Мальчик. Откуда ты, мальчик?
— С-под стола.
— А чего ты там не видел?
— Так, сидел. Отдыхал.
И тут же, вспомнив правила общежития и праздничные традиции, Дима вежливо заметил:
— Христос воскресе.
— Еще чего! Шел бы спать лучше.
Заметив, что его приветствие не имело никакого успеха, Дима, для смягчения, пустил в ход нейтральную фразу, слышанную еще утром:
— Я с мужчинами не христосуюсь.
— Ах, как ты их этим огорчил! Сейчас пойдут и утопятся.
Разговор явно не налаживался.
— Где были у заутрени? — уныло спросил Дима.
— А тебе какое дело?
Самое лучшее для Димы было бы уйти в детскую, но… между столовой и детской были две неосвещенных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор:
— А у нас пасхи сегодня хорошие.
— И нацепи их себе на нос.
— Я не боюсь пойти через комнаты, только там темно.
— А я тоже вот одному мальчишке взял да и голову отрезал.
— Он был плохой? — холодея от ужаса, спросил Димка.
— Такая же дрянь, как и ты, — прошипел гость, с вожделением оглядывая облюбованную на столе бутылку.
Где-то вдали послышался голос мамы.
— Да… такой же был, как и ты… Хорошенький такой, прямо дуся, такая, право, малая козявочка…
Голос мамы удалился и затих.
— Такая козявка, что я бы ее каблуком — хрясь!.. В лепешку дрянь такую. Пошел вон! Иди! Или тут из тебя и дух вон!
Дима проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь:
— А у вас пасхи хорошенькие?
— Чихать мне на пасхи, — я мальчишек ем, таких, как ты. Дай-ка свою лапу, я отгрызу…
И вдруг — голос мамы, совсем близко:
— А куда это мамин сын задевался?
— Мама!! — взвизгнул Димка и зарылся в шуршащую юбку.
— А мы тут с вашим сынком разговорились. Очаровательный мальчик! Такой бойкенький.
— Он вам не мешал спать? Разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько хотите.
— Да зачем же убирать?..
— А к вечеру опять накроем.
Гость уныло опустился на диван и вздохнул, шепнув самому себе под нос:
— Будь ты проклят, анафемский мальчишка! Из-под самого носа увел бутылку.
ТРИ ЖЕЛУДЯ
Нет ничего бескорыстнее детской дружбы… Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.
Фундаментом нашей дружбы — Мотька, Шаша и я — послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге, — «знакомы домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.
У философов и у детей есть одна благородная черта: они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас — веснушчатых и худосочных — красавцем. Ничему этому мы не придавали значения… Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.
Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех — единосущно и нераздельно.
Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги — ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.
У Шашина отца — рыжебородого пьяницы — была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал; так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.
Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:
Рыжий-красный —
Человек опасный…
Я на солнышке лежал…
Кверху бороду держал…
— Сволочи! — грозил снизу кулаком Шашин отец.
— А ну иди сюда, иди, — грозно говорил Мотька. — Сколько вас нужно на одну руку?
И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону — и наоборот. Что там говорить — дело было беспроигрышное.
Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.
А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.
Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении…
С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним — об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.
Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.
И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.
В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..
— Такой, говорят, франт, — горделиво закончил Шаша, — такой франт, что пусти-вырвусь.
Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку — и мы помчались к дому блестящего друга нашего.
Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым долгом потребовали Мотю… Ответ был самый аристократический:
— Мотя не принимает.
— Как не принимает? — удивились мы. — Чего не принимает?
— Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.
Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.
— Может быть, он нездоров?.. — попытался смягчить удар деликатный Шаша.
— Здоров-то он здоров… Только у него, он говорит, нервы не в порядке… У них в конторе перед праздниками было много работы… Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.
Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»…
Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» — совсем как в романах.
— Ты куда? — спросил Шаша.
— В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!)
— А ты?
— А я домой… Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.
Проза не меньшая! Хе-хе.
На другое утро — было солнечное воскресенье — Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».
Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей — и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.
Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.
Ах! Он был, действительно, великолепен… На нас надвигалось что-то сверкающее, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.
Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов — он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравновешивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом…
Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высовывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».
Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:
— Мотька! Вот, брат, здорово!..
— Здравствуйте, здравствуйте, господа, — солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку…
Мы оба стояли.
— Очень рад видеть вас… Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.
— Послушай, Мотька… — начал я с робким восторгом в глазах.
— Прежде всего, дорогие друзья, — внушительно и веско сказал Мотька,— мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кель выражансом»… Хе-хе… Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч — так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровкается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде… Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.
— Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину…
Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.
— Теперь опять стали носить цилиндры? — спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.
— Да, носят, — снисходительно ответил Матвей Семеныч. — Двенадцать рублей.
— Славные брелочки. Подарки?
— Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь — хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.
Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе…
Но наконец он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:
— Вот что, господа… Мы с вами уже не маленькие, и вообще, детство — это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубея рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что… Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара… и… тут, конечно, обижаться нечего — один достиг, другой не достиг… Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, — все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамильярности — я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение — вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте… Я со своей стороны… если могу быть чем-нибудь полезен… Гм! Душевно рад.
В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:
— О-ля-ля! Как я заболтался… Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..
И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.
В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.
Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь — засуха.
И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, — он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, — почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотьку?
А ведь — вспомнишь — как мы были одинаковы, — как три желудя на дубовой ветке, — когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны…
Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки — из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого…
ДУШИСТАЯ ГВОЗДИКА
Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра; я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтоб их черт побрал!
Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка… так-с! Вот вам уже и насморк.
Мимо мелькают прохожие — звери! Они норовят задеть плечом меня, я — их.
Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:
— Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!
Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни женщина, промелькнувшая мимо, — Марианна Скублинская.
А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу.
Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов.
А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок.
И вдруг… сердце мое замирает!
Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком.
О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы, — он сделал меня счастливым.
Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь… ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается робкая надежда: ведь увижу я. еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав.
Три кудрявых гвоздики!
Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех человеков милей всего моему сердцу дети.
Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей, и на одну минуту я отождествил эти три кудрявых головки: темно-красную, снежно-белую и желтую — с тремя иными головками. Может быть, все может быть.
Сижу я сейчас за письменным столом, и что же я делаю? Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь.
Сейчас только поймал себя на этом.
Вспоминаются мне три знакомых девочки… Читатель, наклонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках… Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие, и неподходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках.
А шепотом, на ухо — можно.
Знавал я одну крохотную девочку Ленку.
Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сидели за обеденным столом, — мама чем-то больно обидела девочку.
Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.
— Посмотрим, — шепнул я матери, — что она будет делать?
Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг: она вздумала уйти из родительского дома.
Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы: разостлала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом.
Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с горестно опущенной головой вышла из дому.
Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала большая темная собака.
У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы не закричать. Она только оперлась плечом о скамейку, стоявшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом.
Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая — что предпринять…
Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:
— Ты чего тут стоишь, Леночка?
— Так себе, стою.
— Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не кусается. Иди, куда хотела.
— Я еще сейчас не пойду, — опустив голову, прошептала девочка. — Я еще постою.
— Что же, ты думаешь еще долго тут стоять?
— Я вот еще подожду.
— Да чего ж ждать-то?
— Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собачки, тогда уж пойду…
Из-за забора выглянула и мать.
— Это вы куда собрались, Елена Николаевна? Ленка дернула плечом и отвернулась.
— Недалеко ж ты ушла, — съязвила мать.
Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:
— Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду.
— Чего ж ты будешь ждать?
— Когда мне будет четырнадцать лет.
Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет. Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее — всего на 8 минут.
Но Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут?!
Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших.
Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.
Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете. Курил одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора.
Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него, и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалась.
Наконец собралась с духом. Начала робко, выставив голову из складок плюшевой скатерти, куда она в силу природной деликатности спряталась:
— Данила, а Данила?..
— Отстань, не мешай, — рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу.
И опять томительное молчание… И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг кресла брата.
— Чего ты тут вертишься? Уходи.
Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала:
— Данила, а Данила?
— Ну, что тебе! Ну, говори!!
— Данила, а Данила… Это так надо, чтобы кресло горело?
Умилительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, подожженном рассеянным братом, все еще сомневалась: а вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений?..
О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька:
— До чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно… Укладываю я ее с братом спать, а допрежь того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребятенки!» И что ж вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то. «А ты, — говорю, — что ж не молишься, чего ждешь?» — «А как же, — говорит, — я буду молиться, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слушает… Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят!»
Милая благоуханная гвоздика!
Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.
Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду.
Потому взрослый человек почти сплошь — мерзавец…
КУЛИЧ
— А что, сынок, — спросил меня отец, заложив руки в карманы и покачиваясь на своих длинных ногах. — Не хотел бы ты рубль заработать?
Это было такое замечательное предложение, что у меня дух захватило.
— Рубль? Верно? А за что?
— Пойди сегодня ночью в церковь, посвяти кулич.
Я сразу осел, обмяк и нахмурился.
— Тоже вы скажете: святи кулич! Разве я могу? Я маленький.
— Да ведь не сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит. А ты только снеси и постой около него!
— Не могу, — подумав, сказал я.
— Новость! Почему не можешь?
— Мальчики будут меня бить.
— Подумаешь, какая казанская сирота выискалась, — презрительно скривился отец. — «Мальчики будут его бить». Небось сам их лупцуешь, где только ни попадутся.
Хотя отец был большой умный человек, но в этом деле он ничего не понимал…
Вся суть в том, что существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я. Другие больше и здоровее меня — эти отделывали мою физиономию на обе корки при каждой встрече.
Как во всякой борьбе за существование — сильные пожирали слабых. Иногда я мирился с некоторыми сильными мальчиками, но другие сильные мальчики вымещали на мне эту дружбу, потому что враждовали между собой.
Часто приятели передавали мне грозное предупреждение.
— Вчера я встретил Степку Пангалова, он просил передать, что даст тебе по морде.
— За что? — ужасался я. — Ведь я его не трогал?
— Ты вчера гулял на Приморском бульваре с Косым Захаркой?
— Ну, гулял! Так что ж?
— А Косой Захарка на той неделе два раза бил Пангалова.
— За что?
— За то, что Пангалов сказал, что он берет его на одну руку.
В конце концов от всей этой вереницы хитросплетений и борьбы самолюбий страдал я один.
Гулял я с Косым Захаркой — меня бил Пангалов, заключал перемирие с Пангаловым и отправлялся с ним гулять — меня бил Косой Захарка.
Из этого можно вывести заключение, что дружба моя котировалась на мальчишеском рынке очень высоко, — если из-за меня происходили драки. Только странно было то, что били главным образом меня.
Однако если я не мог справиться с Пангаловым и Захаркой, то мальчишки помельче их должны были испытывать всю тяжесть моего дурного настроения.
И когда по нашей улице пробирался какой-нибудь Сема Фишман, беззаботно насвистывая популярную в нашем городе песенку: «На слободке есть ворожка, Барабанщика жена…», я, как из земли, вырастал и, став к Семе вполоборота, задиристо предлагал:
— Хочешь по морде?
Отрицательный ответ никогда не смущал меня. Сема получал свою порцию и в слезах убегал, а я бодро шагал по своей Ремесленной улице, выискивая новую жертву, пока какой-нибудь Аптекаренок с Цыганской слободки не ловил меня и не бил — по всякой причине: или за то, что я гулял с Косым Захаркой, или за то, что я с ним не гулял (в зависимости от личных отношений между Аптекаренком и Косым Захаркой).
К отцовскому предложению я отнесся так кисло именно потому, что вечер Страстной субботы стягивает со всех улиц и переулков уйму мальчиков к оградам церквей нашего города. И хотя я найду там многих мальчиков, которые хватят от меня по морде, но зато во тьме ночной бродят и другие мальчики, которые, в свою очередь, не прочь припаять блямбу (местное арго!) мне.
А к этому времени как раз у меня испортились отношения почти со всеми: с Кирой Алексомати, с Григулевичем, с Павкой Макопуло и с Рафкой Кефели.
— Так идешь или нет? — переспросил отец. — Я знаю, конечно, что тебе хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь за то — рубль! Поразмысли.
Я это как раз и делал: размышлял.
Куда мне пойти? К Владимирскому собору? Там будет Павка со своей компанией… Ради праздничка изобьют, как еще никогда не били… В Петропавловскую? Там будет Ваня Сазончик, которому я только третьего дня дал по морде на Ремесленной канаве. В Морскую церковь — там слишком фешенебельно. Остается Греческая церковь… Туда я и думал пойти, но без всякого кулича и яиц. Во-первых, там свои — Степка Пангалов с компанией: можно носиться по всей ограде, отправляться на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые тут же, в ограде, торжественно сжигались греческими патриотами… Во-вторых, в Греческой церкви будет Андриенко, которому надлежит получить свою порцию за то, что наговорил матери, будто я воровал помидоры с воза… Перспективы в Греческой церкви чудесные, а узел из кулича, полудесятка яиц и кольца малороссийской колбасы должен был связать меня по рукам и ногам…
Можно было бы поручить кому-нибудь из знакомых постоять около кулича, да какой же дурак согласится в такую чудесную ночь?
— Ну что, решил? — переспросил отец.
«А надую-ка я старика», — подумал я.
— Давайте рубль и пасху вашу несчастную.
За последний эпитет я получил по губам, но в веселой суматохе укладывания в салфетку кулича и яиц это прошло совершенно незамеченным.
Да и не больно было.
Так, немного обидно.
По скрипучему деревянному крыльцу я спустился с узлом в руке во двор, на секунду нырнул под это крыльцо в отверстие, образовавшееся из двух утащенных кем-то досок, вылез обратно с пустыми руками и, как стрела, помчался по темным теплым улицам, сплошь затопленным радостным звоном.
В ограде Греческой церкви меня встретили ревом восторга. Я поздоровался со всей компанией и тут же узнал, что мой враг Андриенко уже прибыл.
Немного поспорили о том, что раньше сделать: сначала «насыпать» Андриенке, а потом идти воровать ящики — или наоборот?
Решили: наворовать ящиков, потом поколотить Андриенку, а потом отправиться опять воровать ящики.
Так и сделали.
Поколоченный мною Андриенко давал клятву в вечной ко мне ненависти, а костер, пожирая нашу добычу, поднимал красные дымные языки почти до самого неба… Веселье разгоралось, и дикий рев одобрения встретил Христу Попандопуло, который явился откуда-то с целой деревянной лестницей на голове.
— Я себе така думаю, — весело кричал он, — сто стоит теперя одна дома, а у нему нету лестницы, что- ба попадити на верхняя этаза.
— Да неужели ты домовую лестницу унес?
— Мне сто такая: домовая не домовая — лис бы горела!
Все весело смеялись, и веселее всех смеялся тот взрослый простак, который, как оказалось потом, вернувшись к себе домой на Четвертую Продольную, не мог попасть во второй этаж, где его с нетерпением ждали жена и дети.
Все это было очень весело, но, когда я, после окончания церемонии, возвращался домой с пустыми руками, сердце мое защемило: весь город будет разговляться свячеными куличами и яйцами, и только наша семья, как басурмане, будет есть простой, несвятой хлеб.
Правда, рассуждал я, я, может быть, в Бога не верую, но вдруг все-таки Бог есть и Он припомнит мне все мои гнусности: Андриенку бил в такую святую ночь, кулича не освятил да еще орал на базаре во все горло не совсем приличные татарские песни, чему уж не было буквально никакого прощения.
Сердце щемило, душа болела, и с каждым шагом к дому эта боль все увеличивалась.
А когда я подошел к отверстию под крыльцом и из этого отверстия выскочила серая собака, что-то на ходу дожевывая, я совсем пал духом и чуть не заплакал.
Вынул свой раздерганный собакой узел, осмотрел: яйца были целы, но зато кусок колбасы был съеден и кулич с одного бока изглодан почти до самой середины.
— Христос воскресе, — сказал я, заискивающе подлезая с поцелуем к щетинистым усам отца.
— Воистину!.. Что это у тебя с куличом?
— Да я по дороге… Есть захотелось — отщипнул. И колбасы… тоже.
— Это уже после свячения, надеюсь? — строго спросил отец.
— Д-да… гораздо… после.
Вся семья уселась вокруг стола и принялась за кулич, а я сидел в стороне и с ужасом думал: «Едят! Несвяченый! Пропала вся семья».
И тут же вознес к Небу наскоро сочиненную молитву: «Отче наш! Прости их всех, не ведают бо, что творят, а накажи лучше меня, только не особенно чтобы крепко… Аминь!»
Спал я плохо — душили кошмары, — а утром, придя в себя, умылся, взял преступно заработанный рубль и отправился под качели.
Мысль о качелях немного ободрила меня — увижу там праздничного Пангалова, Мотьку Колесникова… Будем кататься на перекидных, пить бузу и есть татарские чебуреки по две копейки штука.
Рубль казался богатством, и я, переходя Большую Морскую, с некоторым даже презрением оглядел двух матросов: шли они, пошатываясь, и во все горло распевали популярный в севастопольских морских сферах романс:
Ой, не плачь, Маруся,
Ты будешь моя,
Кончу мореходку —
Женюсь на тебе.
И кончали меланхолически:
Как тебе не стыдно, как тебе не жаль,
Что мине сменила на такую дрянь!
Завывание шарманок, пронзительный писк кларнета, сотрясающие все внутренности удары огромного барабана — все это сразу приятно оглушило меня. На одной стороне кто-то плясал, на другой — грязный клоун в рыжем парике кричал: «Месье, мадам — идите, я вам дам по мордам!» А посредине старый татарин устроил из покатой доски игру, вроде китайского бильярда, и его густой голос изредка прорезывал всю какофонию звуков:
— А второй да бирот, — чем заставлял сильнее зажигаться все спортсменские сердца.
Цыган с большим кувшином красного лимонада, в котором аппетитно плескались тонко нарезанные лимоны, подошел ко мне:
— Панич, лимонада холодная! Две копейки одна стакана…
Было уже жарко.
— А ну, дай, — сказал я, облизав пересохшие губы. — Бери рубль, дай сдачи.
Он взял рубль, приветливо поглядел на меня и вдруг, оглянувшись и заорав на всю площадь: «Абд-рахман! Наконец я тебя, подлеца, нашел!» — ринулся куда-то в сторону и замешался в толпу.
Я подождал пять минут, десять. Цыгана с моим рублем не было… Очевидно, радость встречи с загадочным Абдрахманом совершенно изгнала в его цыганском сердце материальные обязательства перед покупателем.
Я вздохнул и, опустив голову, побрел домой.
А в сердце проснулся кто-то и громко сказал: «Это за то, что ты Бога думал надуть, несвяченым куличом семью накормил!»
И в голове проснулся кто-то другой и утешил: «Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью. За одну вину двух наказаний не бывает».
— Ну и кончено! — облегченно вздохнул я, ухмыляясь. — Расквитался своими боками.
Был я мал и глуп.
ПРОДУВНОЙ МАЛЬЧИШКА
Рождественский рассказ
В нижеследующем рассказе есть все элементы, из которых слагается обычный сентиментальный рождественский рассказ: есть маленький мальчик, есть его мама и есть елочка, но только рассказ-то получается совсем другого сорта… Сентиментальность в нем, как говорится, и не ночевала.
Это — рассказ серьезный, немного угрюмый и отчасти жестокий, — как рождественский мороз на Севере, как жестока сама жизнь.
Первый разговор о елке между Володькой и мамой возник дня за три до Рождества, и возник не преднамеренно, а, скорее, случайно, по дурацкому звуковому совпадению.
Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.
— Масло-то, — проворчала она, — совсем елкое…
— А у меня елка будет? — осведомился Володь-ка, с шумом схлебывая с ложки чай.
— Еще что выдумал! Не будет у тебя елки. Не до жиру — быть бы живу. Сама без перчаток хожу.
— Ловко, — сказал Володька. — У других детей сколько угодно елков, а у меня — будто я и не человек.
— Попробуй сам устроить — тогда и увидишь.
— Ну и устрою. Большая важность. Еще почище твоей будет. Где мой картуз?
— Опять на улицу?! И что это за ребенок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе…
Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.
На улице Володька сразу принял важный, серьезный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.
Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице, — большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.
На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только елка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.
«Интересно бы знать, сколько в нем карат?» — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.
Вообще, нужно сказать, голова Володьки — самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений.
В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.
Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться — ночь коротка», «Была не была — повидаться надо» и «Не до жиру — быть бы живу».
Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две — черт его знает у кого.
Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:
— Бриллианты покупаете?
— Ну и покупаем, а что?
— Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?
— Да это простое стекло, — усмехнувшись, сказал ювелир.
— Все вы так говорите, — солидно возразил Володя.
— Ну вот, поразговаривай тут еще. Проваливай! Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.
— Эх, — кряхтя, нагнулся Володя за развенчанным камнем. — Бедному жениться — ночь коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать. Ну что ж… Не до жиру — быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.
Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики, но как приняться за эту штуку — он совершенно не знал.
Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос:
— Ну, была не была — повидаться надо. Подошел к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито:
— Вам мальчики тут нужны, чтоб играть?
— Пошел, пошел. Не болтайся тут.
Подождав, пока билетер отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.
— Ваш билет, молодой человек, — остановила его билетерша.
— Слушайте, — сказал Володька, — тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье — жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!
— Ну, стану я там твою черную бороду искать — иди сам и ищи!
Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.
Сзади кто-то похлопал по плечу.
Оглянулся Володька: офицер с дамой.
— Эта ложа занята, — холодно заметил Володька.
— Кем?
— Мною. Рази не видите?
Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:
— Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?
— Сидите уж, — разрешил Володька. — Это что у вас? Программка? А ну дайте…
Так сидели трое до конца первой серии.
— Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился. — Бедному жениться — ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?
— Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече.
Володька деловито осведомился:
— Почем платили?
— Пять рублей.
«Продам на вторую серию», — подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу.
Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублевки.
На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом — во что бы лучше вложить свои денежки.
А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе — его осенило.
— Была не была — повидаться надо, — подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе.
— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица.
— Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?
— Нет, не было.
— Ага. Ну, значит, еще не пришла. Я подожду ее.
И уселся за столик.
«Главное, — подумал он, — втереться сюда. Попробуй-ка выгони потом: я такой рев подыму!..»
Он притаился в темном уголку и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны.
Через два столика от него старик дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе.
— Господин, — шепнул Володька, подойдя к нему. — Сколько заплатили за газету?
— Пять рублей.
— Продайте за два. Все равно ведь прочитали.
— А зачем она тебе?
— Продам. Заработаю.
— О-о… Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трешница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?
— Я не нищий, — с достоинством возразил Володька. — Только вот на елку заработаю — и шабаш. Не до жиру — быть бы живу.
Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид.
Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгоряченном Володькином воображении.
Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:
— Интер-ресные новости! «Новая позиция Ллойд Джорджа» — цена пять рублей. «Новая позиция» за пять рублей!!
А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки.
На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.
— Господин, — подошел к нему Володька. — Можно вас что-то спросить?..
— Спрашивай, отроче. Валяй!
— Если полфунта конфет — двадцать семь штук — стоят пятьдесят пять рублей, так сколько стоит штука?
— Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?
— Значит, по пяти рублей выгодно продавать? Ловко! Может, купите?
— Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел.
— Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую… Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.
— Эхма, уговорил! Ну, давай на керенку, что ли.
Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером…
На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами, — и все это имело прежалкий вид.
У основания елки были разложены подарки: чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью:
«Дли Валоди».
А около пары теплых перчаток другая бумажка с еще более корявым предназначением:
«Дли мами»…
Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно, где, в каких сферах витала его хитрая купеческая душонка.
РАЗГОВОР В ШКОЛЕ
Нельзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря. Нет — это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря.
Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженых или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами… Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышиными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла.
Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи, вздохи — то облегчения, то натуги и напряжения — вот чем наполнялась большая полутемная комната.
А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно — вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые, как рука матери, проводящая по головенке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми! Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища — побежать по сонной от зноя улице, выделывая ногами самые неожиданные курбеты.
Но нельзя. Нужно учиться.
Неожиданно среди общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос: «А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?»
Кругликов Капитон — человек смелый и за словом в карман не лезет.
— А зачем мы учимся? — спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу учительницу.
Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.
— Чудак, ей-богу, ты человек, — усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. — Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем.
— А если не учиться?
— Тогда и культуры никакой не будет.
— Это какой еще культуры?
— Ну… так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке…
— Я была, — раздается тонкий писк у самой стены.
Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда?
Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает вообще всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных учеников. Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в бок, шепнул: «Скажи, что была, скажи!»
Она и сказала.
— Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну когда ты была в Нью-Йорке? С кем?
Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действительно — черт ее дернул сказать это, но слово что воробей: вылетит — не поймаешь.
— Была… Ей-богу, была… Позавчера… с папой.
Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели езды.
Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением, погружается в ничтожество.
Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины, и все это — благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет сто — полтораста — не больше!!
— А что было раньше там? — спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.
— Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу разное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади… А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей — убивали друг друга и белых и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества или — широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев?!
Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?
— Вот видите, господа… И разберите сами: что лучше — культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон… Скажи ты: когда, значит, лучше жилось: тогда или теперь?
Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил, как майский жук:
— Догда лучже.
— Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трамваи, подъемные машины… Ну? Когда же лучше — тогда или теперь?
— Догда.
— Ах ты Господи… Ну, вот ты, Полторацкий, — скажи ты: когда было лучше: раньше или теперь?
Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и уверенно сказал:
— Раньше лучше было.
— О Бог мой!! Слизняков Гавриил!
— Лучшее было. Раныпее.
— Прежде всего — не раныпее, а раньше. Да что вы, господа, — затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и электричество…
— А на что дома? — цинично спросил толстый Фитюков.
— Как на что? А где же спать?
— А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет. Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумаешь: дома!
И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она.
— Но ведь электричества нет, темно, страшно… Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу…
— Темно? А костер вам на что? Лесу много — жги сколько влезет. А днем и так себе светло.
— А вдруг зверь подберется.
— Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подберется. Дело известное.
— А индейцы подберутся сзади, схватят часового да на вас…
— С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные…
— Делаварское племя есть, — поддержал кто-то сзади. — Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.
Стриженые головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные, — и голоса затрещали, как сотня воробьев на ветках акации.
— А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздавило… Вот вам и город.
— А у городе мальчик недавно под трамвай попал!
— Да просто у городе у вашем скучно — вот и все, — отрубил Слизняков Гавриил.
— Скверные вы мальчишки — просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей — вот и все.
— А я была, — пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.
— Врет она, — загудели ревнивые голоса. — Что ты все врешь да врешь. Ну, если ты была — почему тебя звери не съели, ну, говори?
— Станут они всякую заваль лопать, — язвительно пробормотал Круг ликов Капитон.
— Кругликов!
— А чего же она… Вы же сами говорили, что врать — грех. Врет, ей-богу, все время.
— Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, меня не поняли… Ну, как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а раньше этого ничего не было.
— Пирожное!!
Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился:
— А плоды разные: финики, бананы — вы не считаете?! И покупать не нужно — ешь, сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть — сами же говорили… сахарный тростник. Убил себе бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.
— Речки там тоже есть, — поддержал сбоку опытный рыболов. — Загни булавку да лови рыбу сколько твоей душеньке угодно.
Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами…
— Просто вы все скверные мальчишки, — пробормотала уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу. — Просто вам нравятся дикие игры, стреляние из ружья — вот и все. Вот мы спросим девочек… Клавдия Кошкина — что ты нам скажешь? Когда лучше было — тогда или теперь?
Ответ был ударом грома при ясном небе.
— Тогда, — качнув огрызком косички, сказала веснушчатая бледнолицая Кошкина.
— Ну почему? Ну, скажи ты мне — почему, почему?..
— Травка тогда была… я люблю… Цветы были.
И обернулась к Кругликову — признанному специалисту по дикой, первобытной жизни:
— Цветы-то были?
— Сколько влезет было цветов, — оживился специалист, — огромадные были — тропические. Здоровенные, пахнут тебе — рви сколько влезет.
— А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит.
Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии:
— Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет… Катя! Когда было лучше?
— Тогда.
— Почему?!!
— Бизончики были, — нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую головенку набок.
— Какие бизончики?.. Да ты их когда-нибудь видела?
— Скажи — видела! — шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.
— Я их не видела, — призналась простодушная Катя Иваненко. — А только они, наверное, хорошенькие…
И, совсем закрыв глаза, простонала:
— Бизончики такие… Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала…
Кругликов — специалист по дикой жизни — дипломатично промолчал насчет неосуществимости такого буколического намерения сентиментальной Иваненко, а учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом:
— Ну хорошо же! Если вы такие — не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит — пусть тут сидит хоть до вечера.
И снова наступила тишина.
И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской…
Сидела, маленькая, до сумерек.
ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ
«Небось теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым — тогда небось заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились… Но лучше нет! Пусть смерть… Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба Божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете — всего восемь годочков!»
План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.
Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.
Подумал: «Пусть убивают!»
Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.
— Пожалуйста, не притворяйся, — сердито сказала мать.— Убирайся отсюда!
Она схватила его за руку и, несмотря на то что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.
Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям…
Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так, что он находит на улице деньги… сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом… Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь — леопард или пантера… Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала… А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподымаются и — трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок, по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери… Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья — чтобы она не была косая. Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь…
Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп… Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» — «Да уж поздно!» — подумает его труп и совсем, навсегда умрет…
Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния…
Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника не подходяща, улегся на ковре. Были сумерки, от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушённые двойными рамами далекие крики с улицы:
— Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли… Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!
«Кричат… — подумал Мишка. — Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».
Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: «Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так никто не умирает… Умирают от болезней».
Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.
«Вот оно, — подумал Мишка, — чахотка. Ну и пусть! И пусть. Все равно».
В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок, и глаза закрыты.
Поза была найдена.
Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать…
Но ему помешали.
Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.
— Только на одну минутку, — говорила тетя Ася, входя. — А потом я вас сейчас же выгоню.
— Настасья Петровна! Десять минут… Мы так с вами редко видимся, и то все на людях… Я с ума схожу.
Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..
— Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич, — совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. — Не понимаю, почему вам сходить с ума?
— Ах, Настасья Петровна… Вы жестокая, злая женщина.
«Ого! — подумал Мишка. — Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал — она б тебе показала».
— Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.
— Не находите? А мучить, терзать человека — это вы находите?
«Как она там его терзает?»
Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов — этих необходимых спутников терзания.
Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы — ничего подобного. Никого не терзали… Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.
«Вот уронишь еще баночку — она тебе задаст», — злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.
— Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?
— Чем? И вы не догадываетесь?
Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.
«Вот то здорово! — подумал Мишка. — Надо бы потом попробовать».
О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове… Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть — еще почище теткиного верчения будет.
К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес:
— И вы не догадываетесь?!
— Нет, — сказала тетя, кладя зеркальце на колени.
— Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!
«Вот оно… Уже начал с ума сходить, — подумал со страхом Мишка. — На колени стал. С чего, спрашивается?»
— Я день и ночь о вас думаю… Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же… А вы… А ты? Любишь меня?
«Вот еще, — поморщился за ширмой Мишка, — на «ты» говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»
— Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть…
«Что-о такое?! — изумленно подумал Мишка. — Что он такое собирается делать?»
— Ну, скажи — любишь? Одно слово… Да?
— Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками.
— Одного меня?— навязчиво сказал офицер, беря ее руки. — Одного меня? Больше никого?
Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам.
«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же… Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями — он ее отбреет».
— А теперь уходите, — сказала тетя, вставая. — Мы и так тут засиделись. Неловко.
— Настя!— сказал офицер, прикладывая руки к груди. — Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.
Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицеpa нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. «Настя! — говорит мужественный офицер. — Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью…» Тетя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач, по Мишкиному шаблону, в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.
Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.
— Ах, — сказала тетя, — мне так стыдно… Неужели я когда-нибудь буду вашей женой…
— О, — сказал офицер. — Это такое счастье! Подумай — мы женаты, у нас дети…
«Гм… — подумал Мишка, — дети… Странно, что у тети до сих пор детей не было».
Его удивило, что он до сих пор не замечал этого… У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей.
«Наверно, — подумал Мишка, — без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».
— Иди, иди, милый.
— Иду. О радость моя! Один только поцелуй!..
— Нет, нет, ни за что…
— Только один! И я уйду.
— Нет, нет! Ради Бога…
«Чего там ломаться, — подумал Мишка. — Поцеловалась бы уж. Будто трудно… Сестренку Труську целый день ведь лижет».
— Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!
Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.
Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: «Вы чего тут делаете?!»
Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.
Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.
«Ложки звякают, чай пьют… Небось меня не позовут. Хоть с голоду подыхай…»
— Миша! — раздался голос матери. — Мишутка! Где ты? Иди пить чай.
Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери. «Сейчас будет извиняться», — подумал он.
— Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?
«Эх, — подумал добросердечный Миша. — Ну и бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает».
Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал:
— Мама, поцелуй-ка меня!
— Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.
Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами:
«Что тут особенного? Не понимаю… Полжизни… Прямо — умора!»
КОСТЯ
Все прочие дети не любили его, маленького, хрупкого, с прозрачным личиком и причудливо растрепавшимися каштанового цвета кудрями.
Не любили. Почему?
Может быть, по той же самой причине, по которой взрослые не любят взрослых, подобных ему, светлоглазому задумчивому Косте.
Та и другая сторона меняет только возраст. А нелюбовь остается прежняя.
У детей нелюбовь к Косте общая, дружная. Стоит только приблизиться ему к пестрой, разноцветной группе мальчишек и девчонок, как со всех сторон поднимается согласный щебет и писк:
— Пошел! Пошел вон! Убирайся! Мы не хотим!
Постояв немного, он вздыхал и пробовал начать нерешительно и мягко:
— А у нас вчера во дворе дворник копал яму для дерева и наткнулся лопатой на что-то твердое. Посмотрели, а там кости, череп и большая железная шкатулка… Открыли ее, а в ней…
— Убирайся! Проваливай, не надо! Вот еще, ей-богу, лезет тут…
Снова он покорно вздыхал и отходил в сторону. Садился на нагретую солнцем скамью сквера и погружался в задумчивость.
Какой-нибудь досужий господин, сидящий подле и тронутый его задумчиво-меланхолическим видом, опускал тяжелую руку на его хрупкое, как скорлупа яйца, темя и общительно спрашивал:
— Как тебя зовут, мальчик?
— Джим…
— А, вот как! Ты разве не русский?
— Нет, англичанин, сэр.
— Вот оно что!.. А почему же ты так хорошо говоришь по-русски?
— Мы бежали из Лондона с отцом, когда я был совсем маленьким.
— Бежали? Что ты говоришь! С какой радости вам нужно было бежать?
Задумчивые глаза ребенка поднимались к небу и с минуту следили за плывущим на неизмеримой высоте облаком.
— О, это тяжелая история, сэр. Дело в том, что мой отец убил человека.
Господин испуганно вздрагивал и чуть-чуть, так на полвершка, отодвигался от задумчивого мальчика, говорящего простым, ровным тоном столь ужасные вещи.
— Убил человека? За что?
— Вы знаете, что такое Сити, сэр?
— Черт его знает! Ну?!
— В Сити был банк, да и сейчас он есть, так называемый «Голландский Соединенный». Мой отец сначала служил там клерком, а потом, благодаря своей честности, сделался кассиром. И вот однажды ночью, когда он пришел привести в порядок немного запутанные счета, он увидел фигуру, крадущуюся по коридору по направлению к кладовым, в которых хранилось золото. Отец спрятался и.стал следить… И кто же, вы думаете, это оказался? Директор банка! Он вошел в кладовую, набил портфель золотом и банковыми билетами и только вышмыгнул из кладовой как отец схватил его за горло. Отец понимал, что если тот уйдет, то, конечно, вся вина за произошедшее падет на отца… Отчаяние придало ему силу. Произошла борьба, и отец задушил негодяя!.. В ту же ночь он пробрался домой, захватил меня, мы переплыли в какой-то скорлупе Темзу и бежали в Россию.
— Бедная твоя головушка, — сочувственно говорил господин, трепля малютку по плечу. — А где же твоя мать?
— Сгорела, сэр.
— Как сгорела?!
— Однажды лондонские мальчишки облили керосином на улице большую крысу и подожгли ее. В это время мимо шла за покупками моя мать. Горящая крыса в ужасе бросилась матери под пальто, и через минуту моя мать представляла собой пылающий факел…
Ребенок, печально свесив голову, умолкал, а сердобольный господин чуть не рыдал над этим несчастным сиротой, на которого, казалось, был опрокинут целый ящик Пандоры…
— Бедный крошка… Ну, пойдем, я тебя отведу домой, а то и с тобой случится что-нибудь нехорошее.
Джим тихо усмехался.
— О нет, сэр. Со мной ничего не случится. Вы видите этот талисман? Он от всего предохраняет.
Малютка вынимал из кармана деревянную свистульку и доверчиво показывал ее своему спутнику.
— Что же это за талисман?
— Мне его дала одна старая татарка в Крыму. Мы, я помню, стояли с ней на высоком обрыве у самого моря. И что же: только что она мне его передала, как сейчас же оступилась, из-под ног ее выскользнул камень, и она полетела с громадной высоты в море.
— Чудеса! Прямо-таки чудеса. Так ты вот здесь и живешь? Ну, прощай, Джим, будь счастлив, милый мальчик.
Джим бодро взбежал по лестнице, а господин долго провожал задумчивым взглядом удивительного ребенка…
Так долго стоял он, что швейцариха с подтыканной юбкой подходила к нему и спрашивала:
— Вы к кому?
— Я не к кому… Скажите, кто этот мальчик, который взбежал сейчас по лестнице?
— Это сынишка Черепицыных, Костя. А что, разве?
— Как?! Разве он не англичанин?
— С какой это радости? Простой себе мальчишка. Нешто опять наврал чего-нибудь?.. И сколько это его мать не муштрует, все без толку…
— У него разве есть мать? Она жива?
— Чего ей сделается. Живехонька. Только вгонит он ее в гроб своей брехней, помяните мое слово. И что это за врущий такой мальчишка, даже удивительно!.. По всей улице его уж знают за такого, накажи меня Бог.
На продолжительный Костин звонок дверь открывала горничная Ульяша.
— Где это вы, Костенька, шатались до сих пор?
— На улице задержался. Там нашего дворника Степана автомобилем переехало, так я смотрел. Погляди, у меня сзади - башмак не в крови?..
— Как переехало?! Степана?! Совсем?
— Да. Дело в том, что лошади взбесились и понесли какую-то красивую барыню, а Степан бросился, схватил их под уздцы…
— Ну что вы, Костенька, врете: то лошадь, то автомобиль… Вечно какую-нибудь юрунду размажете.
— Нет, не ерунду. Эта графиня сказала, что, если его вылечат, она выйдет за него замуж.
— Ладно вам. Врите больше. Обед уже совсем застыл. Мама уехала, а старая барыня ждет вас.
Покачиваясь на тонких ногах. Костя делал таинственное лицо и шел в столовую.
— Ты чего опаздываешь? — обрушивалась на него бабушка. — Где носило?
— Да я уж час назад был у самых наших дверей, да пришлось повернуть обратно. Очень интересная история.
— Что там еще?
— Понимаете, только что я подхожу к нашим дверям, смотрю: двое каких-то стоят, возятся над замочной скважиной. Один говорит другому: «Воск крепкий, оттиск не выходит», а тот, что пониже, отвечает: «Нажми сильнее, выйдет».
— Костечка! — со стоном всплескивает руками бабушка. — Да ведь ты врешь? Опять врешь?!
— Ну, хорошо, ну, пусть вру, — саркастически усмехается Костя. — А вот когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, как вру. Мне что: мое дело — сказать…
Бабушка мечется в безысходном отчаянии:
— Костечка, да ведь ты врешь! Ведь по глазам вижу, что сейчас только выдумал?
— Выдумал? — медленно говорит Костя таким тоном, от которого делается жутко. — А если я вам этот кусок воска покажу… тогда тоже выдумал?
— Как же он к тебе попал?
— Очень просто: они сели на извозчика, я прицепился сзади, а когда мы приехали на окраину города, я пробежал мимо низенького, будто нечаянно толкнул его и в это время вынул из кармана оттиск. Вот он!..
Из кармана извлекается та же деревянная свистулька и издали показывается подслеповатой бабушке.
Сердце бабушки терзает сомнение: конечно, врет, а вдруг — правда?.. Бывают же такие случаи, что делают оттиски с замочных скважин, забираются и убивают… Еще вчера она читала о таком случае… Надо на всякий случай сказать Ульяше, чтобы закрывала ночью дверь на цепочку.
— Позови ко мне Ульяшу!
Костя послушно мчится в переднюю и испуганно кричит Ульяше, разговаривающей с кем-то по телефону:
— Ульяша?! Опять забыла завернуть на кухне кран от водопровода! Полная кухня воды, уже все вещи в окно плывут…
Телефонная трубка со стуком ударяется об стенку, Ульяша, опрокидывая все на своем пути, мчится на кухню.
Через минуту тяжелая сцена:
— Костенька!! Вы опять соврали? Опять выдумка? Вот, ей-богу, нынче же расчет возьму, не могу больше служить…
— Мне показалось, что вода течет, — робко оправдывается Костя, глядя на разъяренную девушку молящими глазами. — Мне шум воды слышался…
Бог его знает, этого кроткого, безобидного ребенка. Может быть, ему действительно показалось, что два господина, мирно закурившие на их площадке папиросу, на самом деле пытались снять восковые слепки с замков.
Вечером Костя сидел у письменного стола в кабинете отца и широко открытыми, немигающими глазами глядел на быстро мелькавшие среди бумаг отцовские руки.
— Ты где был нынче, Костя? — спросил отец.
— В сквере.
— Что там видел хорошенького?
— Видел маму Лидочки Прягиной.
— Что ты, чудачина! Ведь Лидочкина мама умерла.
— Вот это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из-за кустов вдруг такое серое облако… Ближе, ближе — смотрю — Лидочкина мама. Печальная такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке, положила руку ей на голову, погрозила мне пальцем и тихонько ушла.
— Та-а-а-к-с, — протянул отец, глядя на сына смеющимися глазами. — Бывает.
— Что это у тебя за бумага? — осведомился Костя, заглядывая через плечо отца. — Пистолет нарисован.
— Это? Это, брат, счет из оружейного магазина. Я револьвер покупал для нашего банка.
— Револь… вер?
— Да, нашему артельщику, который возит деньги.
— Револьвер?
Широко открытыми, немигающими глазами глядел Костя в улыбающееся лицо отца. Его мысли уже где-то далеко. А по лицу мимолетными, неуловимыми тенями скользили какие-то легкие, еле намеченные, как паутина, мысли.
Он вздрогнул, вскочил с места и поспешно неслышными шагами выскользнул из кабинета. Как вихрь промчался через две комнаты и как вихрь, с растрепанными кудрями влетел в комнату мирно работающей за столом матери.
— Мама! С папой нехорошо!!
— Что такое? Что?
— Я вхожу к нему, а он лежит у стола в кабинете на ковре и около него револьвер валяется… На лбу пятнышко, а в комнате пахнет как-то странно…
Дикий страшный крик ответом ему.
— Ну что я с ним буду делать? — плачет мать, глядя почти с ненавистью на Костю, испуганного, робко, как птичка в непогоду, прижавшегося к могучему плечу отца. — Ведь этот мальчишка своей ложью, своими выдумками может целый дом с ума свести. Горничная его ненавидит, а дети его гонят от себя, как паршивую собачонку. Прямо какой-то жуткий ребенок. Ну, ты себе можешь представить, что с ним будет, когда он вырастет!!
— К сожалению, представляю, — вполголоса говорит отец, прижимая к плечу каштановую растрепанную голову неудачливого своего сына. — Вырастет он, и так же его будут гнать все от себя, не понимать и смеяться над ним.
— Да что ж он будет делать, когда вырастет?!
— Милая, — скорбно говорит отец, качая седеющей головой. — Он будет поэтом.
НЯНЬКА
Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.
Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить, — Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».
Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи… Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».
Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.
Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты.
И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.
Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.
В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.
Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:
Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине…
Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.
Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:
— Чии это ноги?
Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал в свою очередь рассматривать девочку.
— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.
— Это твои… ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.
— Мои.
— А что ты тут делаешь?
— Кадрель танцую, — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.
— А чего же ты сидишь?
Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:
— Не просижу места. Отдохну да и пойду.
— Устал?— сочувственно сказала девочка, подходя ближе.
— Здорово устал. Аж чертям тошно. Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку:
— Позвольте представиться: Вера.
Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:
— Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.
— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха. — Ишь ты, стерва какая.
Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.
«Что с нее толку! — скептически думал Саматоха. — Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».
— Смотри, какая у нее в боке дырка, — показала Вера.
— Кто же это ее пришил? — спросил Саматоха на своем родном языке.
— Не пришил, а сшил, — поправила Вера. — Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.
— Эх ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу.
Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.
Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:
— Кто это?
— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе.
— Ну?! А нянька?
— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.
— К какому приказчику?
— Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!
— Любовник, что ли?
— Нет, приказчик. Слушай.
— Ну?
— А как тебя зовут?
— Михайлой, — ответил Саматоха крайне неохотно.
— А меня Вера.
«Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Саматоха, смягчаясь. — Эй ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?
— А ну покажи! — взвизгнула восторженно девочка.
— Ну, ладно. Дай-кось руку. Ну вот, видишь — ладошка. Во! Видишь, вон загибинка? Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.
— А ну-ка! Ни за что не угадаешь.
Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает руку девочки.
— Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?
— Вер-р-р-но! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге. — А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница?
— Эх ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требовается.
— Да мама сказала: в шесть часов приедет. Ты подождешь?
— Там видно будет.
Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окончательно, самыми крепкими узами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.
— Давайте еще играть. Ты прячь куклу, а я ее буду искать. Ладно?
— Нет, — возразил рассудительный Саматоха. — Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идет?
План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишный гость, и она будет его угощать!
— Ну, пойдем, пойдем, пойдем!
— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?
— Нет, нет, не бойся вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!
Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.
Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:
— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены.
А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные».
— Да ведь котлет нет, — возразил практический Миша.
— Да это не надо. Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!
— Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?
Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.
— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.
— Ну что ж делать — тащи. А попить-то нечего?
— Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты небось и пить-то не будешь. Водка.
— Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману.
Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его:
— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.
Она помолчала, выжидая реплики.
— Ну?
— Что ну?
— Что ж ты не говоришь?
— А что я буду говорить?
— Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».
В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:
— Благодарю вас… пирог знаменитый!
— Нет: замечательный!
— Ну да. Замечательный.
— Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится.
— Благодарю вас, водка замечательная.
— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.
— Благодарю вас, курица замечательная, — прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.
— В этом году лето жаркое, — заметила хозяйка.
— Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью.
— Нельзя так, — строго сказала девочка. — Я сама должна предложить… Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку… Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.
Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.
— Ну, достаточно, — сказал он. — Сыт.
— Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.
— Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.
— Миша, Миша! — горестно воскликнула девочка, с укоризной глядя на своего друга. — Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»
— Ну, ладно, ладно… Увольте, много благодарен. Дай-ка папироску.
Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.
— Вот эти сигары я покупал в Берлине, — сказала она басом. — Крепковатые, да я других не курю.
— Мерси вам, — сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.
Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:
— Миша! Знаешь, во что давай играть?
— Во что?
— В разбойников.
Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.
— Как же мы будем играть?
— Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.
— Какую Марфушку?
— Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.
— Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.
— Какой пассажир?
— Ну… этот вот… которого грабят. Он не должен сначала прятаться.
— Да ты ничего не понимаешь! — вскричала хозяйка. — Я должна спрятаться.
Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.
— Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?..
— Зачем?
— А чтоб я мог у тебя отнять.
— Так это можно нарочно… будто отнимаешь.
— Нет, я так не хочу, — решительно отказался капризный Саматоха.
— Ах ты Господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.
— Сережек нет ли? — ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.
Игра была превеселая.
Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:
— Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?
Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами:
— Можно и без ножа. Нарочно ж…
— Нет, я тебе лучше принесу из столовой.
— Только серебряный! — крикнул ей вдогонку Саматоха.
Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:
— А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.
— Что ты, Миша! — возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы. — Почему же меня в тюрьму? Ведь ты разбойник — тебя и надо в тюрьму.
Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:
— Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.
— Это другое дело. Ванная — будто б башня… Хорошо?
Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.
— Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?
— Это, брат, моя ложка.
— Нет, это наша. Видишь, вон вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?
— Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.
— Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.
— Экая фартовая девчонка, — умилился Саматоха. — Все-то она знает. Ну, давай свои лапки!
Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чье-то летнее пальто, неторопливо вышел.
По улице шагал с самым рассеянным видом.
Прошло несколько дней.
Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.
Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.
Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки — длинноволосое, розовощекое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.
Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка на глазах изумленных детей и нянек.
Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.
Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.
Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.
— Ловко, — сказал он. — Поди-кось догони. Потом вынул замасленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.
— Эко, черт! Когда нужно, так и нет, — озабоченно проворчал он.
Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.
Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то.
Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.
На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.
Читать можно было так:
«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства. Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся — засыпался бы я. А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить… бинокли у капельдинеров… сию куклу, мною для тебя найденную на улице… Можешь не благодарить… Артисты среди акта на аплодисменты не выходят… Уважаемого тобой Мишу С. А ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ…»
— Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой… не уйдешь!.. Собачье мясо!..
Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:
— Свяжись только с бабой — вечно в какую-нибудь историю вляпаешься.
ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
Меня часто спрашивают:
— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?
— Боюсь, — робко шепчу я.
— Вот чудак… Чего ж вы боитесь?
— Я писатель. И потому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.
— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь.
— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь — слышишь:
Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши…
Подлинно черноземная Россия!
— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?
— Тому есть примеры, — печально улыбнулся я.
— А именно?..
Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю.
О русском писателе
Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу.
Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:
— Прощай, моя бедная, истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась из глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мной Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне — моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!
Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала.
Прошел год.
У русского писателя была уже квартирка на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ор-динэр»1.
Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра», сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.
— Что ты хочешь делать? — спросила жена.
— Хочу рассказ написать.
— О чем?
— О России.
— О че-ем?!
— Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О Рос-сии!!!
— Calmez-vous, je vous en prie!2 Что же ты можешь писать о России?
— Мало ли что. Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге… Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской»…
— Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?
— А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности Невскую улицу. Итак, «…высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к «Медведю».
_________________
1Дежурное блюдо (фр.).
2Успокойся, пожалуйста! (фр.)
«Что, холодно, monsieur?» — спросил метрдотель, подавая карточку. «Maisoui, — возразил молодой сей господин. — Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм».
— Послушай, — робко перебила жена, — разве есть такое слово «замерзавец»?
— Ну да! Человек, который быстро замерзает, суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, — сказал тот молодой господин. — Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais1 и одну рюмку рабиновку».
— Что такое рабиновка?
— Это такое… du водка.
— А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича.
— Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!
И принялся грызть перо. Грыз до утра.
И еще год пронесся над писателем и его женой.
Писатель пополнел, округлел, завел свой auto2, вообще та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его — «се селебр рюсс»3.
Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни». Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России…
«О, нотр повр Рюси!4 — печально думал он. — Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».
___________________________
1Свежей рыбы (фр.).
2Автомобиль (фр.).
3Этого знаменитого русского (фр.).
4О, наша бедная Россия! (фр.)
Пришел. Сел. Написал.
«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен1. Один молодой господин ходил по одна улица по имени сен улица Кре-щатик… Ему очень хотелось manger2. Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garcon, une tasse3 Рабинович и одна застегайчик avec тарелошка с ухами».
Я кончил.
Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.
Оборванный господии в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:
— А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цигарки?
— Да, — ухмыльнулся мой собеседник, — трудно вам уехать из русского города.
________________
1Настоящая петербургская (фр.).
2Есть (фр.).
3Человек, рюмку (фр.).
Из книги «Дюжина ножей в спину революции»
ФОКУС ВЕЛИКОГО КИНО
Отдохнем от жизни.
Помечтаем. Хотите?
Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколько наросло — вековая пыль, благородная, — а теперь слушайте…
Однажды в кинематографе я видел удивительную картину.
Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно сухой — и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.
Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения папироса делалась все больше и больше и наконец стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся — и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить… Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.
Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.
Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..
Повернул ручку назад — и пошло-поехало…
Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу…
Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.
В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами… Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!
Крути, Митька, живей!
Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали — и укатила вся компания задним ходом в Германию.
А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора, — вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».
Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!
Быстро промелькнула Февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.
Крути, Митька, крути!
Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.
Жизнь все дешевле и дешевле… На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.
А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..
Митька, крути, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно Четвертая дума, Третья, Вторая, Первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.
Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.
А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!
Почему незнакомые люди целуются, черт возьми! Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России…
Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!
Митька, замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..
Пусть замрет. Пусть застынет.
— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?
— Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях… С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?
Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.
Отчего же вы не пьете ваш херес? Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?
ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГОМ
— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…
— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.
— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.
— Тебе-то? Лет восемь, что ли?
— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.
— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?
— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.
— Господи Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?
— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.
— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют?
— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?
— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.
По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:
— Знаешь, меня ночью комар как укусит за ногу.
— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.
— Знаешь, ты ужасно комичный.
— Еще бы. На том стоим.
На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.
Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:
— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..
Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:
— Чего, чего?
Она повторила.
Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:
— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.
— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:
Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки точно вакса.
Волосы как швабра,
Чешет их не храбро…
— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.
— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?
— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.
— Что ж с ней такое?
— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые вещества тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом, — коммунистический рай.
— Бедный ты мой ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.
— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?
— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.
— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?
— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.
— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.
С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.
— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.
— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.
Ба-бах!
— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули. Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:
— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.
— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!
— Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.
А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:
— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!
По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.
Пройдут по ней, примнут ее.
Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.
«ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.
— Чем же весело?
— Ощущение веселое.
— Да чем же веселое?
— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.
Это — разговор на «Чертовом колесе»…
Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге луна-парк.
Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной: в луна-парке я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.
Вообще, луна-парк — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело…
Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «Веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, — тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «Веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «Веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок… А из «Веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «Таинственный замок»… Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и заушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам Михаилы Арцыбашева. Вот что такое луна-парк — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека и — широкое, необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.
Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь, и — ой как много разительно схожего в ней с луна-парком — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий…
Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, — ведь это же «Веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, Церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!
И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.
А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много, — и вот летит с полки разбитая Церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только знай посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:
— Аи, ловкий! Ну и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..
Горяч русский дурак — ох как горяч… Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой Церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он — центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.
А кто это там поехал вниз в «Веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.
А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая? А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».
А этот «Таинственный замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных леденящих душу своим видом чудовищ — не «чрезвычайка» ли это — самое яркое порождение Третьего Интернационала, — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..
Но самое замечательное, самое одуряюще схожее — это «Чертово колесо»!
Вот вам Февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось… Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:
— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков! Садись, не бойся. Тут весело.
— Чем же весело?
— Ощущение веселое… А вот как закружит да как начнет всех швырять к барьеру… Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, — тогда удержишься… И ты, Гучков, садись — не бойся… Славно закрутим… Ну… все сели? Давай ход! Поехала!
Поехала.
Несколько оборотов «Чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, — Павел Милюков.
Взззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах — и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.
А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева… Отталкивает его Скобелев, но — поздно… Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.
— А! — радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керенского. — Дэржись крепче, как я. Самые левые и самые правые летят, а мы — центр — удэржимся…
Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе — эк их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей погибельный» Кавказ порасшвыривало.
Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре, — кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению… Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан, — уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но… для «Чертова колеса» достаточно и этого!..
Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар «Чертова колеса», вверх тормашками. Не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.
Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «Чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар «Чертова колеса» — Троцкий:
— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!
Взззз!..
А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.
Ах, поймать бы!
НОВАЯ РУССКАЯ СКАЗКА
Матери!
Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.
Пора наконец открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!.. Вот как было дело.
Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке
У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.
Состояние его умственных способностей видно из того, что, когда у него родилась и подросла дочь, он подарил ей красную шапочку.
Почему именно красную?
Именно потому, что дурак красному рад.
И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:
— Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.
— Я, конечно, пойду, — отвечает Красная Шапочка. — Но только чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.
Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.
Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:
— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка я их тово… Да ты не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.
— А что же я бабушке-то скажу?
— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.
Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:
— Принесла?
— Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!
Только облизнулась бедная старуха.
А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.
— Отпусти ты его, буржуя, — советует Красная Шапочка. — Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.
Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:
— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?
— А что я бабушке скажу? Подмигнул мальчик, хихикнул.
— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?
— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.
— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Аида!
Пошли и «пришили» старушку.
Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.
А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.
Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.
Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.
«Ловко сработано», — с горечью подумал Серый Волк.
Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:
— Отчего у тебя такой язык длинный?
— Чтобы на митингах орать.
— Отчего у тебя такой носик большой?
— При чем тут национальность?
— Отчего у тебя большие ручки?
— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!
— Отчего у тебя такие ножки большие?
— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убегать?!
— Ну, нет, брат! — вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и вообще навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.
Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.
В новой сказке — к черту охотника.
Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить…
ХЛЕБУШКО
У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.
Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.
Худая деревенская баба в стоптанных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.
Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс…
— Тебе чего, убогая?
— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?
— Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!
— Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лапотках. — Сподобилась видеть.
— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.
— Россия я, благодетель, Расеюшка. Мне бы тут, за колонкой, постоять да хоть одним глазком поглядеть: каки таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет да обратит свое такое внимание.
Швейцар подумал и хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:
— «Наш не любит оборванной черни»… А впрочем, стой — мне что.
По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.
Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.
Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.
— Вишь ты, — тихо заметила она швейцару. — Это, верно, самый главный!
— Какое! — пренебрежительно махнул- рукой швейцар. — Внимания не стоит. Румын.
— А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь — ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..
И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания… Даже зависти не было в этом робком сердце.
Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:
— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?
— Разве не узнали? Россия это.
— Ох уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется… По-моему, это шокинг.
— Да… Воображаю, что у нее там в узле… Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.
— Как вы говорите?.. Хлеб?
— Да. А что ж еще?
— Вы… уверены, что там у нее хлеб?
— Я думаю.
— Гм… да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!
И англичанин поспешно зашагал к выходу.
Вернулся через пять минут, оживленный:
— Итак… На чем мы остановились?
— Коллега, у вас на подбородке крошки…
— Гм… Откуда бы это? А вот мы их платочком.
Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару:
— Ну, слава Богу… Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.
И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.
РУССКИЙ В ЕВРОПАХ
Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был…
Разговор шел благодушный, послеобеденный.
— Вы, кажется, англичанин? — спросил француз высокого бритого господина. — Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.
— После вас, — с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. — Французы в минувшую войну делали чудеса… В груди француза сердце льва.
— Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности…
— Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», — скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.
В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:
— Замечательный вы народ, венгерцы!
— Чем? — искренно удивился венгерец.
— Ну, как же… Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезаться венгерским — самое святое дело.
— И вы, греки, хорошие.
— Да что вы говорите?! Чем?
— Ну… вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.
А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно-печально молчал.
Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:
— Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему — одна из лучших наций в мире!
— Нет, не турок.
— А кто же, осмелюсь спросить?
— Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?
— Чрезвычайно интересно узнать.
— Русский я!!
Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!
Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных, взаимно борющихся между собою ощущений.
— Русский? Да что вы говорите? Настоящий?
— Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.
— Бедняга!
— Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?
— Смотрите, вон русский сидит.
— Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?
— Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?
— Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили… как бы он его не тово!
Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково, с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, схватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.
— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.
— Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?
— Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?
— А что такое взятка? Напиток такой или танец?
— Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России… А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?
— А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?
— Скажите, совнарком и совнархоз — опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?
— А вот я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока…
— Горит!! — крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.
— Что горит? Где? Боже мой… А мы-то сидим…
— Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской? Всем давай бокалы. Эхма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»…
Сгущались темно-синие сумерки.
Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку Поммерисек, а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:
— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там… «Мон ами да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните1? Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор… доррогую Россию губить, а? А венгерец… тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать… а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько… Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую… «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»
И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, — долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном… И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:
— Господин… Тут счет.
— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.
_________________
1 Братство (фр. fraternite).
ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ
Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить…
У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появлялся в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.
Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.
Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне зоологического сада.
Наконец первым раскачивается сенатор:
— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.
— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. — Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.
— А помните наши петербургские закаты…
— Ну!!
— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне…
— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста…
— А кусочек канала, где Спас на Крови…
— А тяжелая арка в конце Морской, где часы…
— Не говорите!
— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?
— Не говорите!
Оба старика поникают головами… Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад…
— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?
— Да уж Лапицкий был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?
— А второй акт «Кармен»?
— А оркестр в «Мариинке»? Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели, — Господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?
— Ах, Направник, Направник!..
Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет…
Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:
— С утра только я и успел взять из таможни семь ящиков лимонов и двенадцать — спичек. Понимаешь?
— А Амбарцун?
— Амбарцуна мануфактурой завалили.
— А Вилли Ферреро в Дворянском собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала…
— А что с какао?
— Амбарцуна какаом завалили.
— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу — это игры Гофмана…
— А помните, как Никиш…
Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.
— Вчера с меня за отбивную котлету спросили восемь тысяч…
— А помните «Медведя»?
— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.
— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане… Да!!! Слушайте — а расстегаи?!
— Ах, Судаков, Судаков!..
— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя пятьдесят рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку Мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой Шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой Поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с Джинжером… Имеешь десять целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярос-лавец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское восемь целковых, водка с закуской два целковых… А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь…
— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..
— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает… Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»… Ах, Зуппе! Ах, Оффенбах!..
Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами… На каком языке разговор?..
— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету скорей»… А джонсовская «Гейша»?.. «Глупо, наивно попала в сети я»…
— Ну!.. А луна-парк!
— А Айседора!
— А премьеры в Троицком или в Литейном!
— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..
— А аттракционы в Вилла Роде?..
— А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе…
— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?!
— Да! С романом Брешки внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся «Боливаром», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Миркови- чу»! Слова-то все какие подобраны, хе-хе…
— А «Сатирикон» по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом…
— А премьеры андреевских пьес… Какое волнующее чувство!
— А когда художественники приезжали…
И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:
— Чем им мешало все это…
Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.
— Возьмите билеты, господа…
— Мы… это… нам не надо. Почем билеты?
— По пятьсот…
— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?!
Пятьсот?..
— Помилуйте, у нас музыка…
— Пойдем, Алексей Валерьяныч… Понурившись, уходят.
У выхода приостанавливаются.
— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки… Музыка тоже играла…
— А Канавка у Дворца! «Уж полночь, а Герман - на все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза…
— За что они Россию так?..
Исторические нравоучительные рассказы
Как Дидона построила Карфаген
Когда встречаются мошенник и дурак, то ясно: в этой комбинации всегда проиграет дурак. Сестра жестокого тирского царя Пигмалиона, спасаясь от его преследований, пришла со своими приближенными в Африку. Осмотревшись и познакомившись с жителями, она уговорила их пойти на такую сделку:
— Я вам плачу вот эти небольшие деньги за то, чтобы вы мне продали земли столько, сколько охватит воловья шкура.
Африканцы почесали затылки и сказали друг другу:
— Видно, дура баба. Земли у нас сколько угодно — пусть берет этот клочок. Не обеднеем, чай.
— Ну, как же?— торопила Дидона.
— Идет! По рукам.
— По рукам так по рукам, — пробормотала Дидона.
Непосредственно затем разрезала воловью шкуру на тонкие ремни и охватила себе такой кусок земли, который можно было охватить воловьим ремнем.
Снова почесались африканцы — да уж поздно было.
Отсюда и пошло выражение: «Народ мы темный». Как известно — африканцы черные.
Так и возник Карфаген.
Вот, милые дети: если будете совершать земельные сделки, то имейте в кармане воловью шкуру. Если же этот прием не пройдет, то можно смошенничать как-нибудь иначе.
Преступная лень
Мидийский царь Астиаг покушал на ночь поросенка с хреном, и ему приснилось, будто из живота его дочери выросло развесистое дерево, которое тенью своею покрыло всю Азию.
Спрошенные по этому поводу маги объяснили:
— Дело ясное: Кир родится.
Понятно, что Астиаг испугался своего будущего тенистого развесистого родственника… Призвал вельможу Гарпага и сказал ему:
— Голубчик Гарпаг… Там у дочери родился Кир, так ты его тово… Ну, да мне тебя не учить… Понял?
— Ухлопать прикажете?
— Натурально.
Гарпаг откланялся, но по лени передал это поручение пастуху; тот тоже был не из прилежных: попросил жену. А жена, конечно, раскисла и, вместо того чтобы распорядиться с ребенком по-царски, — спрятала его.
Так и вырос Кир.
Дети! Никогда не поручайте другим тех дел, которые возложены на вас.
О, Солон, Солон, Солон!
Персидский царь Кир победил лидийского царя Креза — богатого, действительно, как Крез.
Когда Креза взяли в плен, Кир благосклонно сказал:
— Нынче что-то холодно. Пленник наш мерзнет. Подогрейте его на костре.
Когда Креза взвалили на костер, он поднял глаза к небу и заплакал, как дитя:
— О, Солон, Солон, Солон!
— Солоно тебе приходится? — осведомился понимавший по-лидийски Кир.
— Не то, коллега, — отвечал Крез. — А я просто вспомнил греческого мудреца Солона, перед которым я однажды расхвастался своими богатствами. «Правда, — спросил я, — что меня можно назвать самым счастливым человеком?» — «Ну, нет, — сказал Солон, — прежде своей кончины никто не может назвать себя счастливым».
— Ишь ты, — удивился Кир и приказал стащить Креза с костра.
Эта история, дети, должна научить вас искать беседы с мудрецами, а не с дураками, которые всегда могут, как говорится, подвести под монастырь…
Перстень Поликрата, или Как ни вертись, от судьбы не уйдешь
Жил-был тиран Поликрат. Ему так везло, что все удивлялись.
Чтобы смягчить зависть богов, Поликрат решил подвергнуть себя какому-нибудь лишению: он выехал в открытое море и бросил в воду свой самый дорогой перстень. Дальше все пошло как по маслу: рыбак поймал большую рыбу, подарил (и тут повезло!) ее Поликрату, Поликрат зажарил ее, и когда стал есть, то чуть не сломал зуб (все-таки не сломал; и тут повезло!)… Почему же, спрашивается, он чуть не сломал зуб? Да очень просто: в рыбе был брошенный им в воду перстень (самый редкий случай везения)…
Нужно ли добавлять, что вскоре после этого Поликрат был пойман персидским сатрапом и повешен, со всем уважением, которое было его сану свойственно.
Вот тебе и перстень. Вот тебе и везение.
С тех пор цена на рыбу так поднялась, что нынче фунт осетрины меньше чем за три рубля не купишь.
Жаль только, что рыба совершенно перестала питаться перстнями.
Об искусном поэте
Афинский поэт Фроних написал трагедию «Взятие Милета». Во время ее представления зрители не могли удержаться от рыданий, и поэт был осужден заплатить пеню в 1000 драхм за такое живое напоминание этого печального события.
О дети! Как мы были бы счастливы, если бы и сейчас тоже применялся этот закон по отношению к авторам военных пьес и рассказов.
Пусть бы лучше денежки их плакали, а не читатели.
Высеченное море
Царь Ксеркс хотел перейти со своим войском море, но поднялась буря и уничтожила наведенные им мосты.
Тогда Ксеркс приказал высечь море плетьми.
За этот бесчеловеческий поступок современники прозвали его Кретином.
Дети! Если на вашем пути встретится непроходимое море — не поступайте с ним по-ксерксовски. Лучше напейтесь вина — тогда море будет вам по колено, и вы легко перейдете его.
Что может быть хорошего в бочке
Как известно, Диоген жил в бочке, почему многие доверчивые люди и считали его мудрецом.
Мы с этим не согласны. Например:
Однажды его посетил (?) Александр Македонский. Диоген, по обыкновению, как дурак, сидел в своей бочке.
— Диоген, — сказал Александр. — Хочешь, я окажу тебе какую-нибудь милость?
— Хочу, — грубо отвечал Диоген.
— Какую?
— Отойди, ты закрываешь мне солнце.
Остроумно ли это, дети? Ничуть. Человек высокопоставленный обращается к тебе как к порядочному, хочет сделать тебе что-нибудь приятное, а ты? Как ты ему отвечаешь? Где тебя учили таким ответам? Мудрец ты? Водовоз ты, а не мудрец.
За свои грубые ответы Диоген, как известно, и ходил всегда с фонарями…
Дети! Будьте благопристойны.
Где у человека должны быть камни
Оратор Демосфен, в юности заика, начал свою ораторскую деятельность тем, чем многие современные ораторы начинают, продолжают и кончают: его освистали.
Но он не смутился этим: набил себе рот камнями и произнес такую громовую речь против Филиппа, что эту речь удивленные современники назвали филиппикой.
Очень жаль, что современные ораторы не похожи на Демосфена: у них не камни, а каша во рту.
Камни же они обыкновенно держат за пазухой и бросают их безо всякого толку в чужой огород.
Благородный жест Александра Македонского
Александр Македонский и все его войско залезли однажды в такую глушь, где не было совсем воды. Однако какой-то расторопный воин нашел небольшую лужицу, зачерпнул шлемом воды и принес ее Александру.
Александр заглянул в шлем и сказал:
— Как я буду пить воду в то время, когда мое войско изнывает от жажды.
И вылил воду на землю.
Поступок, конечно, красивый, но вот, дети, его объяснение: перед тем как пить, Александр заглянул в шлем — и что же он увидел там? Немного жидкой кашицы из мусора и грязи, в которой плавала дохлая крыса.
Дети, какой поступок он совершил?
1. Гигиенический.
2. Красивый.
3. Исторический.
Дети! Помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет.
Жарение Муция а lа Сцевола
Молодой римский человек Муций Сцевола пробрался во вражеский этрусский лагерь с целью ухлопать царя Порсену. Но по близорукости или по чему другому убил постороннего, совершенно незаинтересованного человека.
Когда его поймали, Порсена сказал:
— Я сожгу тебя живым.
Тогда Муций положил руку на огонь, пылавший в жаровне, и сказал:
— Начихать мне на твои угрозы. Видишь — сам могу жариться сколько угодно.
Историк говорит, что, изумленный таким героизмом, Порсена помиловал Муция Сцеволу и поспешил (?) заключить мир.
Дети! Встречали ли вы более практичного молодого человека, чем Сцевола?
Он сразу сообразил, что пусть лучше сгорит одна рука, чем весь он — с руками, с ногами и головой, если его начнут жечь палачи Порсены.
А если бы даже его трюк с рукой и не произвел впечатления, то чем он рисковал? Так или иначе — сожгут целиком… А если царь, восхитясь таким поступком, помилует, то руку потом можно залечить: сделать компресс из картофельной муки или помазать обожженное место чернилами. Тоже помогает.
Дети! Будьте практичны, и вы никогда ни в огне не сгорите, ни в воде не потонете.
Зря не топай
Римский военачальник Помпеи вздумал воевать с непослушным воле римского сената Юлием Цезарем.
Войск у Помпея не было, но он не смущался этим.
Часто говорил своим друзьям:
— Лишь топну ногой, и из земли появятся легионы.
В это время Цезарь перешел Рубикон и обрушился на беззаботного Помпея.
Помпеи вздумал топнуть ногой, чтобы из-под земли явились легионы.
Топнул раз, топнул два — никто из земли не вылез. Ни одна собака.
Топал он, топал, пока не пришлось ему сломя голову топать от Цезаря куда глаза глядят.
И чем же кончилось это топанье? Убили его в Египте (куда человека занесло!), и конец.
Помните, милые дети, что исторические фразы говорить легко, а исполнять обещанное трудно. Так что — зря не топайте.
НАДЕЖДА ТЭФФИ
1872-1952
ВЫСЛУЖИЛСЯ
У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки, с торчащими вверх концами платка.
Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.
Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего.
Предполагалось, что Лешка моет в передней барынины калоши. Но, как известно, — человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка, с тряпкой в руках, подслушивал за дверью.
— Я с самого начала поняла, что он растяпа, — пела сдобным голосом кухарка. — Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому — Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала — в печке не помешал и с головешкой закрыл.
Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:
— Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал…
— Не иначе как домой отослать.
— Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!
Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.
— Так ведь выть-то еще рано, — снова поет кухарка. — Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила… А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку! Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку…
— Ну, дай ему Бог…
— А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно…
— Аи Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа — на мальчишку ябеду пущать…
— Истинно, истинно! Давечь говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», — ласково так, по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты швейцар. Да барыниными духами духариться, так это ты все швейцар…
— Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пито, не…
— Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду…
Трррр… затрещал электрический звонок.
— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка. — Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.
Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.
«Нет, дудки, — думал Лешка, — в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский!»
И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.
— Будь, грит, на глазах. А на каких глазах я буду, когда никого никогда дома нет.
Он прошел в переднюю. Эге! пальто висит — жилец дома.
Он кинулся в кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.
Жилец сидел не один. С ним была молодая дама, в жакетке и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.
«Я парень не дурак, — думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. — Я те глаза намозолю. Я те не дармоед — я все при деле, все при деле!..»
Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.
— Вот, — сказал он с упреком, — наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.
Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.
— Ладно, ладно, иди уж, — смущенно успокаивал тот.
И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.
Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.
«Ишь уставились, — подумал Лешка, — должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака. Я все понимаю. Я, как лошадь, работаю!»
И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.
— Ты чего? — испугался тот.
— Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар… Дворника на лестнице…
— Пошел вон! Идиот!
Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.
— Поймет… — расслышал Лешка, — прислуга… сплетни…
У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:
— Ничего, ничего, мальчик… Вы можете не затворять двери, когда пойдете…
Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.
Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл ее.
Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.
«Чудак, — думал Лешка, уходя, — в комнате светло, а он пугается!»
Лешка прошел в переднюю, посмотрел в зеркало, померил жильцову шапку. Потом пришел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.
Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкап запирает.
Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.
Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:
«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».
Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом.
Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.
Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.
Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая…
«Кошка! — сообразил он. — Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»
Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.
— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..
На жильце лица не было.
— Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он. — Кого ты ругаешь?
— Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, — старался Лешка. — Ее в комнаты пускать нельзя! От нее только скандал!..
Дама дрожащими руками поправила съехавшую на затылок шляпку.
— Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, — испуганно и смущенно шептала она.
— Брысь, проклятая! — И Лешка наконец к всеобщему успокоению выволок кошку из-под дивана.
— Господи, — взмолился жилец, — да уйдешь ли ты отсюда, наконец?
— Ишь, проклятая, царапается! Ее нельзя в комнатах держать. Она вчерась в гостиной под портьерой…
И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.
Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.
— Я парень смышленый, — шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. — Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать.
На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит…
«Что он там делает? — удивился Лешка. — Словно пуговицу на ейном башмаке жует. Не… видно — обронил что-нибудь. Пойду поищу…»
Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.
Дама вскочила, вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками:
— Ничего там нету.
— Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.
— Я думал, обронили что-нибудь… Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит… Третьего дня, как уходила, — я, грит, Леша, брошку потеряла, — обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. — Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка, — вот и брошке, стало быть, конец…
— Так это правда?! — странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. — Так это правда! Правда!
— Ей-богу, правда, — успокаивал ее Лешка. — Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я, как лошадь, все убираю… ей-богу, как собака…
Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.
Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:
— Завтра косому черту крышка.
— Ну-у! — радостно удивилась та. — Рази что говорили?
— Уж коли я говорю, стало, знаю.
На другой день Лешку выгнали.
ДАРОВОЙ КОНЬ
Николай Иваныч Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.
Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.
Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.
«Куда я ее дену? — думал он. — Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».
Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег.
— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут, — скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм… приращение семейства.
Начальство согласилось. Деньги выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.
— Чудесный у вас конь, Николай Иваныч, — сказал соседний лавочник. — Беспременно у вас этого коня сведут.
Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю. Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча:
— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!
Уткин смутился:
— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверить опасно.
Уткин нанял парня и перестал завтракать.
Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:
— Не свели еще лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.
А начальство продолжало интересоваться:
— Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?
— Она еще не объезжена. Очень дикая.
— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, — говорит, — от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?
Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.
Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».
Но гордился перед всеми по-прежнему:
— Не понимаю, как может человек, при известном достатке конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!
Перестал покупать сахар.
Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.
Слышал все это соседский лавочник и неодобрительно качал головой.
— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!
— А какие?
— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.
Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.
— Я, — говорит, — такой аппарат поставлю, что, как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.
Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.
Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.
— Ска-тина! — крикнул Уткин. — Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.
Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.
Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.
Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.
«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку. — Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»
Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.
Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.
— Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губер- наторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.
Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?
— А все!
— А лошадь… цела? — почти в ужасе крикнул Уткин.
— А что ей делается.
— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!
— А ей-богу, барин! Вы не пужайтесь, конек ваш целехонек. Усе сено пожрал, теперь овса домогается.
У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой написал записку: «Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».
ЭКЗАМЕН
На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься.
Открыла книгу, развернула карту и — сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков — ровно ничего.
А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась.
Индийское море славилось тайфуном, Вязьма — пряниками, Пампасы — лесами, Льяносы — степями, Венеция — каналами, Китай — уважением к предкам.
Все славилось!
Хорошая славушка дома сидит, а худая по свету бежит — и даже Пинские болота славились лихорадками.
Подзубрить названия Маничка еще, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.
— Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!
И написала на полях карты: «Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай!»
Три раза.
Потом загадала: напишу двенадцать раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен.
Написала двенадцать раз, но, уже дописывая последнее слово, сама себя уличила:
— Ага! Рада, что до конца написала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать.
Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала:
— Воображаешь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше…
Перо трещит и кляксит.
Маничка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят, ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы.
В три часа ночи, исписав две тетради и клякспа-пир, она уснула над столом.
Тупая и сонная, она вошла в класс.
Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением.
— У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса! — говорила первая ученица, закатывая глаза.
На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз.
Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее.
— Маня Куксина! — закричали они. — Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует: лодочкой — это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками…
Но Маничка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо:
— Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.
Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром.
— Госпожа Куксина! Пожалуйте сюда. Маничка взяла билет и прочла. «Климат Германии. Природа Америки. Города Северной Америки»…
— Пожалуйста, госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?
Маничка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: «За что мучаешь животных?» — и, задыхаясь, пролепетала:
— Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия, чем южнее, тем севернее…
Учитель приподнял бровь и внимательно посмотрел на Маничкин рот.
— Так-с!
Подумал и прибавил:
— Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?
Маничка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила:
— Америка славится пампасами.
Учитель молчал, и Маничка, выждав минуту, прибавила чуть слышно:
— А пампасы льяносами.
Учитель вздохнул шумно, точно проснулся, и сказал с чувством:
— Садитесь, госпожа Куксина.
Следующий экзамен был по истории. Классная дама предупредила строго:
— Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!
Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку.
Зато на другой день — последний перед экзаменами — пролежала на диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.
Вечером села за Иловайского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай…»
Усмехнулась горько и сказала:
— Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтораста, другое дело было бы!
В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Маничка говорила сама с собой на два тона. Один тон стонал:
— Не могу больше! Ух, не могу!
Другой ехидничал:
— Ага! Не можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен выдерживать — так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч раз! Нечего! Нечего!
Испуганная тетка прогнала Маничку спать.
— Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься — ничего завтра ответить не сообразишь.
В классе старая картина.
Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель.
Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: «Господи, дай».
Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!
— Госпожа Куксина Мария! Нет, не успела!
Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.
— Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?
Что-то забрезжило з усталой Маничкиной голове:
— Жизнь Анны Иоанновны была чревата… Анна Иоанновны чревата… Войны Анны Иоанновны были чреваты…
Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:
— Последствия у Анны Иоанновны были чреватые…
И замолчала.
Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу. Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: «За что мучаешь животных?»
— Не расскажите ли теперь, госпожа Куксина, — вкрадчиво спросил учитель, — почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?
Маничка чувствовала, что это последний вопрос, влекущий огромные, самые «чреватые последствия». Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно.
— Ну-с? — торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ. — Почему же ее прозвали Орлеанской?
Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:
— Потому что была девица.
АРАБСКИЕ СКАЗКИ
Осень — время грибное.
Весна — зубное.
Осенью ходят в лес за грибами.
Весною — к дантисту за зубами.
Почему это так — не знаю, но это верно.
То есть не знаю о зубах, о грибах-то знаю. Но почему каждую весну вы встречаете подвязанные щеки у лиц, совершенно к этому виду не подходящих: у извозчиков, у офицеров, у кафешантанных певиц, у трамвайных кондукторов, у борцов-атлетов, у беговых лошадей, у теноров и у грудных младенцев?
Не потому ли, что, как метко выразился поэт, «выставляется первая рама» и отовсюду дует?
Во всяком случае, это не такой пустяк, как кажется, и недавно я убедилась, какое сильное впечатление оставляет в человеке это зубное время и как остро переживается само воспоминание о нем.
Зашла я как-то к добрым старым знакомым на огонек. Застала всю семью за столом, очевидно, только что позавтракали. (Употребила здесь выражение «огонек», потому что давно поняла, что это значит — просто, без приглашения, «на огонек» можно зайти и в десять часов утра, и ночью, когда все лампы погашены.)
Все были в сборе. Мать, замужняя дочь, сын с женой, дочь-девица, влюбленный студент, внучкина бонна, гимназист и дачный знакомый.
Никогда не видала я это спокойное буржуазное семейство в таком странном состоянии. Глаза у всех горели в каком-то болезненном возбуждении, лица пошли пятнами.
Я сразу поняла, что тут что-то случилось. Иначе почему все были в сборе, почему сын с женой, обыкновенно приезжавшие только на минутку, сидят и волнуются.
Верно, какой-нибудь семейный скандал, и я не стала расспрашивать.
Меня усадили, наскоро плеснули чаю, и все глаза устремились на хозяйского сына.
— Ну-с, я продолжаю, — сказал он.
Из-за двери выглянуло коричневое лицо с пушистой бородавкой: это старая нянька слушала тоже.
— Ну, так вот, наложил он щипцы второй раз. Болища адская! Я реву, как белуга, ногами дрыгаю, а он тянет. Словом, все, как следует. Наконец, понимаете, вырвал…
— После тебя я расскажу, — вдруг перебивает барышня.
— И я хотел бы… Несколько слов, — говорит влюбленный студент.
— Подождите, нельзя же всем сразу, — останавливает мать.
Сын с достоинством выждал минуту и продолжал:
— Вырвал, взглянул на зуб, расшаркался и говорит: «Pardon, это опять не тот!» И лезет снова в рот за третьим зубом! Нет, вы подумайте! Я говорю: «Милостивый государь! Если вы»…
— Господи помилуй! — охает нянька за дверью. — Им только дай волю…
— А мне дантист говорит: «Чего вы боитесь? — сорвался вдруг дачный знакомый. — Есть чего бояться? Я как раз перед вами удалил одному пациенту все сорок восемь зубов!» Но я не растерялся и говорю: «Извините, почему же так много? Это, верно, был не пациент, а корова!» Ха-ха!
— И у коров не бывает, — сунулся гимназист. — Корова млекопитающая. Теперь я расскажу. В нашем классе…
— Шш! Шш! — зашипели кругом. — Не перебивай. Твоя очередь потом.
— Он обиделся, — продолжал рассказчик, — а я теперь так думаю, что он удалил пациенту десять зубов, а пациент ему самому удалил остальные!.. Ха-ха!
— Теперь я! — закричал гимназист. — Почему же я непременно позже всех?
— Это прямо бандит зубного дела! — торжествовал дачный знакомый, довольный своим рассказом.
— А я в прошлом году спросила у дантиста, долго ли его пломба продержится, — заволновалась барышня, — а он говорит: «Лет пять, да нам ведь и не нужно, чтобы зубы нас переживали». Я говорю: «Неужели же я через пять лет умру?» Удивилась ужасно. А он надулся: «Этот вопрос не имеет прямого отношения к моей специальности».
— Им только волю дай! — раззадоривала нянька за дверью.
Входит горничная, собирает посуду, но уйти не может. Останавливается как завороженная с подносом в руках. Краснеет и бледнеет. Видно, что и ей много есть чего порассказать, да не смеет.
— Один мой приятель вырвал себе зуб. Ужасно было больно! — рассказал влюбленный студент.
— Нашли, что рассказывать! — так и подпрыгнул гимназист. — Очень, подумаешь, интересно! Теперь я! У нас в кла…
— Мой брат хотел рвать зуб, — начала бонна. — Ему советуют, что напротив, по лестнице, живет дантист. Он пошел, позвонил. Господин дантист сам ему двери открыл. Он видит, что господин очень симпатичный, так что даже не страшно зубы рвать. Говорит господину: «Пожалуйста, прошу вас, вырвите мне зуб». Тот говорит: «Что ж, я бы с удовольствием, да только мне нечем. А очень болит?» Брат говорит: «Очень болит; рвите прямо щипцами». — «Ну, разве что щипцами». Пошел, поискал, принес какие-то щипцы, большие. Брат рот открыл, а щипцы не влезают. Брат и рассердился: «Какой же вы, — говорит, — дантист, когда у вас даже инструментов нет?» А тот так удивился. «Да я, — говорит, — вовсе и не дантист! Я — инженер». — «Так как же вы лезете зуб рвать, если вы инженер?» — «Да я, — говорит, — и не лезу. Вы сами ко мне пришли. Я думал — вы знаете, что я инженер, и просто по-человечески просите помощи. А я добрый, ну и…»
— А мне фершал рвал, — вдруг вдохновенно воскликнула нянька. — Этакий был подлец! Ухватил щипцом да в одну минуту и вырвал. Я и дыхнуть не успела. «Подавай, — говорит, — старуха, полтинник». Один раз повернул — и полтинник. «Ловко, — говорю. — Я и дыхнуть не успела!» А он мне в ответ: «Что ж вы, — говорит, — хотите, чтоб я за ваш полтинник четыре часа вас по полу за зуб волочил? Жадны вы, — говорит, — все, и довольно стыдно!»
— Ей-богу, правда! — вдруг взвизгнула горничная, нашедшая, что переход от няньки к ней не слишком для господ оскорбителен. — Ей-богу, все это — сущая правда. Живодеры они! Брат мой пошел зуб рвать, а дохтур ему говорит: «У тебя на этом зубе четыре корня, все переплелись и к глазу приросли. За этот зуб я меньше трех рублей взять не могу». А где нам три рубля платить? Мы люди бедные! Вот брат подумал да и говорит: «Денег таких у меня при себе нету, а вытяни ты мне этого зуба сегодня на полтора рубля. Через месяц расчет от хозяина получу, тогда до конца дотянешь». Так ведь нет! Не согласился. Все ему сразу подавай!
— Скандал! — вдруг спохватился, взглянув на часы, дачный знакомый. — Три часа! Я на службу опоздал!
— Три? Боже мой, а нам в Царское! — вскочили сын с женой.
— Ах! Я Бебичку не накормила! — засуетилась дочка.
И все разошлись, разгоряченные, приятно усталые.
Но я шла домой очень недовольная. Дело в том, что мне самой очень хотелось рассказать одну зубную историйку. Да мне и не предложили.
«Сидят, — думаю, — своим тесным, сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, все равно, но все-таки я — гостья. Неделикатно с их стороны».
Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать…
Дело было в глухом провинциальном городишке, где о дантистах и помину не было. У меня болел зуб, и направили меня к частному врачу, который, по слухам, кое-что в зубах понимал.
Пришла. Врач был унылый, вислоухий и такой худой, что видно его было только в профиль.
— Зуб? Это ужасно! Ну, покажите!
Я показала.
— Неужели болит? Как странно! Такой прекрасный зуб! Так, значит, болит? Ну, это ужасно! Такой зуб! Прямо удивительный!
Он деловым шагом подошел к столу, разыскал какую-то длинную булавку — верно, от жениной шляпки.
— Откройте ротик!
Он быстро нагнулся и ткнул меня булавкой в язык. Затем тщательно вытер булавку и осмотрел ее, как ценный инструмент, который может еще не раз пригодиться, так чтобы не попортился.
— Извините, мадам, это все, что я могу для вас сделать.
Я молча смотрела на него и сама чувствовала, какие у меня стали круглые глаза. Он уныло повел бровями.
— Я, извините, не специалист! Делаю, что могу!..
Вот я и рассказала!
МОЙ ПЕРВЫЙ ТОЛСТОЙ
Я помню.
Мне девять лет.
Я читаю «Детство» и «Отрочество» Толстого. Читаю и перечитываю.
В этой книге все для меня родное.
Володя, Николенька, Любочка — все они живут вместе со мною, все они так похожи на меня, на моих сестер и братьев. И дом их в Москве у бабушки — это наш московский дом, и когда я читаю о гостиной, диванной или классной комнате, мне и воображать ничего не надо — это все наши комнаты.
Наталья Саввишна — я ее тоже хорошо знаю — это наша старуха Авдотья Матвеевна, бывшая бабушкина крепостная. У нее тоже сундук с наклеенными на крышке картинками. Только она не такая добрая, как Наталья Саввишна. Она ворчунья. Про нее старший брат даже декламировал: «И ничего во всей природе благословить он не хотел».
Но все-таки сходство так велико, что, читая строки о Наталье Саввишне, я все время ясно вижу фигуру Авдотьи Матвеевны.
Все свои, все родные.
И даже бабушка, смотрящая вопросительно строгими глазами из-под рюша своего чепца, и флакон с одеколоном на столике у ее кресла — это все такое же, все родное.
Чужой только гувернер St-Jerome, и я ненавижу его вместе с Николенькой. Да как ненавижу! Дольше и сильнее, кажется, чем он сам, потому что он в конце концов помирился и простил, а я так и продолжала всю жизнь. «Детство» и «Отрочество» вошли в мое детство и отрочество и слились с ним органически, точно я не читала, а просто прожила их.
Но в историю моей души, в первый расцвет ее красной стрелой вонзилось другое произведение Толстого — «Война и мир».
Я помню.
Мне тринадцать лет.
Каждый вечер в ущерб заданным урокам я читаю и перечитываю все одну и ту же книгу — «Война и мир ».
Я влюблена в князя Андрея Болконского. Я ненавижу Наташу, во-первых, оттого, что ревную, во-вторых, оттого, что она ему изменила.
— Знаешь, — говорю я сестре, — Толстой, по-моему, неправильно про нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама — коса у нее была «негустая и недлинная», губы распухшие. Нет, по-моему, она совсем не могла нравиться. А жениться он на ней собрался просто из жалости.
Потом еще мне не нравилось, зачем князь Андрей визжал, когда сердился. Я считала, что Толстой это тоже неправильно написал. Я знала наверное, что князь не визжал.
Каждый вечер я читала «Войну и мир».
Мучительны были те часы, когда я подходила к смерти князя Андрея.
Мне кажется, что я всегда немножко надеялась на чудо. Должно быть, надеялась, потому что каждый раз то же отчаяние охватывало меня, когда он умирал.
Ночью, лежа в постели, я спасала его. Я заставляла его броситься на землю вместе с другими, когда разрывалась граната. Отчего ни один солдат не мог догадаться толкнуть его? Я бы догадалась, я бы толкнула.
Потом посылала к нему всех лучших современных врачей и хирургов.
Каждую неделю читала я, как он умирает, и надеялась, и верила чуду, что, может быть, на этот раз он не умрет.
Нет. Умер! Умер!
Живой человек один раз умирает, а этот вечно, вечно.
И стонало сердце мое, и не могла я готовить уроков. А утром… Сами знаете, что бывает утром с человеком, который не приготовил урока!
И вот наконец я додумалась. Решила идти к Толстому, просить, чтобы он спас князя Андрея. Пусть даже женит его на Наташе, даже на это иду, даже на это! — только бы не умирал!
Спросила гувернантку — может ли автор изменить что-нибудь в уже напечатанном произведении. Та ответила, что как будто может, что авторы иногда для нового издания делают исправления.
Посоветовалась с сестрой. Та сказала, что к писателю нужно идти непременно с его карточкой и просить подписать, иначе он и разговаривать не станет, да и вообще с несовершеннолетними они не говорят.
Было очень жутко.
Исподволь узнавала, где Толстой живет. Говорили разное — то, что в Хамовниках, то, что будто уехал из Москвы, то, что на днях уезжает.
Купила портрет. Стала обдумывать, что скажу. Боялась — не заплакать бы. От домашних свое намерение скрывала — осмеют.
Наконец решилась. Приехали какие-то родственники, в доме поднялась суетня — время удобное. Я сказала старой няньке, чтобы она проводила меня «к подруге за уроками», и пошла.
Толстой был дома. Те несколько минут, которые пришлось прождать в передней, были слишком коротки, чтобы я успела удрать, да и перед нянькой было неловко.
Помню, мимо меня прошла полная барышня, что-то напевая. Это меня окончательно смутило. Идет так просто, да еще напевает и не боится. Я думала, что в доме Толстого все ходят на цыпочках и говорят шепотом.
Наконец — он. Он был меньше ростом, чем я ждала. Посмотрел на няньку, на меня. Я протянула карточку и, выговаривая от страха «л» вместо «р», пролепетала:
— Вот, плосили фотоглафию подписать.
Он сейчас же взял ее у меня из рук и ушел в другую комнату.
Тут я поняла, что ни о чем просить не смогу, ничего рассказать не посмею и что так осрамилась, погибла навеки в его глазах, со своим «плосили» и «фотоглафией», что дал бы только Бог убраться подобру-поздорову.
Он вернулся, отдал карточку. Я сделала реверанс.
— А вам, старушка, что? — спросил он у няньки.
— Ничего, я с барышней. Вот и все.
Вспоминала в постели «плосили» и «фотоглафию» и поплакала в подушку.
В классе у меня была соперница, Юленька Арше-ва. Она тоже была влюблена в князя Андрея, но так бурно, что об этом знал весь класс. Она тоже ругала Наташу Ростову и тоже не верила, чтобы князь визжал.
Я свое чувство тщательно скрывала и, когда Ар-шева начинала буйствовать, старалась держаться подальше и не слушать, чтобы не выдать себя.
И зот раз за уроком словесности, разбирая какие-то литературные типы, учитель упомянул о князе Болконском. Весь класс, как один человек, повернулся к Аршевой. Она сидела красная, напряженно улыбающаяся, и уши у нее так налились кровью, что даже раздулись.
Их имена были связаны, их роман отмечен насмешкой, любопытством, осуждением, интересом — всем тем отношением, которым всегда реагирует общество на каждый роман.
А я, одинокая, с моим тайным «незаконным» чувством, одна не улыбалась, не приветствовала и даже не смела смотреть па Аршеву.
Вечером села читать о его смерти. Читала и уже не надеялась и не верила в чудо.
Прочла с тоской и страданием, но не возроптала. Опустила голову покорно, поцеловала книгу и закрыла ее.
— Была жизнь, изжилась и кончилась.
КОГДА РАК СВИСТНУЛ
Рождественский ужас
Елка догорела, гости разъехались.
Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.
— Последний раз делаю елку, — говорил папа Жаботыкин. — Один расход, и удовольствия никакого.
— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику, — вставила maman Жаботыкина.
— Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.
— А я думал, что он мне живую лошадку подарит, — поднял голову Петя.
— Да, черта с два! Когда рак свистнет.
Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку.
Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.
— Папа, отчего рак?
— Гм?
— Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?
— Гм!..
— А когда он свистит?
Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:
— Пошел спать, поросенок!
Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте — под ложечкой, — словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.
Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиньей. Она сказала:
— Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.
Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.
Стал Петя расти, стал больше задумываться.
— Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.
Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «когда слон полетит» или «когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими.
Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.
Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.
Умирая, сказал сыну:
— Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы — Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!
Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем потерялась и скрылась от внимания русских родственников.
Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком было в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:
— Папа, отчего рак?
По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.
Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:
«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество «Мистер Джеб энд компани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак, и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»
Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, — думали, — верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их!»
Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.
А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок его лаборатории во всех разрезах, — никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.
Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.
Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенного в самые фантастические цвета — зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.
Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.
Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру рачий свист.
25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздававшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пройдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее.
С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.
Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.
Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет и дураков валять довольно глупо.
Ровно в два часа дня раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.
Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.
Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.
— Что такое? Что же это?
Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:
— Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»
Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех юркнула в землю.
— Провалилась, подлая! — напутственно прошамкали чьи-то губы.
Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный хрип двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:
— Бейте меня, православные! Моя волюшка в энтих бабах дохнет!
Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собою чужих желаний.
Люди гибли как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела беспрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только и были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.
Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще более вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.
Рак сдох.
На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:
«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака — собственность «Мистера Джеба энд компани», утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.
Не просыпайся!»
ДУРАКИ
На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак чем дурее, тем круглее.
Однако, если прислушаешься и приглядишься — поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.
— Вот дурак, — говорят люди. — Вечно у него пустяки в голове!
Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!
В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается, прежде всего, по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно, — дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.
Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.
Дурак всегда рассуждает.
Простой человек, умный или глупый — безразлично, скажет:
— Погода сегодня скверная, — ну, да все равно, пойду погуляю.
А дурак рассудит:
— Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.
Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он — человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит.
При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.
— Что такое? Какие там вопросы?
Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат. Аксиомы:
Здоровье дороже всего.
Были бы деньги.
С какой стати. Постулат:
Так уж надо.
Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.
Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком.
— Солидный человек. Не вертопрах, — говорят о дураке. — Только что-то в нем такое… Слишком серьезен, что ли?
Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность — учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения.
— Чего они все путают, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают; нужно им объяснить.
— Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну, так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай Бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!
— Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!
Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной, круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.
— Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках.
— Почему же на немках? — спрашивали у него.
— Да так уж нужно.
— Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит.
Тогда дурак обижался:
— Конечно, все можно обратить в смешную сторону.
Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов.
Дурак воспротивился:
— Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься!
В обществе дураки — народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «а вы все хлопочете», и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.
— Я люблю Шаляпина, — ведет дурак светский разговор. — А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому, что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.
Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка ни задоринки. Подхлестнешь — и покатится.
Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей.
Иногда дурак и веселится. Но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.
Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.
Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах.
Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит.
Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.
— Это чьи стихи сейчас читали?
— Бальмонта.
— Бальмонта? Не знаю. Не слыхал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.
Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.
— Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал!
И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше.
Большинство дураков читает мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это — дураки набитые.
Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.
Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:
— По-моему, музыка иногда очень приятна. Я, вообще, большой чудак!
Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.
И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:
— О, как жутко! О, как кругла стала жизнь! И прорвет круг.
ТРОИЦЫН ДЕНЬ
Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам.
Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий, и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.
Вечером девочки побежали делать к завтрему букеты: в Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.
— Ты чего! — крикнула Варя. — Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.
— Сам-то ты букет! — поддразнила Катя-младшая.
Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался.
Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.
— Чтоб насквозь тебя через голову не продувало.
Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, в густую траву, чтоб не завяли до завтра.
Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша, точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.
Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в гости.
Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая, страшная жизнь, с неведомыми опасностями.
Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, — да мало ли еще что, — пока не надоела и не перешла к Грише.
Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под плевальницу.
Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.
Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла, вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтоб пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая спичечка.
Гриша подумал: «Ишь, кто-то уж поселился…»
И на цыпочках пошел домой.
— Там кто-то поселился, — сказал он сестрам.
— Сам-то ты поселился! — поддразнила Катя.
В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке.
Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.
«Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру».
Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевальницей.
Тихонечко поплакал и заснул.
Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе: Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась.
Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Троица, и нужно, чтоб все было новое и красивое.
Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда.
— За одну ночь чужим стал! — упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.
По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и, когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет прямо за головку большого тюльпана. Прочный был букет.
Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится — и закусить нечем.
Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит.
Гриша посмотрел на девок, на их корявые, красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как Бог будет их на том свете наказывать.
«Подлые, скажет, как вы смели воровать?»
Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.
Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями.
Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катомилове вата торчала. Но тетка не позволила.
Наконец гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту.
Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок.
Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже не захотел, хотя мать и упрашивала.
«Небось меня никогда так не просит».
На цветы помещик даже и не взглянул.
Гриша вдруг понял: ясное дело, что помещик притворяется! В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется.
Но, в общем, помещик Катомилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей.
Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев.
— Нищий пришел! — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом.
— Снеси ему кусок пирога! — велела мать.
Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катомилов завернул пятак в бумажку (аккуратный был человек) и дал его Грише:
— Вот, молодой человек, отдайте нищему. Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога, корочку отламывал и прятал в мешок.
Старичок был весь сухенький и грязненький, особой деревенской, земляной грязью, сухенькой и непротивной.
Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот.
Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкал что-то про Бога и благодетелей, и вдов, и сирот.
Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом:
— Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер.
Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом да и заплакать.
«Добрые мы! — думал Гриша. — Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали! Пирога дали, пять копеек денег!»
Так хотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой. И не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала.
Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему.
— Вот, это тоже вам! — сказал он, весь дрожа и задыхаясь.
Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами.
Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели.
Девочки громко кричали и играли в помещика Катомилова.
Варя была помещиком, Катя остальным человечеством…
Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой.
На земле проведена была черта, и, как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад.
Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него, по случаю сырости, был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным.
Разговор шел про помещика Катомилова.
— Очень ему нужно! — говорила кухарка. — Очень его нашими ягодами рассыропишь!
— Шардинки в городу покупала, — вставила Агашка.
— Очень ему нужно! Поел да и был таков! Бабе за тридцать, а туда же приваживать!
Агашка нагнулась к Грише.
— Ну, чего сидишь, старичок? Шел бы с сестрицами поиграл. Сидит, сидит как кукса!
— Очень ему нужно, — тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. — Он и не подумал…
— Няня Агаша! — вдруг весь забеспокоился Гриша. — Кто все отдает бедному, несчастному, тот святой? Тот святой?
— Святой, святой, — скороговоркой ответила Агашка.
— И не подумал, чтоб вечерок посидеть. Поел, попил, да и прощайте!
— Помещик Катомилов! — визжит Катя, толкая качель.
Гриша сидит весь тихий и бледный.
Одутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напряженно и открыто смотрят прямо в небо.
ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
До отхода поезда оставалось еще восемь минут.
Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.
Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию донжуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном — как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.
В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.
И как взглянет! Это трудно объяснить, но… словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол — он глядел совершенно иначе.
С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.
А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.
«Ну, эта уже не забудет! — думал он. — И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».
При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит в разных городах и различными предметами.
В Лодзи машинкой для снимания сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Минске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.
Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное.
Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.
Пан Гуслинский высунул голову.
«Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж — пусть себе!»
Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.
Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то что он расшаркался и сказал «пардонк» с чисто парижским шиком.
На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки.
Томные взгляды донжуана гасли на круглых кадетских щеках.
Пан призадумался.
«Здесь придется немножко заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладевать любовью ребенка, и мать будет поймана».
И он стал завладевать.
Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету.
— Вы любите плоды, молодой человек? Я уж это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику!
— Мерси! — мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.
Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить.
«Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду».
— Пардонк! У меня там такая теснота! Можете себе представить — я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите? Я здесь устроюсь, рядом с молодым человеком, хе-хе!
Дама пожала плечом:
— Пожалуйста! Мне-то что!
И, вынув книжку, стала читать.
— Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?
— В Петраков, — буркнул кадет.
Гуслинский так и подпрыгнул.
— Боже ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение. Я тоже преспокойно еду в Петраков! Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день! Нет, видали вы что подобное!
Кадет отнесся к «знаменитому совпадению» очень сухо и угрюмо молчал.
— Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?
Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался.
Зачем она его родила? Только мешает! При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди! Сердце матери отпирается при помощи сына!»
Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:
— Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? А? Тем более что я был уже почти обручен с девицею из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я как рыцарь не мог никого компроментовать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете ужас! Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал и позвал городового.
Дама подняла голову.
— Что вы за вздор рассказываете мальчику!
И опять углубилась в чтение.
Пан Гуслинский ликовал:
«Эге! Начинается! Уже заговорила!»
— Я есть хочу! — сказал кадет. — Скоро ли станция?
— Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить!
Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.
— Ваша мамаша — это нечто замечательное! Если она захочет, то может каждого скокетничать! Уверяю вас!
Кадет глядел удивленно, бараньими глазами, и ел за четверых.
— Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится, — томился донжуан.
Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись с головой пледом.
«Эге! Ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шестьдесят копеек».
— Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом отчищу бензином. Вот так! Молодцом!
Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон лягал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.
Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан… Что такое? Бьет третий звонок.
— Сударыня! Что вы делаете? Сейчас поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!
Кондуктор свистнул, стукнули буфера.
— Да мы уже трогаемся! — надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз.
Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете:
— Сына забыли! Сына! Сына!
Дама досадливо махнула рукой и отвернулась. Гуслинский схватил кадета за плечо.
— Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое! — вопил он.
Кадет захныкал:
— Чего вы меня трясете! Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове.
Гуслинский даже сел.
— А как же… а эта дама? Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума! А?
— Гм…— хныкал кадет.— Я не называл! Я ее не знаю! Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете… Я не виноват… И не надо мне ваших яблок, не на-а-да…
Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан:
— Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Св-винья!
И, хлопнув дверью, вышел на площадку.
ПРИГОТОВИШКА
Лизу, стриженую приготовишку, взяла к себе на Масленицу из пансиона тетка.
Тетка была дальняя, малознакомая, но и то слава Богу. Лизины родители уехали на всю зиму за границу, так что очень-то в тетках разбираться не приходилось.
Жила тетка в старом доме-особняке, давно приговоренном на слом, с большими комнатами, в которых все тряслось и звенело каждый раз, как проезжала по улице телега.
— Этот дом уже давно дрожит за свое существование! — сказала тетка.
И Лиза, замирая от страха и жалости, прислушивалась, как он дрожит.
У тетки жилось скучно. Приходили к ней только старые дамы и говорили все про какого-то Сергея Эрастыча, у которого завелась жена с левой руки.
Лизу при этом высылали вон из комнаты.
— Лизочка, душа моя, закрой двери, а сама останься с той стороны.
А иногда и прямо:
— Ну-с, молодая девица, вам совершенно незачем слушать, о чем большие говорят.
«Большие» — магическое и таинственное слово, мука и зависть маленьких. А потом, когда маленькие подрастают, они оглядываются с удивлением:
— Где эти «большие», эти могущественные и мудрые, знающие и охраняющие какую-то великую тайну? Где они, сговорившиеся и сплотившиеся против маленьких? И где их тайна в этой простой, обычной и ясной жизни?
У тетки было скучно.
— Тетя, у вас есть дети?
— У меня есть сын Коля. Он вечером придет.
Лиза бродила по комнатам, слушала, как старый дом дрожит за свое существование, и ждала сына Колю.
Когда дамы засиживались у тетки слишком долго, Лиза подымалась по лесенке в девичью.
Там властвовала горничная Маша, тихо хандрила швея Клавдия и прыгала канарейка в клетке над геранью, подпертой лучинками.
Маша не любила, когда Лиза приходила в девичью.
— Нехорошо барышне с прислугами сидеть. Тетенька обидятся.
Лицо у Маши отекшее, обрюзгшее, уши оттянуты огромными гранатовыми серьгами, падающими почти до плеч.
— Какие у вас красивые серьги! — говорила Лиза, чтобы переменить неприятный разговор.
— Это мне покойный барин подарил.
Лиза смотрит на серьги с легким отвращением. «И как ей не страшно от покойника брать!» Ей немножко жутко.
— Скажите, Маша, это он вам ночью принес? Маша вдруг неприятно краснеет и начинает трясти головой.
— Ночью?
Швея Клавдия щелкает ногтем по натянутой нитке и говорит, поджимая губы:
— Стыдно барышням пустяки болтать. Вот Марья Петровна пойдут и тетеньке пожалятся.
Лиза вся съеживается и отходит к последнему окошку, где живет канарейка.
Канарейка живет хорошо и проводит время весело. То клюнет конопляные семечки, то брызнет водой, то почешет носик о кусочек извести. Жизнь кипит.
«И чего они все на меня сердятся?» — думает Лиза, глядя на канарейку.
Будь она дома, она бы заплакала, а здесь нельзя.
Поэтому она старается думать о чем-нибудь приятном.
Самая приятная мысль за все три дня, что она живет у тетки, — это как она будет рассказывать в пансионе Кате Ивановой и Оле Лемерт про ананасное мороженое, которое в воскресенье подавали к обеду.
«Каждый вечер буду рассказывать. Пусть лопаются от зависти».
Подумала еще о том, что вечером приедет «сын Коля» и будет с кем поиграть.
Канарейка уронила из клетки конопляное семечко, Лиза полезла под стул, достала его и съела.
Семечко оказалось очень вкусным. Тогда она вытащила боковой ящичек в клетке и, взяв щепотку конопли, убежала вниз.
У тетки опять сидели дамы, но Лизу не прогнали. Верно, уже успели переговорить про левую жену.
Потом пришел какой-то лысый, бородатый господин и поцеловал у тетки руку.
— Тетя, — спросила Лиза шепотом, — что это за старая обезьяна пришла?
Тетка обиженно поджала губы:
— Это, Лизочка, не старая обезьяна. Это мой сын Коля.
Лиза сначала подумала, что тетка шутит, и хотя шутка показалась ей не веселой, она все-таки из вежливости засмеялась. Но тетка посмотрела на нее очень строго, и она вся съежилась.
Пробралась тихонько в девичью, к канарейке.
Но в девичьей было тихо и сумеречно. Маша ушла. За печкой, сложив руки, вся прямая и плоская, тихо хандрила швея Клавдия.
В клетке тоже было тихо. Канарейка свернулась комочком, стала серая и невидная.
В углу, у иконы с розовым куличным цветком, чуть мигала зеленая лампадка.
Лиза вспомнила о покойнике, который по ночам носит подарки, и тревожно затосковала.
Швея, не шевелясь, сказала гнусавым голосом:
— Сумерничать пришли, барышня? А? Сумерничать? А?
Лиза, не отвечая, вышла из комнаты.
«Уж не убила ли швея канарейку, что она такая тихая?»
За обедом сидел «сын Коля», и все было невкусное, а на пирожное подали компот, как в пансионе, так что и подруг подразнить нечем будет.
После обеда Маша повезла Лизу в пансион.
Ехали в карете, пахнувшей кожей и теткиными духами. Окошки дребезжали тревожно и печально.
Лиза забилась в уголок, думала про канарейку, как той хорошо живется днем над кудрявой геранью, подпертой лучинками.
Думала, что скажет ей классная дама, ведьма Марья Антоновна, думала о том, что не переписала заданного урока, и губы у нее делались горькими от тоски и страха.
«Может быть, нехорошо, что я взяла у канарейки ее зернышки? Может быть, она без ужина спать легла? »
Не хотелось об этом думать.
«Вырасту большая, выйду замуж и скажу мужу: «Пожалуйста, муж, дайте мне много денег». Муж даст денег, я сейчас же куплю целый воз зернышек и отвезу канарейке, чтоб ей на всю старость хватило».
Карета завернула в знакомые ворота.
Лиза тихо захныкала — так тревожно сжалось сердце.
Приготовишки уже укладывались спать, и Лизу отправили прямо в дортуар.
Разговаривать в дортуаре было запрещено, и Лиза молча стала раздеваться. Одеяло на соседней кровати тихо зашевелилось, повернулась темная стриженая голова с хохолком на темени.
— Катя Иванова! — вся встрепенулась радостью Лиза. — Катя Иванова.
Она даже порозовела, так весело стало. Сейчас Катя Иванова удивится и позавидует.
— Катя Иванова! У тети было ананасное мороженое! Чудное!
Катя молчала, только глаза блестели, как две пуговицы.
— Понимаешь, ананасное. Ты небось никогда не ела! Из настоящего ананаса!
Стриженая голова приподнялась, блеснули острые зубки и хохолок взъерошился.
— Все-то ты врешь, дурища!
И она повернулась к Лизе спиной. Лиза тихо разделась, сжалась комочком под одеялом, поцеловала себе руку и тихо заплакала.
ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ
Предрождественское настроение определеннее всего выражается в оживлении Гостиного двора.
В окнах — заманчивая выставка материй, кружев, лент, и всюду коротенькие, но красноречивые объявления:
«Специально для подарков».
Если вы войдете в магазин и спросите какую-нибудь материю, приказчик предупредительно осведомится:
— Для вас прикажете или для подарков?
И, узнав, что для подарков, будет предлагать совсем особого качества товар.
Дело не так просто, как вы, может быть, думаете.
Товар этот изготовлен на самой тонкой психологии.
За выработкой материала наблюдают специалисты, знатоки души человеческой.
Для подарка — значит, нужно, чтобы было красиво и имело вид дорогого, потому что нужно вызвать в «одаряемом» радость и благодарность.
Для подарка — значит, не для себя, значит, платить хочется подешевле, и забота о доброкачественности покупаемого отсутствует вполне.
Итак, основой для приготовления рождественских подарков берется основа человеческих отношений: поменьше заплатить — побольше получить.
«Куплю для бонны этой дряни в крапинках, — думает барыня, ощупывая материю. — С виду оно будто атлас. Все равно не разберет; я скажу, что такой шелк… Она рада будет, поможет Манечке платьице сшить».
«Для тетеньки куплю этой полосатой, — думает другая. — Господи! Прямо по нитке лезет. Ну, да ничего, она все равно после праздников уедет, при мне шить не станет».
— Вам для прислуги? — спрашивает приказчик. И, получив утвердительный ответ, справляется о подробностях:
— Они кухарка? Для кухарок предпочтительнее всего коричневое бордо с желтой горошиной. Клетка для кухарки тоже хороша. Особливо с красным. Потому цвет лица у кухарок пылкий и требует оживления в кофтах.
— Для нянюшки? Для нянюшки солидное с мелким цветком, кардинал-эстрагон, лиловое с мильфлером…
— Для горнишен веселенькое под шелк, с ажурчиком под брокар…
— Для гувернянек-с вот это, под мужской жилет, под рытый бархат, под ватерлоо…
— А вот для вас лично могу рекомендовать последние новости: «аэроплан» в полосочку, «пропеллер» с начесом, «решительный» с ворсом, «вуазен» в клетку, «фарман» с мелкими дырочками, «международная» двуличная, хорошо для стирки… Мальчик! Подай стул барыне — оне на ногах качаются!
Кроме материй есть еще специальные вещицы для подарков.
Странные вещицы!
Продаются они обыкновенно в парфюмерных или писчебумажных магазинах.
Форма их самая разнообразная.
Материал тоже.
Бывают они и из фарфора, и из металла, и из всяких шелковых тряпочек, но что они изображают и для чего предназначаются — никто не знает…
Скажите, пожалуйста, что это за штучка? — робко спрашиваете вы у продавщицы.
— Это? — недоумевает она. — Это…
И она произносит несколько свистящих и шипящих.
— А-а! — притворяетесь вы, что поняли. — Странно, что я сразу не узнал. А… собственно говоря, для чего она?
Новое недоумение и ответ:
— Для подарков.
— Ах да! А сколько стоит?
— Четыре с полтиной. А поменьше и без бронзы — три.
Вас начинает притягивать к загадочной вещице какое-то странное тупое любопытство. Вы покупаете ее и много дней придумываете, кому подарить Наконец жертва выбрана.
— Прелестная вещица, — мечтательно благодарит она вас. — Это, верно, для перьев.
— То есть… гм… Ну да, конечно, для перьев.
— Странно… А я думал, что это для снимания сапог, — вставляет свое слово старый дядюшка-провинциал.
— Нет, это скорее всего для штопанья чулок, — говорит тетка. — Видишь, оно вроде гриба…
— А мне кажется, его нужно вешать на лампу…
— Нет, это подчашник… Чего вы смеетесь? Ведь бывают же подстаканники, так почему же…
Барышни шепчут что-то друг другу на ухо и, густо покраснев, смеются до слез.
— Неплавда! — говорит толстый маленький мальчик. — Я знаю, что это: это наушник для зайца…
Потом начинают говорить о предполагаемом пикнике, на который вас не приглашают…
Вопрос о том, как украсить елку и что на нее повесить, решен давно, может быть, целое столетие тому назад.
Каждый знает, что именно нужно покупать.
На самую верхушку — звезду. Вешается она специально для дам-писательниц, чтобы дать им сюжет о бедном мальчике, которому бабушка обещала показать звездочку, но надула. Мальчик умрет, а бабушка исправится и перестанет говорить надвое.
На нижние ветки подвешивается всякая дрянь — там никому, кроме самых маленьких детей, ничего не видно.
А самые маленькие дети, если и поймут, что под елкой висит дрянь, все равно рассказать об этом не сумеют, потому что их не учили гадким словам.
Чуть-чуть повыше вешаются маленькие каменные яблоки, рекомендованные торговцами специально для елок.
— Действительно, — говорят они, — мала штучка, а вот поди-ка раскуси!
Самый лучший, отборный ряд украшений вешается не ниже двухаршинного расстояния от пола. Здесь маленькие дети не достанут, а большим все хорошо видно.
Здесь помещаются бонбоньерки подороже и разные вещицы, дающие хозяевам возможность показать свое остроумие.
— Этот башмачок для Александра Алексеевича, — решает хозяйка. — Я ему подам его и скажу: «Вот под этим предметом желаю вам находиться».
— А эту скрипочку Осипу Сергеевичу: «Пусть все под нее пляшут».
— Что-о? Ничего не понимаю, — удивляется муж.
— Очень просто: желаю, чтобы все плясали под его дудку.
— Так ведь это же не дудка, а скрипка…
— Как глупо! Не все ли равно. Лишь бы был инструмент…
— А эта свинья с золотом для кого?
— Это для папаши…
— Гм… А он не обидится?
— Ты с ума сошел! Это самая счастливая эмблема…
Повыше вешаются орехи, бусы и вещи, которые жалко дарить чужим детям.
— Хорошо, милочка, этот зайчик достанется тебе. Ты напомни, когда будешь уезжать. А теперь, видишь, мне не достать…
Таков порядок, освященный веками…
И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается), справится с этим делом без особого труда.
Гораздо труднее решить вопрос о том, что класть под елку, что выбирать для подарков.
Прежде всего обращается внимание на так называемые «практичные подарки». Их иногда даже выписывают из Варшавы.
— Вот, Наденька, — говорит муж, — нужно раздобыть для Мишеля этот приборчик. Называется: «Каждый сам себе позолотчик». Прилагаются разные кисточки, лаки, золотой порошок. Ему понравится. Он ведь любит пачкать все, что под руку попадается.
— А для Аркадия Веньяминовича вот это. Слушай: «Каждый сам себе сифон». Видишь, вот эту трубочку воткнуть в пробку…
— А Сереже можно просто подарить твою пепельницу с круглого стола. Скажем, что это новость, что это «Каждый сам себе пепельница».
Затем подбираются подарки ехидно-мстительного характера.
Для старой девы — амур с розгой, для домовладельца — заводной трамвайчик, для вегетарианца — картонная котлетка.
Выбираются вещи все самые обидные, и на совет приглашается старая гувернантка только потому, что у нее скверный характер.
Наконец доходит очередь и до детей.
Маленьким мальчикам по настоянию приказчиков приобретаются деревянные ружья, из которых они на другой же день запаливают пробкой в лоб своему грудному братцу, и разные рожки и трубы, в которые им запретят трубить.
Для детей самого беззащитного возраста (от года до двух) рекомендуются игрушки, которых нельзя брать в руку потому, что они выкрашены ядовитой краской, и конфетки, которых нельзя есть потому, что они изготовлены на салициле, сахарине, глицерине, стрихнине, трихине и прочих растительных и животных ядах.
Для ребят дошкольного возраста лучше всего покупать книжки с картинками.
Между ними бывают такие (я говорю о книжках с картинками), которые могли бы не без пользы прочесть и люди солидного возраста.
Я помню, мне рекомендовал приказчик книжного магазина для девочки семи лет: «Сластолюбивая Соня».
Глубоко нравственная история начиналась следующими словами: «Маленькая Соня была очень сластолюбива. Однажды она съела все вишневое варенье, которое с трудом и заботами сварила для своих друзей ее добрая мать».
В конце рассказа маленькая Соня строго наказана за свое сластолюбие, и дети-читатели убеждаются раз навсегда, что сластолюбивыми быть невыгодно.
В большом ходу также переводные немецкие книжки. На русских детей они действуют несколько двусмысленно.
Есть, например, рассказ про маленького Фрица, сделавшего тысячи добрых дел, которые были бы не под силу самому всесовершенному Будде. В конце рассказа маленький Фриц идет по улице, и все прохожие, смотря на него, говорят: «Вот идет наш добрый маленький Фриц». Только и всего!
Прочтя этот рассказ, русские дети убеждаются, что добрые дела вознаграждаются очень плохо, и стараются впредь сдерживать свои сердечные порывы.
Есть еще очень поучительный рассказ про маленького Генриха, который вел себя очень скверно и был в наказание оставлен без обеда. И «в то время как сестры и братья его ели вкусные говяжьи соусы, он принужден был довольствоваться печеным яблоком и чашкой шоколада»!!
Книга эта производит на русских детей самое развращающее действие. Я знаю двоих, которые прямо взбесились, добиваясь счастья есть печеные яблоки и пить шоколад вместо скверных говяжьих соусов.
Безнравственная книга!
Мы-то, взрослые, давно знаем, что добродетель питается говяжьими соусами в то время, как разные безобразники лакомятся шоколадом, но зачем же открывать глаза детям? Задача педагогики — как можно дольше сохранять в детях их невинную бессмысленность, чтобы из них могли выработаться сознательные люди только к тридцати годам. Иначе, подумайте, что бы было! Кого бы мы тогда эксплуатировали? На ком бы выезжали?
Нет, господа! Берегитесь вредных книжек, лишающих наших детей их очаровательной беззащитности!