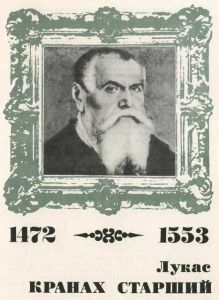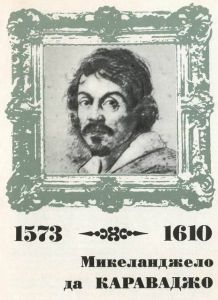²²²
Сто лет спустя городской совет продал «Четырех апостолов» курфюрсту баварскому Максимиллиану, и тот, прежде чем увезти доски картины к себе в Мюнхен, приказал отпилить от них нижнюю часть с надписью, ибо не любил наставлений художников.
Лукас КРАНАХ СТАРШИЙ |
Известно, что Лукас Кранах Старший родился в 1472 году, но неизвестна его подлинная фамилия. Кранах — городок в Верхней Франконии — место рождения будущего знаменитого живописца и графика. Предполагают, учился Кранах в мастерской отца. Потом он вел жизнь бродячего подмастерья, получил некоторую известность, работал в Вене.
В 1504 году Лукаса Кранаха приглашают в Виттенберг, ко двору саксонского курфюрста Фридриха Мудрого. Отдавая дань моде, властелины карликовых немецких государств покровительствовали искусствам, украшали дворцы картинами европейских знаменитостей. Основным поставщиком живописцев в те времена была Италия. Виттенбергские курфюрсты, однако, дали отставку итальянцам и очень высоко ценили замечательный талант своего соотечественника. Мастер-виртуоз Кранах, подчиняя свое искусство моде и вкусам двора, умел оставаться национальным художником. Он писал картины безмятежно-идиллические, развлекательные, религиозные, но и беспощадно-реалистические.
Наследник искусства Возрождения, Кранах предвосхитил маньеризм, и в то же самое время он один из родоначальников реалистического портрета. Он мог быть нарочито примитивным, рисуя историю грехопадения Адама и Евы; утонченно-возвышенным, когда создавал «Венеру и Амура» — идеальный образ женской красоты; и страстным борцом с глазами трезвого хронолога, если его моделью был сам Лютер — его личный друг, религиозный бунтарь, основоположник немецкого литературного языка, который призывал убивать восставших крестьян, как бешеных собак.
Кранах жил во времена религиозных брожений, крестьянских восстаний, национального самоопределения. Он пропагандировал в своем искусстве идеи Лютера, идеи Реформации, но он не отказался от выгодного заказа на портрет кардинала Альбрехта Бранденбургского — сторонника римского папы.
Человек дела, Кранах организовал огромную художественную мастерскую, где посредственные художники копировали его картины и писали свои, но и на этих, некранаховских, полотнах ставился его знак — подпись.
Умер Лукас Кранах Старший глубоким стариком, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, в 1553 году.
В конце жизни ему пришлось пережить немало горьких дней. Герцог Виттенбергский проиграл войну, попал в плен, и верный Кранах разделил со своим повелителем почетное заточение. Последние годы жизни он провел в Аугсбурге и Веймаре.
Картины Кранаха экспонируются во многих музеях мира. Есть картины Кранаха и в Советском Союзе: в Ленинграде, в Эрмитаже; в Москве, в Музее изобразительных искусств.
Краски на картинах Кранаха до сих пор сияют, это был добротный художник. Он собирался остаться в веках и остался.
Владислав БАХРЕВСКИЙ. Эскизы к портрету
|
|
Город, изображенный на картине странствующего подмастерья из Кранаха, несомненно, был тем самым городом, где бургомистром досточтимый герр Ионас Юстус. И все сказали: «Да. Это наш город!»
В том-то и загадка. Всякий имеющий глаза был бы вынужден признать: весь город на полотне странствующего подмастерья не уместился. Уместился один дом, а изо всего дома подмастерье почтил вниманием окно.
Но в том-то и дело! В том-то и гений! Мы кинемся сочинять поэму, а гений сразит одной строкой. Мы выстроим себе дворец, а гений обойдется каморкой. Нам подавай завтрак, второй завтрак, обед, ужин. А что нужно гению? Ему довольно куска хлеба и кружки воды.
Подмастерье из Кранаха был, несомненно, гением. Будущим, конечно. Это ведь в будущем полотна, книжицы, мысли обрастают известностью и получают какую-то цену, иногда совершенно неумеренную.
Да и теперь за эту свеженькую, пахнущую красками картину можно дать ну, скажем, двадцать, вернее, двенадцать, гульденов.
…На подоконнике розовые локотки упираются в подушку, расшитую розами. Эти розы — произведение дамы, чьи розовые пальчики трудились над подушкой, лежащей на подоконнике, который являлся частью окна, окно — частью дома, дом — города, а город так же, как этот дом, окно, подушечка на окне и сама дама, облокотившаяся на подушечку, — все это было вверено попечению и заботам досточтимого бургомистра герра Ионаса Юстуса.
— Да, да, да! — воскликнула, едва взглянув на картину, очаровательная госпожа Хелли, супруга заботливого Ионаса Юстуса, чьи локотки упирались… Ну об этом вы уже знаете.
— Да, — подтвердил бургомистр и брякнул перед странствующим подмастерьем не десять и не двенадцать, а все-таки двадцать гульденов. А этого вполне хватало на путевые расходы до самой Вены, и подмастерье, расцветая и воодушевляясь, сказал:
— Коли суждено этому миру, в котором лесов больше, чем полей, а полей больше, чем городов, коли суждено этому миру стать одним-единым городом, то пусть это будет ваш город, герр бургомистр. Он так опрятен, а жизнь в нем такая разумная! Я бы только пожелал тому городу, который заменит собою весь мир, чтобы вечерами в его домах так же, как и у вас, распахивались бы окна и дамы, столь благородные и столь прекрасные, как госпожа Хелли, глядели бы на улицы.
Подмастерье отвесил глубокий поклон и чуть-чуть подмигнул даме, улыбавшейся ему из нарисованного окошка нарисованными губами. Потом он вздохнул, прощально глянул на госпожу Хелли, которая едва-едва перевела дыхание под тугим корсажем, — ив дорогу, в Вену, ибо он уже имел все для своего ремесла, кроме славы. А слава — не пустой звук. Если уж она есть, то тембр ее голоса точь-в-точь как у монеток, когда они ссыпаются из одного кошелька в другой.
Уже через десять минут странствующий подмастерье из Кранаха был за воротами городка и сидел в дорожном кабачке вдовой девицы Магды.
И будто бы вдовая девица Магда сама принесла подмастерью стаканчик пива и так долго ставила его перед ним, что все это увидели и кое-что услышали.
— Художник, художник, нарисуй мою красоту! — так будто бы сказала вдовая девица Магда.
— Я нарисовал бы тебя, красавица, но где найти такую синюю краску для твоих синих глаз? Где найти такую алую для таких алых губ? И нет у меня такой белой для белых ручек твоих.
— Эх, художник! Не спеши на ночь глядя в путь, и мы вместе с тобою найдем синюю краску среди синего неба. Сумеешь поцеловать меня, сок губ моих брызнет на твою палитру, вот тебе и красная, ну а белую…
— Я убью и тебя, и твоего проклятого мазилу! — взревел влюбленный кузнец Ганс, вскакивая на столбы-ноги и врезаясь головой-котлом в низкий кирпичный свод потолка.
Вот уже десять лет кузнец Ганс ухаживал за вдовой девицей Магдой, и ему, конечно, было обидно услышать то, что услышали все.
— Дуэль? — Художник допил свое пиво, послал воздушный поцелуй даме и обнажил шпагу.
— Э нет! — Тут вышел сам папаша, схватил Ганса поперек туловища. — Ты сначала приладь крылья на ветряную мельницу да перенеси жернов со старой на новую, а уж потом пусть тебя и проткнут из-за какой-то сороки.
— Погоди же, мазила! — взревел кузнец Ганс. — Вот перенесу жернов да прилажу крылышки, уж тогда-то я с тобой и поквитаюсь.
Сдирая головой черную копоть с потолка, Ганс выскочил на улицу, а за ним и его папаша.
— Я так взволнована! — сказала хозяйка и, сверкая белоснежными юбками, поднялась в жилые комнаты.
— Может, бедняжке нужно подать стаканчик воды? — забеспокоился странствующий подмастерье и побежал за хозяйкой Магдой следом.
— О нет! Не говорите! Охота на кабана — это слишком серьезно. Человек противоборствует зверю. Невероятно яростное и неукротимо сильное животное и человек. Два начала: злое и божественное. Выродок природы и творение совершенное… В такой охоте нет игры. Я люблю иное. Скачет зайчишка, и все скачут: собаки, лошади! Все вихрь!
«Послал господь болтуна», — подумал хозяин охоты, замка и самого герцогства Виттенбергского Фридрих, по прозвищу Мудрый.
Охота, на которую герцог пригласил посла императора, дай, господи, памяти, как его… фон, фон… (памяти на имена господь Фридриху не дал, не все же одному, достаточно, что этот раб божий обладает кабаньей силой и многими другими добродетелями). Охота удалась, и даже очень удалась. Огромный кабан выскочил на герцога. Одним ударом клыков убил лошадь, но герцог успел выстрелить, а потом вонзил в грудь вепрю короткий Римский меч. Смерть не остановила двадцать пудов бешеного мяса, и как знать, не пришлось ли бы парадный обед заменить на заупокойную тризну, но посол императора, неженка и дамский воздыхатель, подскочил к зверю и выпалил ему в ухо из тяжелого ружья.
Теперь герцог и посол шли обедать через залы, стены которых покрывала прекрасная роспись, через сокровищницу святых реликвий. Герцог Фридрих успел собрать около пяти тысяч святых предметов и показывал их с гордостью.
— Подошва святого Фомы.
— Кожа с лица святого Варфоломея.
— Кусочек горящего куста Моисеева.
— Небесная манна.
Посол холодно похвалил коллекцию и замер в дверях очередной залы, где висели картины.
|
|
— О герцог! Это же Италия!
— Мой бывший живописец Якопо де Барбари — итальянец. А вот Дюрер. Барбари и Дюрер! Тут видно, где торжествует дух и где лепет садовых ухищрений. Это Бургмайер. Это Вольгемут… — герцог шествовал далее. — А это самая лучшая зала дворца, потому что здесь нас ожидает обед.
— Герцог, остановитесь! — Посол невольно тронул Фридриха Мудрого за рукав. — Птицы!
На пустынном, длиною во всю залу столе сидели птицы и недовольно попискивали.
Фридрих Мудрый довольно засмеялся, птицы метнулись под купол залы и оттуда, прицелившись, нырнули через окно в придворные сады.
Императорский посол увидел на столе, который издали показался ему пустым, грозди винограда. Сквозь перламутровую кожицу распираемых соком ягод светилось золото семечек.
— Каков у вас виноград! — воскликнул посол и… смутился. Он, подобно птицам, принял нарисованное за действительное. — О герцог, мой восторг не знает границ. Ваши художники — волшебники.
В конце залы на маленьком столике на двоих их ждал обед. Герцог снял шляпу и повесил на оленьи рога. Посол решил повесить свою на другие рога, но шляпа скользнула по стене и упала. Рога оказались призраком, как и виноград.
Посол уморился от восклицаний. Он не желал обедать, покуда его не познакомят с чародеем кисти.
— Это все написал Кранах, — сказал герцог. — Лукас Кранах, мой придворный живописец. Он немец, но я плачу ему удвоенное жалованье против того, какое получал Якопо де Барбари, и сверх того еще сто гульденов.
Они стояли друг перед другом, два почтенных бюргера. Черное добротное сукно, упрямые красные физиономии, ноги расставлены, руки в боки. Им бы грудь в грудь для пущего геройства, а всего-то навсего – брюхо в брюхо.
— Эка недостача! Сто штук кирпича недосчитались. Да мы же не собачью будку строим – божий храм. Побились чертовы ваши кирпичи! При перевозке повыскочили, блошиное оно семя!
— Я повторяю, - холодно протрубил почтенный бургомистр в лицо столь же почтенному подрядчику, - я еще раз повторяю: по моим точным подсчетам, а никто в этом городе не сомневается в моей точности, ибо я не только бургомистр, но и владелец аптеки – по моим точнейшим подсчетам, у вас недостает красного кирпича в количестве ста штук.
Спорщики не заметили, что в ратуше посторонние. Герцог Фридрих подмигнул послу-гостю, а тот, не понимая, зачем они здесь, удивленно пожал плечами:
— Экие нелепые люди. И бургомистр хорош: ясный взгляд, высокое чело — и подавай ему сто штук кирпичей. Столь ничтожна жизнь этих людей, и сколько этого ничтожества растворено в море жизни!
Фридрих Мудрый выслушал очередной залп патетики и, не поднимая голоса, позвал:
— Господин бургомистр! Мой друг и гость (господи, как же его зовут?..) изъявил желание познакомиться с вами.
Бургомистр увидал наконец высоких посетителей и сразу вытянулся, на лице появилась строгость и благолепие, поклонился не без изящества.
— Герцог, с чего вы взяли, что я хочу познакомиться с этим бюргером?! — почти не приглушая звука, воскликнул посол, однако выставил бургомистру для пожатия кончики пальцев. Себя не назвал.
— Бургомистр города Виттенберга Лукас Кранах. Императорский посол на глазах превращался в глыбу льда.
Человек Лукас Кранах оскорблял бюргерством не только имя свое, он оскорблял само искусство, но тем не менее посол произнес:
— Я желал бы посмотреть ваши картины, герр Лукас Кранах!
— Извольте… — Спокойствие серых мудрых глаз и спрятанная под невыносимо простонародным, умным лбом насмешка низкорожденного над высокородным.
Бургомистр откинул полу длинного сюртука, призадумался — тут ли? — и, надумав, извлек из сюртучных необъятностей связку ключей. Большой, уверенный в себе, шел впереди, показывая гостям дорогу и заодно отыскивая в связке нужный ключ.
Гость, сдерживая до поры ярость, ступил за дверь мастерской. И — «Венера и Амур».
Женщина, обреченная на вечную красоту, бесстрастно глядела на него и правою рукой безвольно и безнадежно пыталась отстранить красногубого амурчика, дитя с недетскими глазами, но амурчик уже наложил на тетиву стрелу и приподнимал свое всепобеждающее оружие.
Гость чуть не споткнулся у этой большой картины, высокородная честь его оплавилась, он и ростом стал меньше, и золотом шитый мундир его будто бы потускнел. Засуетился, кинулся к другим холстам. Потоптался возле загадочной и беспощадной рыжей красавицы, так похожей на жену Лютера Катерину ван Бора, поцокал языком, разглядывая «Голгофу» и «Отдых на пути в Египет», — и снова к Венере.
|
|
— Это само язычество! Это сама Эллада!
— Мой поэт Филипп, — сказал герцог Фридрих, — воспевая кровать, которую герр Лукас Кранах приготовил к свадьбе сына моего Иоанна, оценил его мифологические картины следующим образом: «И это нарисовал не Парразий, не Апеллес, Аристид или быстрый Протогенес, а превзошедший их Лукас, рожденный в Кранахе, под сияющим небом Франконии».
— Это правда! Правда! — воскликнул посол и кинулся к солидно помалкивающему бургомистру-художнику. — Великий Кранах, позволь мне склонить перед тобою голову.
И разрыдался, и ему было подарено одно из повторений «Венеры и Амура».
Ладонью оберегая пламя свечи — в большом доме большие сквозняки, — старец прошел коридорами из крошечной спальни в залу мастерской.
Мастерская не запиралась. Правило, верное для всех семидесяти прожитых лет, теперь было нарушено. Герр Лукас Кранах стал приходить в мастерскую ночами. Эта новая привычка родилась в первую же бессонницу и обросла обязательными штампами процедуры.
Старец прошел на середину залы — он каждую ночь, входя в мастерскую, шел на середину и, притаив дыхание, прикрывая глаза, недоверчиво слушал одиночество. Потом он поднимал больные, гноящиеся в уголках веки и глядел испуганно и настойчиво на черные, как своды ночи, стены. Чьи-то глаза сверкали насмешливо из мрака, мерцали драгоценные одеяния, живое обнаженное тело, вдруг выступив, золотилось, обогревая холод пустоты.
|
|
Они были все здесь. И они все молчали. Он переводил дух облегченно, но и разочарованно. Чудо могло разрушить привычный ток жизни. Если бы они заговорили наконец, то он бы тогда знал. И тогда не надо было бы ночами приходить сюда и не надо было бы жить. Ведь если бы они заговорили, он узнал бы смысл совершенного им, он потерял бы ниточку своего времени и, должно быть, его расплющила бы сила, которой можно противиться. Ну а если уж сдался ей, то без возврата. Он, старец, ожидающий последнего мига в этой жизни, подчинись этой силе, наверное, вытянулся бы в линию или стал бы плоским, как стена, ибо новый облик — это единство горланящего младенца со сморщенным лицом и красной попкой, пай-мальчика, взявшегося за кисть, повесы-подмастерья, мастера, жаждущего вершин, и мастера увядающего, когда все можешь и ничего уже не желаешь, когда все суета сует и когда даже эта успокоительная истина обременительна, ибо и в ней — ложь.
По заведенному правилу он обходил залу, пряча глаза от глаз нарисованных женщин и мужчин, зажигая все канделябры и светильники.
Потом он шел к правой стене и садился в кресло.
Здесь, словно воинство римского папы, одного роста, одного цвета, одной улыбки, словно одна страница книги, самозабвенно одинаковые копии «Марии Магдалины» — верноподданническое ремесло учеников. Им не быть мастерами, они — рабы его искусства.
Эти одинаковые Магдалины — не торжество мастера? Покупателям не на что жаловаться, они получат именно такого Кранаха, каков он на самом деле. То же золото вьющихся за спиною волос, тот же взгляд золотистых глаз женщины опытной, но сердца радостного и легкого. Все еще искусительница, грешившая искренне и простодушно и столь же искренне и простодушно поднявшаяся над грехом.
Тяжелый бархат пурпурного платья, золотом расшитый подол, жемчужные цветы на маленькой груди. Синее небо, зелено-золотой ковер земли, лозы винограда, золотистые олени и оленихи.
Красота до полного умиления. Поглядеть, вздохнуть и ничего не подумать. Ничего!
Кранах поднялся вдруг, по-стариковски жуликовато подбежал к оставленной возле мольберта палитре, поколдовал кистью, подскочил к одной из Магдалин, двумя мазками нарисовал лишнюю веточку у дерева. И бегом — в кресло, словно обманул кого-то. И засмеялся. Закатился довольным стариковским смешком, хитрым и ядовитым.
Эти бесчисленные пречистые мадонны с младенцами, эти красивые Магдалины, эти пурпурно-золотые короли и королевы, точь-в-точь похожие друг на друга, разносят и еще долго будут разносить славу их создателя.
Он — бог-отец не только картин, но и людей, способных повторять его без тени сомнения, без устали, безмятежно веруя в правду и нужность своего труда, в солидность вознаграждения, а стало быть, и в благоразумие жизни.
Будущее его не беспокоит. Он был первым в Виттенберге, Аугсбурге и Веймаре. Первых не забывают.
Но как только эта мысль рождается в нем, а она рождается в нем всякий раз, когда он приходит сюда побыть наедине со всем, что есть он, как только успокоительная мысль о вечной земной жизни оседлывает его полегчавшую старческую плоть, он вскипает недоверием. А так ли распорядился мастер своим мастерством? А достойны ли его искусства люди, вечные слепцы? К холстам: прочны ли? К краскам: а не потускнеют ли через сот-ню-другую лет? К человечеству: хватит ли ему благоразумия сохранить жизнь такой, какая утвердилась?
Что есть ценности?
В смятении он бросается к противоположной стене.
«Турнир». Гравюра. Копья, лошади, покрытые доспехами, рыцари, плюмажи. Клубок. Узор из живых тел. Великолепие линий, хладнокровно высчитанное безумие композиции. Но так могли и другие. Могли и могут.
Но вот портрет Шеринга. Надлом в бровях, лицо, перекошенное не страстями или природным уродством, но работой мозга, незатухающим вулканом.
«Вам, господа, нравились портреты, где предательское искусство площадно-просто обнажало непостижимость человека.
Я умел это.
Вам, господа, нравилось женское тело. И не просто женщина, вам был нужен идол. Вам нужна была подсказка: кого любить, которые «в сей век любви достойны более других»? И вы сходили с ума по моему указу.
Вы хотели быть ближе к богу? Хотели знать, сколь страшны страсти искушения и сколь велика сила отрешивших себя от жизни людей?
Вы моими глазами глядели и будете глядеть на Лютера, на святого Иеронима, на святую Екатерину, на матерь божию и на Иисуса Христа.
С надеждою оставить след в веках вы и ваши дамы шли ко мне. Вы хотели быть красивыми. И я создал вас красивыми.
Ваша гордыня требовала, чтобы люди узнали вас такими, какими вы были на самом деле, какими вас создал бог.
И я тоже был беспощаден.
Вы хотели нимф, живого винограда, веселых мистификаций.
Я умел создать то, что от меня хотели, но это всегда было мое. Мое, которое вы принимали как ваше».
Самодовольство затопляло залу. Старик нырял, как поплавок, потому что он привык к почитанию и уже не тонул. Но он и теперь спрашивал себя, он теперь каждый день спрашивал себя об этом: «А был ли я?»
Ведь если творчество не знало сомнений и неудач, значит, тебя продиктовали. Но кто?
«А знали ли вы, как я хватал кисть и палитру и замирал перед ясной чистотой белил? И не мог преодолеть их правды, потому что любая краска казалась неправдою, изменой. Но чему?»
Художник тихонько отходил от мольберта, складывая сначала кисть, потом палитру, словно сдавался. И, поворотясь к тому миру, оранжево-веселому, который он так любил всю свою жизнь и который был цветом жизни в его время. В его — доннервет-тер! — время! И он это уловил! А если и нет, если он это выдумал, так в выдумку поверили.
Старик всхлипнул от унизительного счастья выигранного первенства. Его начинала бить тихая дрожь восторга, но глаза сами нашли покрытый белилами, для него, для великого мастера, приготовленный холст.
От него ждали последнего откровения. Но откровение могло перечеркнуть всю жизнь. Он боялся теперь белого, как в детстве боялся темноты.
Когда он умер, на его памятнике схоронившие написали «Быстрейший художник».
Польстили? Осудили?
Ошиблись.
Современники всегда ошибаются, так же как и высокомерные потомки, которые умеют все объяснить и всему найти свою полочку.
Правда за восхищением.