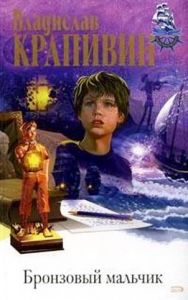 Бронзовый мальчик
Бронзовый мальчик
Купить и скачать книгу можно на ЛитРес
Часть первая. ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»
КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ
В комнате деда висела над письменным столом карта полушарий. Небольшая, чуть шире развернутой газеты. Желтовато-серая, с мелкой россыпью названий и бледными очертаниями материков. Очень потрепанная – с протертыми до холщовой подкладки сгибами, с неровными, как осколочные пробоины, дырами на пересечении этих сгибов. Вверху было написано: «Изображенiе Земнаго Шара совключенiемъ новЪйших открытiй. Ст-Петербургъ 1814».
Дед однажды объяснил Кинтелю, что карта осталась от важного чиновника, который жил в этом кирпичном двухэтажном доме в давнее-давнее время. Напечатали карту в том году, когда Александр Сергеевич Пушкин учился в школе, которая называлась лицеем, а русская армия разгромила Наполеона и вошла в Париж.
– И было еще много неоткрытых островов и земель. Видишь, даже Антарктиды тут нет, пустое море…
Пятилетний Кинтель уже знаком был с Пушкиным – по сказкам. Слышал кое-что и про войну с Наполеоном. Знал и об Антарктиде: это большая ледяная страна, где поселок Мирный и пингвины (а белых медведей там нету). На нынешних картах Антарктиду рисуют внизу, в отличие от похожей по названию Арктики, которая наверху…
Когда дед ушел, Кинтель решил исправить географическое упущение. Взял синий карандаш, помусолил его и собрался изобразить шестую часть света, как подсказывала фантазия. Однако нижний край карты висел у самой кромки стола, рисовать неудобно. И Кинтель, сидя на столе как в песочнице, отвлекся, начал разбирать мелкие буковки названий.
В верхней части Африки с частыми веснушками клопиных и мушиных следов он прочитал: «Сахара или Песчан. степь». Кинтель знал, что Сахара – громадная. Надпись же была до обидного маленькая, не соответствовала масштабу великой пустыни. И Кинтель (помусолив карандаш заново) вывел жирными печатными буквами: САХАРА.
Он заканчивал последнюю «А», когда вошла бабушка. Кинтель был снят со стола за штаны и воротник, награжден шлепком и отправлен в угол с приказом стоять и размышлять о своем пакостном поведении. Кинтель был человек спокойный и разумный. Он понимал, что в этом случае бесполезно сопротивляться и хныкать. Такое на бабушку не действовало. Действовало когда-то на маму, но мама полгода назад уехала в очень долгую командировку и неизвестно когда вернется. Поэтому Кинтель стал стоять и размышлять. Но не о поведении, которое считал не пакостным, а разумным (только бабушке это не объяснишь). Он размышлял о названии «Сахара», похожем на «сахар». Нетрудно было предположить, что пустыня (или «песчан. степь») покрыта сыпучим сахаром, который тоже называется «песок» (бабушка часто досадовала: «В гастрономе с утра песок давали, а я опять прозевала»). От этого пустыня – белая и слепящая, как снежное поле, только там не мороз, а, наоборот, страшная жара. От жары и липкой сладости хочется пить… Кинтель стоял, облизывался и вздыхал.
Конечно, Кинтель был не так глуп, чтобы всерьез поверить, будто песок в пустыне – сахарный. Просто придумалось такое. И он не стал делиться этой придумкой ни дома, ни в детском саду. Ни с кем – ни с Алкой Барановой, ни даже с лучшим приятелем Рафиком. Потому что мало ли кто как отнесется, вдруг начнут хихикать и дразнить. Кинтель этого не терпел, хотя обиду показывал редко. Он был сдержанный и деловитый.
Дед так и сказал отцу, когда тот забирал Кинтеля к себе:
– Он человек рассудительный и ответственный, у вас хлопот с ним не будет.
Бабушка умерла летом, когда Кинтель был на детсадовской даче. Его привезли утром в день похорон, и неживая бабушка показалась ему чужой, неприступно-строгой. Она словно обиделась на всех в этом мире и лежала теперь как бы отгороженная невидимым, но непрошибаемым стеклом. И подходить к ней было не то чтобы страшно, а просто бесполезно…
Среди общих вздохов, сдержанных слез, приглушенных голосов и сладкого запаха цветов и хвои Кинтель ощутил себя потерянным и никому не нужным. Он не испытывал большого горя, потому что (если уж до конца честно говорить) бабушку любил не очень сильно, побаивался. Но его давила горькая досада и угнетало первое понимание, что бывают в жизни события, перед которыми бессильно даже множество взрослых людей. События, которые переворачивают жизнь, никого не спросив об этом.
Дед с отцом говорили, что Кинтелю нужен женский глаз, тем более что мальчику скоро в школу.
– Ты теперь человек семейный, Лиза у тебя женщина разумная, а из меня какой воспитатель… – доказывал дед.
– Ладно, – вздохнул отец. – Укладывай чемодан, Данила.
Данила, Даниил, Даня – это было настоящее имя Кинтеля.
Отец жил на другом конце города, в поселке под названием Сортировка. В этом районе как раз построили новую школу и объявили, что это будет не простая школа, а гимназия, и станут в ней учиться всяким искусствам и нескольким иностранным языкам. Для такой школы и ученики требовались особые. Брали не всякого, а по конкурсу. Тетя Лиза обрядила Даню в костюмчик ярко-желтого цвета, и отец повел свое чадо на экзамен, который назывался «со-бе-се-до-ва-ние».
Долго ждали в коридоре, потому что ребят и родителей собралось много. Очень многие мамы и папы хотели, чтобы их дети стали гимназистами. Наконец строгая учительница позвала из-за двери: «Даня Рафалов!» Отец остался, Даня вошел. Спросили о том о сём: где живет, любит ли рисовать, нравится ли ему в детском саду и где работают мама и папа. Даня неторопливо объяснил, что папа работает инженером в строительно-монтажном управлении номер одиннадцать, а мама не вернулась из командировки и «видимо, у нее теперь другая семья». Дяденька и две тетеньки за столом переглянулись. Дали книжку «Рассказы о животных», попросили почитать вслух. Даня слегка удивился, стал читать про попугая ару, который живет в тропических джунглях.
– Хватит, – сказала пожилая тетя. – Молодец. – И обратилась к другим: – Это явно не детсадовский уровень.
– Кто тебя научил так читать? – спросил дядя в очках.
Кинтель слегка растерялся:
– Я… не знаю. Никто…
– Как – никто? – недовольно сказала полная тетя с красивым, только чересчур гладким и розовым лицом. – Кто-то же занимался с тобой? Папа, бабушка?..
Кинтель пожал плечами и уставился в пол. Не знал, как сказать. Ему всегда казалось, что умение читать – это с рождения. Ну или с самого раннего возраста, как умение ходить и говорить. Само собой прививается. Правда, бабушка и дедушка в давние времена показывали Кинтелю на карте разные буквы и слова. Но насколько он помнил, это было лишь для того, чтобы объяснить: старинная «ять» произносится так же, как «е», а на твердый знак в конце слова вообще не надо обращать внимания. В общем, было что-то вроде игры, а читать он и тогда вроде бы умел так же, как сейчас…
И вот он стоял и смотрел себе под ноги. И наверное, выглядел туповато. Потому что розовая тетя вполголоса сказала:
– Типичное дитя из неполной семьи… Ну и что же, что техника чтения хорошая? А в остальном явный дебил.
К несчастью, Кинтель знал, что такое дебил. Эльза Аркадьевна в детском саду это слово говорила часто. И сейчас Кинтель не то чтобы обиделся, но решил уточнить. Все расставить по местам. Маленький, аккуратно причесанный, в своем канареечном костюмчике и белых гольфах, он переступил на ковре новыми лаковыми башмачками и сообщил со вздохом:
– По-моему, вы не правы. По-моему, вы сами дебилка.
Ну и пошел мальчик Даня из школы-гимназии. Вернее, вприпрыжку двинулся за отцом, который молча и размашисто шагал к дому, ухватив сына за кисть руки.
У себя в комнате отец достал из ящика стола длинную блестящую линейку и подбородком указал на диван:
– Ну-ка, укладывайся…
Кинтель посопел, почесал о плечо щеку. Снял и аккуратно поставил рядышком лаковые башмачки. Ладонью смел с диванного пледа крошки и деловито улегся на живот, стараясь не помять парадную одежду. По опыту он знал, что спорить с жизненными обстоятельствами, когда они явно сильнее, не имеет смысла. А пускать слезы и просить прощения он считал унизительным. К тому же, спеша по тротуару за отцом, он успел поразмыслить и пришел к выводу, что назвал розовую тетю дебилкой зря, это был явный промах. А за промахи приходится расплачиваться.
Улегшись, Кинтель сбоку поглядывал на отца и старался угадать: как тот поступит? Станет хлопать линейкой по штанишкам или по голым ногам? В последнем случае боль будет липкая и горячая, придется мычать и дергаться, чтобы не зареветь во весь голос. Эльза Аркадьевна в детском саду тоже воспитывала провинившихся линейкой, такой же, и всегда старалась впечатать по голому. Правда, Кинтелю при его спокойном характере доставалось не так уж часто, а вот приятель Рафик то и дело зарабатывал «блинчики»…
Отец подышал на линейку, потер ее рукавом рубашки, и Кинтель зажмурился, приготовившись к худшему. Но тут в комнате появилась тетя Лиза. И закричала на отца. Как, мол, не стыдно поднимать руку на маленького! Да почти что на сироту к тому же!.. Где это он грубил, что такое сказал?.. Ну и правильно сказал, если эта дура с первой минуты накидывается на незнакомого ребенка!.. Ну и проживет он без этой гимназии, свет на ней клином не сошелся!..
Она подняла Кинтеля, вынесла его из комнаты, а сама осталась доругиваться с отцом.
Кинтель был, конечно, рад такому повороту. Но особой благодарности к тете Лизе не ощутил. Потому что кричала она слишком громко и усердно. Словно старалась показать: вот я хотя и мачеха, а жалею мальчика, даже отцу не дала в обиду.
Кстати, никакой обиды на отца Кинтель и не чувствовал. Отец в ту пору казался ему (видимо, с непривычки) существом верховным, выше критики и сомнений. Со временем это ощущение, конечно, рассеялось, но было уже поздно: привязаться к вечно занятому и раздражительному папе Кинтель так и не сумел.
Тетя Лиза была добрая. Иногда покрикивала, но не обижала и заботилась. Лишнюю домашнюю работу не навьючивала, а от нелишней Кинтель сам не прятался. На рынок бегал, ковры пылесосил и даже кашу варил маленькой тети Лизиной дочке.
Девочку звали увесистым взрослым именем Регина. Когда тетя Лиза вышла за отца, Регишке было два года. Она стала теперь для Данькиного отца как бы дочерью – значит, сестренкой Кинтеля. И он это принял как должное. Нельзя сказать, чтобы очень полюбил ее, но возиться с ней не отказывался, играл, в детский сад водил. И не прогонял Регишку от себя, если даже та надоедала. Потому что чего с нее возьмешь, с несмышленой… И пожалуй, о ней-то, о Регишке-мартышке, он только и грустил, когда ушел из отцовского дома.
Но случилось это лишь через четыре года, когда Кинтель закончил начальную школу.
А в том году, после «со-бе-се-до-ва-ния», в школу он так и не пошел. Вернулся в детский сад, только уже не в старшую группу, а подготовительную. И оказалось, что ничего не потерял, по крайней мере во времени. Учили здесь тому же, чему в первом классе, и сказали, что потом ребята пойдут в начальную «трехлетку», а после нее – сразу в пятый класс и там догонят тех, кто сейчас, в свои шесть лет, сделался первоклассником (так потом и получилось). Эльзы Аркадьевны в детском саду уже не было, ее уволили, всезнающая Алка Баранова сообщила, что это – за линейку. Потому что в том году началась перестройка, при которой лупить детей в садиках не полагается (разве что слегка хлопнуть ладонью).
Жаль только, что Рафика уже не было: он поступил в английскую спецшколу и пути их с Данькой разошлись…
После детсада в школу-гимназию Кинтель, конечно, не пошел, пошел в «обычную». И слава Богу, хлопот меньше. Ребята в классе были, правда, чересчур бестолковые и гвалтливые, не такие, как в садике. Но Кинтель пообжился, привык. Тем более, что учительница Вера Дмитриевна была спокойная, кричала редко и совсем не дралась.
Кстати, именно в школе Кинтель получил свое прозвище. До этого он дома был Даней и Данилой, а в садике или на улице – Рафиком. Из-за фамилии. Их с приятелем так и звали: Рафик Черный и Рафик Белый (хотя, по правде говоря, Данька был не белый, а светло-русый).
В школе же получилось так. В начале первого класса было собрание, на котором полагалось рассказывать о своих мамах-папах и прочих родственниках. У кого из них какие профессии. Даня про отцовскую работу в СМУ почти ничего не знал, а что касается мамы, то незадолго до того, в августе, пришло сообщение о катастрофе. К тому, что мамы с ним нет, Кинтель давно привык и при том известии даже не заплакал, только полдня молча просидел в уголке… А сейчас, на собрании, он стал рассказывать о деде:
– Мой дедушка был моряком…
– Врешь ты! – заявила вредная Нинка Сараева. – Моя мама знает твоего дедушку. Он работает в больнице и заведывает кадрами…
– Ну и что! Это сейчас в больнице, а раньше плавал на теплоходе «Донецк» по океану. Он был корабельный врач. У него карточка есть, он на ней в капитанской фуражке и в белом кинтеле…
Ух как все возвеселились!.. Вот так и бывает – ошибешься по малолетству в одном слове и ошибка остается с тобой на всю жизнь…
Даня уже знал, что, если тебе всей толпой приклеивают прозвище, спорить не имеет смысла. Это как раз то жизненное обстоятельство, с которым не повоюешь, надо принимать его как есть. И первоклассник Даня Рафалов принял. Тем более, что причина скоро забылась, а само по себе новое имя было совсем не плохим. В нем чудилось даже что-то морское: шкентель, вентиль, бензель, трюмсель… Данька за три года настолько привык быть Кинтелем, что ничуть не удивился, когда прозвище перекочевало за ним в новую школу. Вышло это вот почему: в классе, куда Кинтель попал после переезда, училась Алка Баранова, хорошая знакомая по детсаду. Она знала всё про всех. И тут же сообщила пятиклассникам, как зовут новичка…
В этой школе Кинтель оказался «по семейным обстоятельствам» (так дед написал в заявлении). Случилось вот что. Был уже конец августа, Кинтель помаленьку готовил учебники и тетради, а тетя Лиза все охала, что никак не может купить школьную форму. Кинтель успокаивал: форма нынче в школах не обязательна. Это услыхал отец. Он и вообще-то никогда не был особенно ласковым, а в те дни ходил особенно раздражительный: то ли на работе не ладилось, то ли с тетей Лизой чего-то не поделил. Придирался и к ней, к тете Лизе, и к пятилетней Регишке, и, само собой, к Даньке. И тут он тоже ввязался:
– Посмотрите-ка, форма ему не нужна! Охота быть разгильдяем снаружи и внутри! Нагляделся на всяких хиппи, да? Сам такой же!..
Кинтель ровно, без всякой скандальности поправил отца:
– С чего это я такой же? Ничуть не похож.
– Не похож? Погляди на себя! Зарос, как леший в чертовом урочище! Парикмахерская в двух шагах, а тебе все лето лень туда сходить!
Выгоревшие волосы у Кинтеля и правда отросли, закрывали уши и шею, но ведь у всех так в конце лета. Он объяснил, что перед первым сентября сходит и подстрижется. О чем тут шуметь?
– Не к первому сентября, а немедленно! Лиза, дай ему рубль! И марш!..
Те времена, когда Кинтель подчинялся безропотно, миновали. Он и в нынешнюю пору старался зря не спорить, но все же умел возражать, если сталкивался с чем-то совсем неразумным.
– Всего же неделя осталась. Тридцать первого схожу. А сейчас у меня и без того куча дел…
– Ты еще разговаривать будешь?! Дискуссию, как в парламенте, устраивать? Не-ет, я тебе отец, а не девочка-вожатая в лагере…
Он рывком вывел Кинтеля в прихожую, локтем прижал к себе его голову, схватил с подставки у зеркала ножницы и лязгающими взмахами выстриг в отросших волосах борозду!
– Вот так! Теперь пойдешь, никуда не денешься!
Тетя Лиза, конечно, запричитала. Кинтель вырвался, ушел в ванную. Плакал он редко, но тут, глядя на себя в зеркало, пролил тихие злые слезы. Потом умылся. Поддернул пыльные, переделанные из старых школьных штанов шорты, заправил под ремешок майку. В коридоре нахлобучил кепку с длинным козырьком и надписью «CAPITAN». Побренчал в кармане мелочью и ушел.
Парикмахерская была окраинная, народу – никого. Кинтель молча забрался на высокий стул перед зеркалом и лишь тогда стянул с головы кепку. Сказал молоденькой, славной на вид мастерице:
– Вот. Что тут можно сделать?
Та не удивилась. Тихонько спросила:
– Кто тебя так?
У Кинтеля опять скребнуло в горле. Но ведь положенную норму слез он израсходовал еще в ванной. И сейчас вздохнул только:
– Папаша психанул… Теперь под машинку, да?
– Ну нет. Попробуем что-нибудь, постараемся…
И постаралась. Получился светлый симпатичный ежик. Правда, лицо сделалось непривычно круглым и сильно торчали уши, но все-таки было гораздо лучше, чем лысая башка.
– Спасибо большое… – Кинтель полез в карман за деньгами.
– Не надо. Купи себе лучше мороженое. – И девушка добавила полушепотом: – Когда в горле щекочет, мороженое полезно…
Кинтель так и сделал: постоял в очереди за мороженым (шестьдесят копеек стаканчик), неторопливо слизал всю порцию. Он был спокоен, потому что принял решение.
Отца дома не оказалось. Тети Лизы тоже – ушла к соседке. На глазах у притихшей Регишки собрал Кинтель свою нехитрую одежонку, уложил в чемоданчик, с которым в июле ездил в лагерь. Затолкал в ранец учебники и тетрадки. Сказал Регине:
– Ну, пошел я. Не скучай…
И через час приехал к деду, шагнул в комнату, снял кепку:
– Толич, я пришел к тебе…
Имя деда было Виктор Анатольевич, а Кинтель по младенческой привычке звал его Толич.
Дед – высокий, худой, но с круглым животиком – встал над Кинтелем, глянул сверху вниз:
– Вижу… А ты чего… такой? Будто из зоны выпущенный.
– Обожди, расскажу по порядку.
– Ну, садись, рассказывай… Ты, видать, с ночевкой прибыл? Время позднее…
– Ты не понял, Толич. Я к тебе насовсем.
Виктор Анатольевич склонил голову набок:
– Д-да… Это как у Ильфа и Петрова: «Я к вам пришел навеки поселиться…» Читал? Впрочем, едва ли…
– Читал. «Золотой теленок»… Только не по порядку, там скучные места есть… Этот дядька стихами разговаривал и свет не гасил в туалете, его за это выпороли… А почему считается, что это смешная книжка?
– А разве нет? – сдержанно спросил дед.
– По-моему, жалко его…
– Ну ладно. Рассказывай.
Кинтель насупленно поведал, что случилось. И сообщил, что жить у отца больше не собирается.
– Сам видишь, мне теперь или к тебе, или в подвалы…
– В какие такие подвалы?
– Не знаешь, что ли?
Кинтель объяснил, что есть места, где зарастают сорняками фундаменты недостроенных домов. Дома эти начали было возводить, но то ли кирпича, то ли чего другого не хватило, стройки обнесли забором и оставили. Под фундаментами – обширные подвалы. Там обитают ребята, сбежавшие из интернатов и детских домов. А сбежали они, потому что детдомовская жизнь совсем невтерпеж. Сбились в компании, оборудовали в подвалах общежития… Всякие там есть пацаны, но в общем-то ничего, нормальные. Главное, живут дружно, маленьких не обижают. Правда, воровать приходится, чтобы прокормиться…
– Да кто сейчас не ворует, – закончил рассказ умудренный жизнью Кинтель. И добавил, что с некоторыми из тех пацанов знаком, сам бывал в подвалах, носил их обитателям кой-какую еду. Потому что надо же помочь людям, там среди них совсем малолетки есть…
– Знаю я про это, – нахмурился дед. – В исполкоме обсуждали не раз… Какая там жизнь! Придет милиция – и крышка!
– Ну Толич… Ну какая милиция! Подвалов знаешь сколько! А милиции даже на преступников не хватает.
– Всю жизнь в подвале не протянешь, – заметил дед. – Когда-нибудь придется выходить, думать, что дальше…
– Вот и я про то же… Толич, я буду спать где раньше, на маленьком диване. А в школу ты меня запишешь, в ту, что на улице Мичурина. Самая близкая, по месту жительства…
– Все разом решил, – хмыкнул дед. – А тебе не жаль со старой-то школой расставаться?
– Не-а… Ее все равно расселяют по разным, кого куда. Потому что на верхнем этаже потолок обвалился после ремонта. Хорошо, что летом, никого не пристукнуло…
Дед, конечно, еще возражал, пробовал уговаривать Кинтеля. Объяснял, что у него, у деда, жизнь вдовья, одинокая, воспитывать мальчишку, хлопотать о нем ему не с руки.
Кинтель сказал, что воспитывать его ни к чему. А хлопотать о себе он будет сам. И о Толиче заодно. И вообще наведет порядок в доме.
– А то у тебя вон мусор по углам и посуда немытая…
– Отец все равно не позволит, – заметил Виктор Анатольевич. – У него на тебя родительские права.
– А у тебя родительские права на него. Скажи, что не отдашь меня, он послушается.
Отец позвонил около десяти вечера. Видимо, порядком встревоженный и разозленный. Кажется, разговор он начал «не с того оборота», потому что Толич тут же вскипел и заорал в трубку, что «если у тебя что-то задницу скребет, нечего на мальчишке злость срывать! И никуда он не поедет! И не отец ты, а сукин сын! Поразговаривай еще!..».
На следующий день отец явился за Кинтелем лично. Тот, однако, уперся, Толич тоже. Был у отца с дедом крупный разговор, а в конце концов Виктор Анатольевич показал Валерию Викторовичу аккуратно сложенную фигу… Потом, правда, приутихли, договорились уже по-хорошему.
Дому, в котором жил дед, было лет двести. Двухэтажный, с высокими окнами, с лепными львиными мордами под крышей (которые большей частью отвалились). Раньше, говорят, были даже колонны перед фасадом, но после революции зачем-то их сломали. Другие дома по улице Достоевского (бывшей Купеческой) тоже были старые, но не такие большие, деревянные. Впрочем, к тому времени, когда Кинтель вернулся к деду, на месте многих домов зарастали репейниками пустыри, среди которых местами торчали круглые голландские печки. Потому что года три назад городское начальство распорядилось эти ветхие строения снести и построить здесь новый микрорайон – вроде тех желтых, причудливо изогнутых и ребристых корпусов, которые, как горный хребет, поднимались неподалеку. Но сломать сломали, а строить… К тому же и времена изменились, и начальство было уже другое… И старый каменный дом с облезлой штукатуркой по-прежнему возвышался над низкими крышами, пустырями и косыми заборами… Несмотря на обшарпанный вид, он хранил остатки былой красоты и достоинства…
После смерти бабушки дед обитал в двухкомнатной квартире один. Имелась даже отдельная кухонька. Только ванная была общая, на все три квартиры второго этажа.
В первый же день, когда Виктор Анатольевич отправился на работу, Кинтель навел в холостяцком жилище порядок. Пропылесосил истертый палас, перемыл тарелки и стаканы, расставил как надо на полках книги (многие он помнил и любил еще с прежней поры). Начистил кухонной пастой древний бабушкин самовар и старинный канделябр на столе у деда. Прибил оторвавшийся угол карты с синей надписью «Сахара». И пыль везде вытер, даже в завитках резной рамы, в которую был вставлен тоже старый, маслом писанный портрет.
На портрете была красивая дама – бабушка Толича. То есть прапрабабушка Кинтеля Текла Войцеховна Винцуковская. Строгая, с гладкой прической, в коричневом платье с высоким кружевным воротничком, она выпрямилась на стуле и держала на колене толстую небольшую книгу с застежками. Наверно, старинную.
Дед говорил про портрет, что он «так себе с точки зрения живописи». Кинтель в живописи не разбирался, портрет ему нравился, несмотря на строгий вид. Потому что Кинтель к нему привык за годы детства. И однажды (давно еще) Кинтель обиженно спросил Толича, почему «так себе».
– Оттого, наверно, что художник такой. Прямо скажем, не Рембрандт. И не с натуры писал, а с фотографии, в двадцатых годах. Бабушка заказывала в какой-то артели. Говорила: «Вот умру скоро, будет вам память…» Ну, теперь уже дело не в качестве, все равно семейная реликвия.
Фотографию, с которой была написана реликвия, Кинтель тоже видел. Она хранилась в старых бумагах у отца. На снимке прапрабабушка была не одна, справа от нее стояла курносая девочка лет двенадцати, в длинном платье с оборками и высоких ботинках. Слева – тонколицый темноволосый мальчик в гимназической форме, с твердой фуражкой в руке. Девочка была мама Толича, прабабушка Кинтеля, мальчик – ее друг детства. Никита, кажется. Он рано умер или погиб. На фотографии рядом с мальчиком (под книгой, которую держала, заложив страницу пальцем, прапрабабушка) было выцара-пано: «УМ.
Художник, может, и не очень талантливый, но старательный. Портрет получился похожий на фотографию. И аккуратный такой, с мелкими деталями. Тщательно прописаны были волосы прически, кружева и даже медные пряжки на книжных ремешках. В глазах блестели желтые точки, отчего взгляд казался живым…
Кинтель почтительно протер холст портрета, изничтожил под ним карбофосом клопиное гнездо, открыл окна и решил пройтись. Надо было восстановить контакты с местным населением. За последние три года Кинтель бывал здесь нечасто, и его наверняка позабыли.
Оказалось, что на улице Достоевского и в окрестных переулках самый главный среди пацанов некий Джула, Кинтелю вовсе даже не знакомый. Этот Джула с тройкой друзей-приятелей повстречался Кинтелю сразу, как тот побрел вдоль пустырей.
– Ты откель такой?
– Жить здесь буду. Во-он там… – Кинтель с деланной беззаботностью мотнул головой в сторону дедова дома.
– Ну-у? – удивился тощий чернявый Джула. – А прописка есть?
– А как же, – спокойно сказал Кинтель, оценивая обстановку.
– Молодец, – похвалил Джула, – куревом балуешься?
– Не-а. Здоровье берегу. У меня хронический оцепилобруцелез.
– Чего? – удивился один из Джулиных спутников, круглый, как картошка (звали его, как потом выяснилось, Кнопа). Джула тихо цыкнул на него и отозвался с пониманием:
– Дело ясное… А полтинничек найдется? За прописку-то платить надо, за нашу, местную.
«Начинается», – сообразил Кинтель. И сказал:
– Повтори, не слышу.
– Я говорю, полтинничек… – повысил тон Джула.
– Все равно не понял.
– Уй ты какая… – начал заводиться Джула. – Такой обабок, а…
Кинтель знал, что врубаться в такую компанию надо сразу. Не боясь никакого урона, без оглядки. Иначе потом будет не жизнь… Он произнес негромко, но отчетливо:
– Щас как впечатаю по… третий глаз в пупу выскочит. И побежишь пятый угол искать в… – И добавил еще несколько слов, от которых у всей компании появилось на лицах озадаченно-почтительное выражение.
– Во дает… – уважительно заметил Джула. – Ты с какой летающей тарелки сюда хлопнулся?
– Да это Данька Рафалов! – сунулся в разговор бледно-рыжий Витька Зырянов, ровесник Кинтеля. – Он здешний, он раньше в нашем доме у деда с бабкой жил…
– И сейчас опять буду тут. Навсегда, – решительно объяснил Данька. – И зовут меня теперь Кинтель. Кинтель. Такое морское слово…
Твердость позиции оценили. Джула снисходительно сказал:
– Так бы и говорил сразу. А то мы думали «дворянчик», оттуда… – Он косматой головой мотнул в сторону, где желтыми утесами громоздился новый микрорайон. Назывался он у местных жителей «Дворянское гнездо», потому что, по слухам, жили там всякие высокие чины.
– В натуре, что ли, похож? – усмехнулся Кинтель. Знал, что не похож на «дворянчика» в своих мягких штанах, стоптанных полукедах, в серой от пыли майке. Да еще со стрижкой «как у амнистированного».
– Ладно, сойдешь за «достоевского», – признал Джула. Так называли себя пацаны этой улицы и ближних окрестностей…
Словом, все кончилось нормально. Хотя не совсем. Во время этого разговора неподалеку вертелась восьмилетняя сестра Витьки Зырянова. Она скоро наябедничала матери, что соседов внук «во как выражался на улице». А Зырянова накапала, конечно, Виктору Анатольевичу.
Перед ужином дед сдержанно сказал:
– Поступили агентурные данные, что ты сегодня на улице поливал местных мальчишек такими словами… что деревья желтели раньше срока. Было?
– Толич, – со вздохом отозвался Кинтель, – а как разговаривать, если сразу карманы трясти начинают? По-французски, что ли? Как виконт де Бражелон с графиней Монсоро?
– Ты – начитанное дитя и, видимо, тертое жизнью. Только не чересчур ли?
Кинтель отозвался философски:
– Жизнь, она ведь не спрашивает, когда трет: чересчур или нет… А про Монсоро я не читал, скучная книжка. Кино видел…
– Ты не увиливай от темы…
– Я не увиливаю. Ты, Толич, наверно, боишься, что я этим самым сделаюсь… трудным подростком и всяким там наркоманом, да? Не бойся, хлопот у тебя со мной не будет.
Виктор Анатольевич, смущенный тем, что внук прочитал его мысли, пробубнил:
– Ну да, «не будет». Сам-то я кефиром и батоном поужинал бы, а теперь вот надо готовить… А вермишель почему-то вся слиплась…
– А ты ее промыл, когда сварилась?
– А разве надо?
– Горе мое, – сказал Кинтель. – Пошли…
На кухне, поливая из чайника дуршлаг с вермишелью, Кинтель напомнил:
– Завтра, как пойдешь на работу, сахарные талоны оставь мне, а то конец месяца, пропадут…
…Все это случилось два года назад, в августе восемьдесят девятого. Потом Кинтель очутился в пятом классе, в который благодаря новой программе попал сразу после третьего. Затем в шестом. Все это время жил он у деда. С отцом вроде бы помирился, но заходил к нему не часто. Лишь для того, чтобы навестить Регишку. И вот наступил еще один учебный год.
НАД ВСЕЙ РОССИЕЮ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО
В субботу седьмого сентября, в середине дня (потому что учились во вторую смену) семиклассник Данька Рафалов отправился на уроки. Настроение было по погоде. А погода была – лучше некуда. Кое-где по-осеннему желтели клены, но тепло стояло совершенно летнее. Градусов двадцать пять. И небо – без единого облачка.
Такая погода устанавливалась еще в августе, в те дни, когда шумели на площадях митинги, пестрели над головами разноцветные флаги и плакаты, студенты и «афганцы» строили на улице Ленина баррикаду и в воздухе висели слова «переворот», «хунта», «Белый дом». Белый дом, в котором президент России держал осаду, был далеко, в столице, но и здесь, в Краснодзержинске, ощутимо запахло порохом (к счастью, в переносном смысле). Девятнадцатого числа, когда только все началось, дед утром позвонил Кинтелю с работы и велел никуда не соваться из дому.
– Даже за хлебом не ходить?
– Сходишь – и сразу домой!
Кинтель, конечно, поступил по-своему. Полдня шастал по центру, слушал кричащих в мегафон ораторов, помог толпе энергичных мужиков завалить поперек мостовой троллейбус, взял у волосатого парня десяток листовок и деловито раздал прохожим. Политикой Кинтель не интересовался, но физиономию премьера, часто виденную по телевизору, терпеть не мог. Этот премьер так взвинтил цены на все товары, что соседка тетя Клава Зырянова часа два орала в коридоре и отлупила ни в чем не повинного Витьку. Кроме того, Кинтеля оскорбляла прическа премьера. После истории с отцом и ножницами Кинтель никогда уже не отращивал длинные волосы, прическа сделалась для него привычной. И вот этот премьер, который устраивал людям всякие пакости то с обменом денег, то с ценами, имел наглость делать себе такую же стрижку, как у Кинтеля. Правда, кинтельский ежик был не в пример симпатичнее премьерского, не такой маленький и торчащий. Но даже малейший намек на схожесть казался Кинтелю возмутительным… И когда люди поднялись против этого типа и всей генеральской компании, захотевшей устроить всеобщее чрезвычайное положение, Кинтель сразу понял, на чьей стороне надо быть…
Дед в тот вечер пришел поздно. Сразу сел настраивать старенькую «Спидолу», поймал радио «Свобода». Потом по шестому каналу ТВ пробилась в эфир ленинградская передача с Собчаком и указами российского президента. Дед сказал:
– Ну слава Богу, блицкриг не получился. Будем надеяться, что ни черта у генеральской сволочи не выйдет… – Потом глянул в черное, с откинутой шторой окно, грустно усмехнулся: – А погода-то сегодня днем была… Над всей Россиею безоблачное небо.
«В Москве-то, говорят, дождь», – подумал Кинтель. Но ничего не сказал. Он знал, что со слов о безоблачном небе, прозвучавших по радио (только не в России, а в Испании), начался в Мадриде фашистский мятеж. Давным-давно, когда еще даже деда на свете не было, в тридцать шестом году…
А в Краснодзержинске небо в эти дни и в самом деле было чудесное. Особенно с двадцать первого числа. Двадцатого, в полночь, прогудели, как при учебной тревоге, и дружно остановили работу главные заводы. И на следующее утро небесную синеву не портил ни один дымок…
Правда, через сутки заводы заработали снова, потому что была уже победа. Но небо (видимо, в честь этой победы) оставалось все следующие дни чистым, как синее стекло. И новенький бело-сине-красный флаг в этом небе казался особенно праздничным. Он хлопал на теплом ветру над башней горсовета, над главной площадью города, которому в эти дни срочно вернули старинное имя – Преображенск.
…И сейчас небо над Преображенском было такое же ясное. И ясно было на душе. И Кинтель, посвистывая, свернул в Камышловский переулок. По нему до школы самый короткий путь. Самый короткий – не самый быстрый. Пришлось остановиться. Четверо местных (и Зырянов тут же, и Кнопа – везде их просят!) взяли в полукольцо незнакомого мальчишку. Видать, разбор устраивали: «Кто такой, чё тут ходишь по нашей улице? Гони полтину за проход…»
Кинтель с ходу определил, что пацаненок из «Дворянского гнезда». Аккуратненький такой, не чета «достоевским» охломонам. Видать, недавно приехал в эти места, записался в здешнюю школу и не знает еще, что ходить туда надо по людной улице Челюскинцев. По переулкам и улице Достоевского для «дворянчиков» путь не безопасен.
Мальчишка был небольшой, судя по всему, пятиклассник. Потому что более младшие классы учились с утра. А шестиклассники и семиклассники, хотя форму и отменили, соблюдают солидность, в шортах в школу не ходят. Кроме нескольких пацанов из скаутского отряда «Былина». Но те всегда при своих нашивках, витых синих галстуках и аксельбантах. А этот в неформенной клетчатой рубашке – яркой, желто-сине-зеленой.
Был у мальчишки и галстук. Пионерский. Дополнительный повод, чтобы не дать человеку мирно добраться до школы. В здешних местах только Кинтелю позволялось спокойно ходить в красном галстуке. Все знали, что Кинтель делает это из принципа. Точнее, из упрямства. Первого сентября их новая классная, Диана Осиповна, сообщила, что «вопрос о пионерской организации пока неясен, она в состоянии кризиса, особенно сейчас, при нынешнем отношении к партии». Поэтому лучше, мол, галстуки не носить, чтобы школу не обвинили в «излишней идеологизации учащихся».
– Впрочем, это личное дело каждого, – добавила она и поджала губы. В прошлом году учителя еще писали замечания в дневник, если кто был без галстука, а тут – надо же! – перестроились. И Кинтелю стало противно, и с того дня он ни разу не забыл надеть галстук. Даже гладил его каждое утро. Кроме него, в седьмом «А» галстуки носили только несколько девчонок да маленький и всегда вроде бы послушный Ленчик Петраков. Когда к нему пристали было: «У, юный пионер, пережиток коммунизма», он ощетинился, как дикобраз: «Идите нафиг, я клятву давал!» Отступились. А Кинтель зауважал Ленчика. Самого Кинтеля, кстати, не трогали, будто галстука на нем не замечали, только Алка Баранова хмыкнула пару раз…
Может, этот пацан, прижатый к забору, такой же принципиальный, как Ленчик? К галстуку потянулись, мальчишка молча отмахнулся. Он прикусил нижнюю губу и переводил с одного врага на другого зеленые, широко посаженные глаза…
Среди всяких недостатков у Кинтеля был один очень досадный: слабая память на лица. Вот и сейчас показалось, что вроде бы встречал этого мальчишку. Но где, когда? Может, нынешним летом, когда был в лагере «Голубая стрела»? Там десять отрядов, каждого не упомнишь. Впрочем, не важно…
Кинтель подошел, плечом отодвинул бестолкового Витьку Зырянова:
– Ша, братва. О чем базар?
Джулы не было, самый большой тут – Эдик Дыханов, чуть постарше Кинтеля. Дых сказал с ухмылкой:
– Сидим на лавочке, никого не трогаем. И вдруг этот, из Дворянского… Идет в своих белых носочках, как по ковру, не здоровается с местным населением. Мы говорим: «Скажи, мальчик, «здрасьте». А он…
– Обойдешься, Дых, без «здрасьте», – сказал Кинтель.
А прижатый мальчишка глянул на него удивленно и, кажется, с радостью. И знакомо так… Почуял избавление?
– Кинтель, ты чё, – обиделся Дых. – Из-за такого фраера на своих скребешь?
– Сам ты фраер, – лениво разъяснил Кинтель. – Что за привычка врагов искать? Идет человек, вас не задевает… Между прочим, ко мне идет, не к вам… Айда, Саня… – Кинтель взял мальчика за руку. Он, конечно, рисковал: Дых мог сообразить, что мальчишка шел не к дому Кинтеля, а в другую сторону. Однако Эдька только захлопал глазами.
Имя Кинтель сказал наугад. А точнее, что-то припомнилось. И кажется, угадал: мальчик улыбнулся, открыв крупные редкие зубы, поддернул ремень спортивной сумки.
– Да, пошли, конечно.
– Чё, в натуре, что ли, кореш твой? – сказал им вслед Эдька Дых досадно и ревниво. Кинтель не оглянулся.
Когда свернули на улицу Мичурина, Кинтель выпустил руку мальчишки. Тот смотрел со смесью смущения и доверчивой радости.
– Здравствуй! А я и не знал, что ты здесь живешь. Ты ведь тогда не успел оставить свой адрес…
Кинтель, размышляя, сделал несколько шагов. Потом, глядя под ноги, проговорил насупленно и решительно:
– Ты хоть обижайся, хоть что… но я не помню, где мы встречались.
– Да? – Мальчик вежливо постарался сдержать нотку разочарования. – А откуда знаешь, как меня зовут?
– Ну… так, от фонаря.
Мальчик на ходу чуть отодвинулся от Кинтеля. Коричневой ногой в белом носочке и новенькой сине-желтой кроссовке пнул на асфальте пивную пробку-звездочку, та запрыгала, заискрилась. Потом он спросил слегка отчужденно:
– А если не помнишь, зачем же стал заступаться… за незнакомого?
– Ну а что? За незнакомого нельзя? Если четверо на одного…
Мальчик Саня сказал непонятно:
– Тогда… тем лучше… – И добавил уже иначе, беззаботно: – А встречались мы прошлым летом на теплоходе. На «Михаиле Кутузове». Помнишь?
– Ой… Салазкин!
ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ
Судно было новое, громадное, длиной сто тридцать метров. Четырехпалубное. Когда оно подходило к дебаркадеру какой-нибудь прибрежной деревеньки на «зеленую стоянку», казалось, домики прижимаются к земле, как стайка маслят в траве. Будто надвигается на них белый многоэтажный город и вот-вот подомнет под себя…
Впрочем, «зеленые стоянки» не вызывали у пассажиров энтузиазма. Мокрая трава, серое небо… Все было хорошо в этом плавании, кроме погоды. Дули зябкие ветры, иногда швыряли в «Кутузова» горстями колючие дожди. Погудев и включив марш «Прощание славянки», теплоход, как айсберг, отваливал от берега и уходил на пасмурный простор реки. Туристы сидели в каютах и салонах. Торчали у окон или смотрели в кинозале видяшки.
Но Кинтель много времени проводил на палубе. Точнее, на палубах. Чтобы не озябнуть без движения, он поднимался и опускался по трапам, обходил от кормы до носа и обратно одну палубу за другой. Смотрел на подернутые моросью берега, где медленно плыли назад высокие леса, села с колокольнями, похожие на сказочные городки монастыри и просторные, как тысячи стадионов, луга… И уравняв свою скорость со скоростью теплохода, реяли над кормой чайки. Крупные – совсем белые, а поменьше – с черными головами. Ровно бурлила у бортов вода…
Когда Кинтель оказывался на носу, он часто видел там этого мальчишку. Тот кутался от ветра в большую (наверно, у матери взял) поролоновую куртку и стоял всегда у поручней, отгораживающих бак – носовую площадку с запасными якорями и с брашпилями, на которую вход пассажирам был запрещен. Ветер вскидывал у него, будто крылья, коричневые волосы, а мальчишка не отворачивался, смотрел вперед.
Иногда появлялась молодая красивая женщина, говорила негромко, но отчетливо и звонко – так, что было слышно далеко:
– Салазкин, опять ты здесь. Пойдем, а то совсем продрог.
Мальчик не спорил, уходил с мамой. Но скоро вновь оказывался у поручней бака.
Встречал Кинтель Салазкина и в других местах. Тот обитал с матерью и отцом (худым дядькой в больших очках и с профессорской бородкой) через три каюты от Кинтеля. И в ресторане их столики были недалеко друг от друга. И Кинтель скоро поймал себя на том, что приглядывается к этому мальчишке больше, чем к другим ребятам. Сперва он посматривал на Салазкина со спрятанной в себе снисходительной усмешкой. Мальчик был ужасно благополучный, выросший в семейном тепле, при неустанных маминых заботах. Забота эта сказывалась в мелочах, которые украдкой подмечал Кинтель. В том, как мать во время обеда незаметным шепотом учит сына держать нож и вилку, как поправляет на нем воротничок и как из каюты окликает его в коридоре: «Салазкин, ты куда? Пожалуйста, не убегай надолго!»
 »Небось на скрипке играть учится, – думал Кинтель. – Или на фигурное катание ходит… А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень… Хотя, скорее всего, он из спецшколы – из музыкальной или английской, там все такие…»
»Небось на скрипке играть учится, – думал Кинтель. – Или на фигурное катание ходит… А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень… Хотя, скорее всего, он из спецшколы – из музыкальной или английской, там все такие…»
Салазкин не стеснялся приласкаться к родителям на глазах у посторонних. Подойдет, потрется о локоть матери щекой, как котенок, или подкрадется сзади к отцу, прыгнет на спину и повиснет, болтая худыми ногами в черных колготках. Мама одевала свое дитя, как детсадовского мальчика. «В третьем классе, наверно, а все еще как дошкольник – внутри и снаружи», – думал Кинтель.
Впрочем, в размышлениях Кинтеля не было никакого недоброго чувства. Был стыдливый интерес, которого Кинтель стеснялся даже перед собой. Потому что получалось, что он вроде бы заглядывает в чужое окно. В чужую жизнь, где рядом с мальчиком есть мама и папа, где можно позволить себе быть маленьким – доверчиво, без оглядки, без страха.
Если представить человеческую душу в виде пчелиных сот и если предположить, что душа тем счастливее, чем больше ячеек заполнено радостью и любовью, то полного счастья Кинтель не смог бы достигнуть никогда. В самые блистательные моменты жизни одна ячейка все равно чернела бы сиротской пустотой… Нет, Кинтель не жаловался. С Толичем жилось неплохо. Без сомнения, дед его любил. Но так же несомненно, что между любовью деда и маминой любовью – большая разница… А отец жил своей жизнью и Кинтеля вспоминал от случая к случаю…
Завидовал ли Кинтель Салазкину и другим ребятам, которые плыли на теплоходе с родителями? Пожалуй, нет. Какой смысл завидовать той жизни, которая несбыточна? Он только ощущал себя как бы отгороженным, не совсем таким, как остальные, – те, что всегда с отцами и матерями. И видимо, потому не сошелся ни с кем из мальчишек и девчонок на «Кутузове». Только издалека он смотрел на чужую семейную жизнь, ревниво подмечал у ребят и взрослых неповторимые черточки этой жизни: неприметную ласку или нарочитую ворчливость родителей в отношении к своим чадам, умение понимать друг друга без слов, какие-то забавные привычки – вроде той, когда мать зовет сына по фамилии: Салазкин…
Однако скоро Кинтель понял, что Салазкин – не фамилия, а домашнее прозвище мальчишки. Потому что отец иногда окликал его «Саня», мать порой ласково звала «Санки». Ну и ясно: Сани-Санки-Салазкин. А фамилия у него была Денисов. Кинтель это узнал, когда шли по Рыбинскому водохранилищу.
Плавание только начиналось, но Кирилл Георгиевич – специальный человек, отвечающий за развлечение пассажиров – к тому времени уже устал унимать ребят всех возрастов, которые носились там и тут по теплоходу, лезли куда не надо. С утра до вечера он уговаривал по радио родителей следить за сыновьями и дочками. И наконец решил взяться за воспитательную работу. Попросил всех ребят собраться в музыкальном салоне и объявил, что в конце путешествия будет большой концерт детской самодеятельности (с призами!), а пока надо выявить таланты. Кто что может. Петь, читать стихи, танцевать, играть на пианино…
Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. И этот «детский праздник на лужайке» его мало интересовал. Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора и смотреть, как серый простор катит навстречу пенные валы. Рыбинское море разгулялось. Громаду «Кутузова» даже покачивало – палуба иногда мягко уходила вниз, и это вызывало легкое, приятное замирание. Неподалеку шел параллельным курсом длинный низкий сухогруз, и видно было, как белыми взрывами – выше рубки – встает у него перед носом штормовая вода. Над баком «Кутузова» тоже взлетали гребни. Ветер подхватывал брызги и клочья пены, швырял их на стекла, хотя салон был аж на третьей палубе. И не разглядеть было берегов. В общем, как в настоящем море (которого Кинтель еще ни разу не видел)…
А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихотворения, кто-то бацал на клавишах нехитрые мелодии, семилетние близнецы Вера и Вовчик, несмотря на покачивание, умело станцевали ламбаду. Толстая девочка Рита спела «Эскадрон моих мыслей шальных», и ей очень хлопали… Надо сказать, что всё музыкальное сопровождение песен и танцев взяла на себя мама Салазкина. И вот он сам вышел к пианино.
Кирилл Георгиевич объявил:
– А теперь Саня Денисов из города Краснодзержинска споет…
Кинтель не расслышал названия песни. Его удивление было похоже на мягкий толчок. Значит, они из одного города! (А собственно говоря, чему радоваться? Не все ли равно? Зачем ему этот мамин Салазкин?..)
А Саня Денисов о чем-то шепотом препирался с матерью. Кинтель разобрал его тихо шелестящие, но упрямые слова: «А другую я не буду… Тогда никакую не буду…» Надо же, мальчик умеет спорить с мамой…
Мать Салазкина слегка пожала плечами, улыбкой прикрыла от собравшихся минутный конфликт и заиграла. И Саня Денисов запел.
Голос у него был совсем не сильный. Голосок. Но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу проникающим в сознание тоненьким звоном. И песня была… не о кузнечике, не о солнышке и улыбке, не о теплом дождике и прочих детсадовских радостях. Мелодия показалась Кинтелю знакомой, чем-то похожей на тот же «Эскадрон», хотя и не такая залихватская. А слова… Никогда раньше Кинтель их не слышал.
Над волнами нам плыть,
По дорогам шагать,
Штормовые рассветы встречать.
Нам коней горячить,
Догоняя врага,
Карабины срывая с плеча…
В каждом куплете две последние строчки Салазкин повторял дважды. Песня звенела, и многочисленные звуки «ч» («горяЧить», «с плеЧа») энергично врубались в мелодию, словно подчеркивая кавалерийский ритм.
И быть может, в траву
Упадем мы с тобой,
И рассвет не пробьется в ночи.
Но трубач ни за что
Не сыграет отбой -
Не смогли мы его научить…
Мы учили его:
Если грянет беда,
Звать в атаку друзей за собой.
Наш трубач никогда,
Никогда-никогда
Не слыхал о сигнале «отбой»…
Кинтель задержал дыхание… Казалось бы, песня как песня, что такого. Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка. Потому что пел Салазкин вроде бы и не на маленьком концерте в салоне, а на крепостной стене, среди побитых ядрами каменных зубцов. Словно сам он был маленький трубач осажденного войска и бросал врагам последний вызов.
Скоро день расцветет,
Словно огненный клен,
Голос горна тревожно-певуч.
Поднимайся, мой мальчик,
Рассвет раскален,
Бьется пламя под крыльями туч…
Помолчали сперва, потом захлопали – сильнее, сильнее. Салазкин стоял, потупившись, перебирая на подоле синего свитера шерстинки… А Кинтель встал и осторожно, за спинками кресел, выбрался к выходу. Потому что никаких других песен, а тем более стишков и «легкой музыки» ему было не надо.
Кинтель был неравнодушен к трубачам. Такой уж, наверно, он уродился несовременный. Старинные печальные марши духового оркестра волновали его гораздо больше, чем хитрые ритмы синтезаторов и электронных гитар. От посторонних Кинтель это свое увлечение, конечно, скрывал: обсмеют с головы до ног. И только с дедом они иногда по вечерам ставили на проигрыватель пластинку, с которой неслись трубные голоса двенадцатого года и Севастопольской обороны. А еще – мелодии вальсов, которые в давние-давние времена (когда была молодой прапрабабушка Текла Войцеховна) играли в садах и на бульварах военные оркестры.
А один раз Кинтель чуть сам не сделался музыкантом в оркестре. Это еще когда он жил с отцом. В двух кварталах был детский клуб «Орбита», и в нем занимался ребячий духовой оркестр. Упругие звуки волторн и геликонов слышны были даже сквозь двойные стекла.
Как-то раз, весной третьеклассник Кинтель прижался носом к окну и увидел оркестр при полном параде. Наверно, шла генеральная репетиция. Все ребята (даже девчонки) были в алой гусарской форме и черных лаковых киверах с золотыми кистями. А трубы сияли так заманчиво, марш звучал так призывно, что Кинтель не выдержал – через несколько дверей и коридор проник в зал.
В перерыве его заметили, но не прогнали. Высокий дядька с черными глазами и с бородой, как у Емельяна Пугачева на портрете, поставил Кинтеля перед собой и спросил:
– Что, явился на звуки труб?
– Ага… – выдохнул Кинтель. – А мне можно… у вас?
– В принципе можно. Только подрасти сперва.
– А… сейчас?
– У нас с двенадцати лет занимаются. Понимаешь, надо, чтобы легкие были покрепче, зубы попрочнее…
Кинтель набрался смелости и сказал, что он и сейчас вполне прочный. Весь, от макушки до пяток.
– Можно я только попробую…
– Ну попробуй, – усмехнулся чернобородый.
Кинтелю дали серебристую трубу. Вроде пионерского горна, только длиннее. Называется «фанфара». Кинтель дунул, получилось шипение. Все засмеялись, но не обидно. Потом объяснили, как прижимать к губам мундштук и как толкать сквозь них воздух. Называется «атака языка». Кинтель попробовал разок, другой. Выдал хриплые звуки. Потом зажмурился, настраивая себя на серьезное дело. Сильно напряг губы. И у него получилось четыре разных звука, четыре чистые ноты. При этом кончик языка задрожал, и музыка вышла трепещущая, переливчатая.
– Ух ты, какое тремоло! – удивилась девочка с флейтой.
А бородатый руководитель сказал, что «мелодия почти как у Чайковского».
– Будто начало «Итальянского каприччио». Ну-ка, еще раз.
Кинтель попробовал снова. Получилось уже не так удачно, однако все зааплодировали.
И все же в трубачи Кинтеля не взяли. Сказали, что директорша клуба все равно не позволит. Но разрешили Кинтелю приходить на занятия и считаться запасным. И обещали, что, может быть, научат играть на барабане. Барабан, конечно, не сверкающая труба с живым голосом, но Кинтель был рад и этому. Тем более, что бородатый Вадим Петрович обещал подобрать для Кинтеля мундир и кивер.
Но скоро все рухнуло. Вадима Петровича прогнали из клуба и грозили ему всякими неприятностями. Говорили, что он занимается с ребятами нехорошими делами. Кинтель не понимал, что это такое. А когда ему объяснили, содрогнулся от отвращения и не поверил. И ребята говорили, что все это брехня, просто директорша невзлюбила Вадима за строптивый нрав и решила таким образом выжить его из «Орбиты». Впоследствии выяснилось, что так и было. Но в клуб Вадим Петрович не вернулся, стал играть в джазе какого-то ресторана. А оркестр без него распался…
РОДОСЛОВНАЯ
Поздно вечером Кинтель в своей каюте лежал, смотрел сквозь стекло на звезды в разрывах облаков и вспоминал песню о трубаче. Слова наполовину позабылись, но мелодия в голове повторялась ясно. И уже не пианинная, а будто целый оркестр. Вплеталось в журчание забортной воды.
Теплоход больше не качало. Ветер стих, да и водохранилище кончилось, вошли в Шексну. Дед посапывал на соседней койке. Ему, как и Кинтелю, нравилось плавание, хотя сперва он был расстроен.
Случилось вот что. Была у Толича давняя знакомая, тетя Варя (Кинтель ее тоже хорошо знал). Она часто приходила к деду, помогала по хозяйству, порой по-свойски ругала Кинтеля за школьные неуспехи. Иногда они с дедушкой ходили в театр или на выставки. В общем, близкие друзья. И эта тетя Варя в мае добыла в профкоме две путевки для такого вот плавания. От Москвы до Ленинграда, по Волго-Балту, по Ладоге, потом обратно по Волге, до Казани, и снова в Москву. На целых три недели путешествие. И собирались они вдвоем: тетя Варя и Толич. А для Кинтеля отец купил путевку в лагерь «Голубая стрела» (бывший пионерский, а сейчас оздоровительный). Что ж, каждому своё. Кинтель и не помышлял о дальнем плавании. В лагерь не очень хотелось, но куда деваться?
А за несколько дней до их общего отъезда у тети Вари заболел отец в Омске. Серьезно. Тут уж не до туризма, тетя Варя срочно укатила в Омск, а теплоходная путевка досталась Кинтелю (лагерную же быстренько сдали).
Конечно, нехорошо радоваться удаче, которая случилась из-за чужой беды. И все же Кинтель был счастлив. До той поры он, кроме как на детсадовскую дачу да в пионерские лагеря, никуда из своего Краснодзержинска не ездил. А тут: поездка в Москву, а потом по рекам и озерам, через десятки разных городов аж до самого моря. Потому что известно: Ленинград стоит у начала Финского залива, а это уже часть Балтики…
Дед на радостного Кинтеля поглядывал как-то настороженно, потом с непонятной опаской заметил:
– Ну и ладно. А то я боялся, что ты не захочешь…
– Почему?
– Ну… на теплоходе все-таки. Вдруг у тебя предубеждение…
Кинтель сперва не понял, потом спросил прямо:
– Это из-за мамы, что ли? Потому что она погибла на пароходе?
Толич неловко вздохнул.
Кинтель хмуро пожал плечами. Разве море виновато, что в нем гибнут люди? Виноваты были неумелые капитаны, из-за которых два судна врезались друг в друга… А на суше сталкиваются поезда и автомобили, так что теперь? Не ездить, не ходить по земле? И не любить ее?.. Нет, Кинтель не боялся плыть, а увидеть море мечтал давным-давно.
Теперь уже скоро… «Скоро, скоро, скоро», – еле слышно дышали в глубине плавучего города машины. И опять в этот ритм вплеталась, начинала звенеть в мозгу песня о трубаче, который стоит между крепостных зубцов… Или на бруствере окопа…
Кинтель по дыханию деда чувствовал, что тот не спит. Может, думает опять: как там тетя Варя и ее отец? (Толич звонил в Омск с каждой пристани, где были междугородные автоматы.)
– Толич?
– Ну, чего тебе?
– Ты не переживай, все у них будет нормально.
– Я и не переживаю. Вчера Варя сказала, что дело на поправку пошло…
– Ну вот. А ты вздыхаешь. А я буду виноватый, что вместо тети Вари с тобой поехал…
– Не выдумывай. Дурень…
– Ага… Толич, а помнишь такое старое кино про гражданскую войну: там белые наступают на красных, а у тех все меньше и меньше людей. И оркестр играет марш, но в нем люди тоже гибнут один за другим. И вот уже только один трубач. И все равно играет, назло врагу…
– Да, это впечатляло… – сказал Толич. – Это «Мы из Кронштадта»…
– Хорошее кино, верно?
Рассказать напрямую про песню о трубаче Кинтель стеснялся. А дед ее не слышал, в салоне тогда его не было.
Виктор Анатольевич отозвался со скрытым несогласием в голосе:
– Ничего картина, в свое время пользовалась успехом… Но есть и другие фильмы о трубачах. Не хуже…
– Какие?
– Например, «Бег». По пьесе Булгакова. Читал у него что-нибудь?
– Знаешь ведь, что читал. «Мастера и Маргариту».
– А еще есть у него роман «Белая гвардия», и пьеса «Дни Турбиных», и пьеса «Бег». Там не раз повторяется эпизод, как русский полковник приказывает юнкерам разойтись по домам, не вступать в бой с петлюровцами, чтобы не гибнуть напрасно. А несколько офицеров решают застрелиться, и с ними юнкер-трубач, совсем мальчишка.
– Зачем застрелиться?!
– Ну… кодекс офицерской чести.
– А если они белые, то почему воевали с петлюровцами? Те ведь тоже… против красных.
– Ты, Данила, все еще мыслишь, как в школьном учебнике. На два цвета. А все было гораздо сложнее. И смелых людей хватало под всякими флагами…
– Да знаю я…
– И всем бы надо поставить памятники.
«Трубачу-то уж точно…» – подумал Кинтель. А дед гнул свою, видимо, давнюю мысль:
– Иначе что получается? Сегодня одним ставим памятники, другие сбрасываем… Завтра – наоборот…
– Как Павлика Морозова, – вспомнил Кинтель бронзового мальчика в одном из городских скверов. Тот с головы до ног был обляпан мутно-серой краской, а постамент измазан грязью.
– Вот именно! – повысил голос дед. – Задурили деревенскому мальчугану голову, поманили светом, которого он до той поры не видел, сами толкнули на смерть. А теперь кричат: «Предатель!» И забыли уже, как ему и братишке кухонным ножом распороли животы…
Кинтеля передернуло.
– А кино… – продолжал дед, – оно, конечно, всегда за душу берет, если режиссура сильная. И если не знаешь всего…
– Чего «всего»? – настороженно спросил Кинтель. Мелодия в голове угасла, спать не хотелось, тревожно почему-то стало.
– Ну, те же «Мы из Кронштадта». Помнишь, как белые пленных матросов с обрыва сбрасывали? И мальчишку, юнгу… Я в детстве когда смотрел, хотелось прямо на экран броситься, голыми руками давить гадов… А потом узнал…
– Что?
– Сцену эту снимали под Севастополем, на черноморских обрывах. Сколько там красных матросов погибло, не знаю, а вот белых офицеров… Когда красные брали Крым, Фрунзе обещал, что никого из пленных не тронут. Многие поверили, сдались. Кто-то не сумел уйти на кораблях союзников, кто-то не захотел: родная земля все-таки… Их потом выводили на обрывы, шеренгу за шеренгой, и косили из пулеметов. Беззащитных, десятки тысяч… – Дед вдруг закашлялся, как старый курильщик, хотя на самом деле уже не курил… – Представляешь, не десятки человек, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч. Можно сравнить с населением небольшого города… А за что? Россию они любили не меньше, чем Фрунзе или Тухачевский и другие знаменитые большевики…
«Дед, а ты ведь тоже коммунист», – чуть не выдал мысль Кинтель. Но прикусил язык. Некоторое время лежал молча. Но дед, видимо, почуял вопрос. Он покашлял и вдруг сказал тихо и медленно:
– В институте, на старшем курсе… наш парторг провозгласил: молодые специалисты должны пополнять ряды КПСС. Видать, в райкомовских планах случился недобор по части молодежи… Ну и подкатил этот деятель ко мне. Давай, мол, ты у нас по всем статьям подходящий, на красный диплом тянешь… Нельзя сказать, чтобы я рвался вступать, но, с другой стороны, все-таки «передовой отряд». Кроме того, многого мы тогда просто не знали в нашей истории. Хотя многое и знали… но думали – дело прошлое. А к тому же у меня распределение готовилось в Морфлот, а кто бы мне открыл визу для загранплавания, если бы узнали, что я отказался писать заявление о приеме… Вот так и получилось. Теперь уж почти три десятка лет стаж. Трижды пытались выгнать, не получилось…
– А за что выгнать-то?
– За всякое. Тогда ведь как было? Что-то не так сказал или на работе недосмотрел, сразу: «Партбилет положишь на стол!» Последний раз я не выдержал, заорал: «Ну и подавитесь вы им!» Это было вскоре, как бабушка твоя умерла… Уж что поднялось в парткоме! Крик, экстренное собрание… Ну, не выгнали, учли «состояние, вызванное личными мотивами», дали строгача…
– С занесением? – понимающе спросил Кинтель.
– Естественно… Теперь думаю: может, стоило тогда хлопнуть дверью. Ну поперли бы с должности, ушел бы участковым терапевтом в районную поликлинику. Кое-что помню еще…
– Это никогда не поздно, – философски заметил Кинтель.
– Да теперь и хлопать-то… никакой доблести в этом. Сейчас толпами из партии бегут. Немудрено. Как послушаешь нынешних партбоссов… Нынче вот тоже по радио выступал один. Генерал, фамилию не помню. Такой комиссар-сталинец, аж волосы дыбом. Ты не слыхал?
– Не-а…
В те дни шел съезд Российской компартии, взрослые слушали передачи, обсуждали, спорили. Кинтелю было это «до фени». Но он все же вспомнил:
– Мужики сегодня ругались, вспоминали речь какого-то генерала. Одни говорят: совсем обалдел, мало ему тридцать седьмого года. А другие: правильно, только такие и могут навести порядок…
– Они наведут, дай им только власть. В Тбилиси вон уже репетировали… Не постоят и за тем, чтобы как тогда, в Крыму: по шеренгам из пулеметов… Кстати, мама моя, твоя прабабушка, Ольга Антоновна, проговорилась мне как-то, что именно там погиб ее хороший друг, с которым они в детстве играли…
– Это, что ли, тот, с которым они на фотографии?
– На какой?
– Ну, на той, с которой портрет срисован. На портрете твоя бабушка одна, а на фото – с девочкой и с пацаном-гимназистом. Девочка – это, значит, твоя… мама.
– А где ты видел эту карточку? – очень оживился дед. Шумно завозился в сумраке.
– У отца в ящике. Старинная, твердая такая, на обороте всякие завитушки и надпись: «Фотография А.Ф. Молохова». По-старинному написано, буква «и» как латинская, а «эф» будто «о» с перекладинкой. «Фита»…
– Вот оно что… Слушай, а ты не помнишь, там нет всяких мелких цифр? Они острым карандашом были написаны, не очень заметно…
– Есть, по-моему. Только полустертые, я не приглядывался.
– Значит, вот он где, этот фотоснимок. А я все думал: куда девался? Выходит, Валерий прихватил, когда разъезжались, и ничего не сказал.
– Толич, а что там за цифры?
– Мама говорила, Никита ей на этой карточке письмо написал. Шифром. Это перед отъездом на фронт, когда он в четырнадцатом году уходил добровольцем на Первую мировую. А потом он оказался в армии Врангеля, там и погиб… А фотографию мама берегла как память о нем. Ну и вообще о детстве…
– А письмо расшифровала?
– Говорила, что нет… Он ей будто бы сказал на прощанье: «Ключ у твоей мамы в руках…» А в руках у нее книга. Помнишь?.. Думаю, что книга потерялась к тому времени… А может, мама тогда и не приняла это всерьез. Он же, Никита-то, еще совсем был мальчишка, когда на войну ушел. Наверно, решил поиграть на прощанье. Или сочинил очередное признание в любви…
– А что за книга?
– Не знаю, Даня, я не спрашивал. Мама вообще про всякие прошлые дела говорила неохотно. Друг детства – белый офицер, такими деталями биографии раньше хвастаться было не принято. Тем более, что и других тревог хватало…
– Похоже, что это Евангелие, – сказал Кинтель, вспомнив пухлый томик с застежками. – Я такие в музее видел.
– Возможно, и скорее всего, на польском языке. Бабушка Текла Войцеховна была очень набожная католичка.
– Толич, а она самая настоящая полячка была?
– Да, полька… Родом из Вильно. В Литве всегда было много поляков… Кстати, бабушка утверждала, что она из семейства каких-то польских графов – обедневших, но известных. Будто предок ее был сподвижником Стефана Батория. Жаль, не помню ее девичью фамилию… Но так или иначе, в тебе, Данила, есть капля голубой шляхетской крови… – Дед усмехнулся в темноте.
– Значит, я не совсем русский, а маленько поляк?
– На одну восьмую… А я – наполовину. Мама-то моя тоже исконно польских кровей. Ее отец, мой дед, Антон Винцуковский, был из семьи польских ссыльных, что жили в Преображенске. А с бабушкой познакомился в Вильно и после венчания привез ее в наш город. В тот самый дом, где мы и сейчас живем.
– Небось это был его собственный дом?
– Нет. Управления горных заводов. Здесь жил отец Антона, мой прадед, он был в Управлении каким-то важным чиновником и занимал казенную квартиру. Не ту, что мы с тобой, конечно, а весь этаж… Там и мама моя родилась и была тоже Винцуковская, пока не вышла замуж за Анатолия Рафалова. Твоего, значит, прадедушку…
– «Тени забытых предков», – сказал Кинтель в темноту, – кино такое есть. В мае показывали по телику.
– Знаю. Ну и как тебе кино-то? Понравилось?
– А я не смотрел, некогда было. Просто название вспомнилось…
– Ну, наши-то предки не такие уж забытые. Просто у нас с тобой до сей поры не было разговора об этом…
– А Рафалов… Толич, это ведь тоже не совсем русская фамилия. Какая-то… вроде как с татарским оттенком. Про нас с Рафиком Галиевым в детском саду думали, что оба татары. И мы говорили «ага», потому что всегда вместе…
– Н-нет… это русская фамилия. Тут целая история по отцовской линии…
– Расскажи.
– Тут такое дело… Раньше фамилия писалась «Рафаиловы». Был в русском флоте фрегат «Рафаил». Служил на нем квартирмейстером (это вроде старшины) некто Иван Гаврилов. А когда вернулся к себе на село, недалеко от Преображенска, стали соседи звать его Рафаиловым – по названию корабля, с которого пришел. Потому что много Иван Гаврилов про свой фрегат говорил, отстаивал, так сказать, его доброе имя… У Ивана Рафаилова были дети, один из них, Петр Иванович, преуспел в делах, сделался лавочником в Полевской слободе под Преображенском. И стал писать на вывесках не «Рафаилов», а «Рафайлов». Говорят, книгочей был, много денег на книги тратил, сына своего, тоже Петра, отдал в гимназию. Тот выучился, пошел, как тогда говорили, по железнодорожной части. Был начальником станции недалеко от Глазова. И погиб в колчаковской контрразведке.
– Почему?
– Когда белые подходили, они передали телеграмму: не выпускать со станции красный санитарный поезд. А Петр Петрович Рафайлов выпустил. Потому что знал: постреляют, порубят красных. Тогда лютовали одинаково – что красные, что белые… Ну и взяли его, Петра Петровича. Допрашивали, били. Особенно когда узнали, что сын его Анатолий ушел с красными…
– Твой отец?
– Будущий отец… Петр Петрович пытался бежать, часовой его застрелил… Анатолий, когда вернулся из Красной Армии, приехал в Преображенск, надеялся застать там своего престарелого и разоренного новой властью деда. Но тот уже умер. И тут Анатолий познакомился с Ольгой Антоновной, моей будущей мамой, и увез ее в Вятскую губернию…
– Зачем?
– Видишь ли… Ну, наверно, теперь это можно рассказывать без опаски. Дело в том, что Анатолий Петрович вернулся с гражданской войны вовсе даже не коммунистом. До войны он учился в семинарии и вот после всех военных передряг решил стать священником. Не знаю, учился ли он для этого еще где-то. Может, были в ту пору какие-то ускоренные курсы священнослужителей. Так или иначе, скоро получил он сан и приход в небольшом селе, в сотне верст от Вятки. А мама моя стала, как говорится, попадьей…
– Странно как-то. Был красным и вдруг… Красные ведь были против Бога и попов…
– Ну, значит, насмотрелся на кровь, решил, что без Бога нельзя на Земле… Сейчас вот опять к тому же приходят… Видать, он крепко был убежден в своей вере, иначе бы не пошел на такое дело. В ту пору сделаться священником было уже небезопасно… До тридцатого года, однако, жили они с мамой без особых бед: отец в церкви служил, мама хозяйствовала. Родился у них сын Володя, мой старший брат. Я его помню, он с фронта приезжал, когда мне было пять лет, в сорок четвертом. А в сорок пятом погиб…
– А в тридцатом-то что случилось?
– Обычное дело. Церковь закрыли, отца посадили. Правда, через полгода выпустили, повальной охоты за «врагами народа» тогда еще не было. Но от сана священника ему пришлось отказаться, стал работать десятником на лесоповале. Однако недолго. Однажды пришел к нему украдкой начальник местного НКВД и говорит: «Отец Анатолий (это он по привычке так), вы человек добрый, хотя и церковный деятель были, и никто от вас ничего, кроме хорошего, не видел, а я, хоть и большевик, не хочу грех на душу брать. Поэтому прямо сейчас уезжайте вы, ради вашего Иисуса Христа, куда-нибудь отсюда подальше. Потому что есть бумага на вас, и сегодня ночью я должен за вами прийти с понятыми…» Ну, отец, и мама, и Володя семилетний тогда подхватились – в Преображенск. Потому что куда еще-то? А там родные. Мамины родители были живы еще и старший брат… У отца был какой-то документ, что, мол, предъявитель сего имеет право быть учителем в начальной школе. Еще с царским орлом бумага, но ничего, сгодилась. Мамин брат помог устроиться на работу… А потом отец окончил учительский институт и до самой войны преподавал в семилетке русский язык и литературу…
– А потом на фронт, да?
– На фронт не взяли, здоровье у него было слабое, язва желудка и еще что-то. Но забрали в трудармию. Были такие подразделения, в тылу работали, но по военному призыву… Я их помню, бредут по улице худые, форма – сплошной утиль, обмотки разлохмаченные… Ну, отец заболел, когда они работали на лесозаготовке, и умер в начале сорок второго. Причем похоронили там же, где-то на деревенском погосте, могила потом затерялась. Было мне тогда три года с половиной. И фамилия моя тогда была уже Рафалов. Потому-то отцу удалось каким-то образом изменить ее, когда подавал в школу документ, а потом новый паспорт выписывал. Рисковал, конечно…
– А зачем?
– Ты не понимаешь, как тогда было. Над ним же все годы опасность висела. Если бы узнали, что бывший священник, тут бы он и суток на свободе не прожил. Тогда что творилось-то! Совсем невиноватых брали пачками, по первому доносу, а то и просто так, по разнарядке… Это вообще чудо, что он уцелел… А то, что он был священником, я узнал уже взрослым, после института. Мама рассказала незадолго до смерти…
– Значит, по правде я Рафаилов? – сказал Кинтель. Задумчиво и слегка тревожно. Потому что «тени забытых предков» словно толпились в сумраке и чего-то ждали.
– Нет, брат, ты все-таки Рафалов. Как и я. Так уж нам с тобой предписала судьба… Да, по правде говоря, и не стоило держаться за «Рафаилова». Недаром еще мой дед букву изменил.
– А почему?!
– А ты никогда не слышал о фрегате «Рафаил»?
– Не-а…
– История эта совсем не героическая и для русского флота печальная… А о бриге «Меркурий» слышал?
– Конечно! Ты же сам в том году мне книжку подарил, «Корабли-герои»…
– Ну вот… Бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями, славный и победный, был четырнадцатого мая 1829 года, про него много написано. А двумя днями раньше случилось дело совсем иного рода: турецкому флоту без боя сдался наш фрегат «Рафаил»… Про это написано гораздо меньше, хотя есть какой-то материал…
– Как это… сдался? – со стыдливым чувством спросил Кинтель. И с обидой. Словно его самого кто-то обвинил в малодушии.
– Ну, как… Был этот «Рафаил» в одиночном плавании, догонял несколько наших малых судов, чтобы по приказу адмирала Грейга взять над ними командование. Только своих не догнал, а однажды утром увидел на горизонте турецкие суда. Полтора десятка. В том числе шесть линейных кораблей. Это было неожиданно, русские думали, что неприятельский флот отстаивается в Босфоре… Командовал «Рафаилом» Семен Михайлович Стройников, капитан второго ранга. Он, конечно, принял решение уходить от противника. И ушел бы при хорошем ветре, потому что фрегат был новый, быстроходный, только год назад его спустили с верфи в Севастополе. Правда, успел он побывать в боевых переделках и в ремонте, но и после того ход сохранил быстрый. Но на беду, ветер стал стихать. Тяжелые турецкие корабли на попутной зыби получили преимущество хода и к середине дня взяли «Рафаил» в кольцо. С военной точки зрения дело для русских было совершенно безнадежное. Стройников приказал спустить флаг. На фрегат высадился десант, офицеры отдали сабли…
– Значит, Стройников струсил? – сказал Кинтель, преодолевая вязкую неловкость.
– Непонятная это история, – вздохнул дед. – Стройников был, безусловно, смелым офицером. Кавалер нескольких орденов, в том числе и Георгия четвертой степени, который давался за мужество в бою… Кстати, таким же орденом потом был награжден капитан-лейтенант Казарский за свой знаменитый бой «Меркурия» с «Реал-беем» и «Селемие»… И вот еще совпадение: совсем недавно Стройников командовал тем самым «Меркурием», на нем-то и орден заслужил, и чин капитана второго ранга, после чего пошел, как говорится, на повышение, стал командиром фрегата… Видишь, он был далеко не трус, в сражениях участвовал не раз и, конечно, как любой бывалый офицер, готов был к тому, что жизнь свою закончит от пули или ядра…
– Тогда почему же…
– Вот именно – почему?.. Может, надлом души случился, когда увидел, как со всех сторон придвинулись эти громады. Некоторые размером аж с нашего «Кутузова», орудийные люки в два-три этажа, мачты до небес… Может, показалось: сама судьба так велит, не противься, мол, воле Божьей… А может, просто поразила вся бессмысленность такой гибели…
– А в самом деле, – стыдливо заступился за капитана Стройникова Кинтель. – Что он мог сделать?
Дед снова то ли вздохнул, то ли усмехнулся:
– Ну… то, что Морской устав требовал. Тот, который еще Петр Великий сочинил. Флаг не спускать, биться до последнего и погибнуть с честью… Потому что честь флота и флага Российского жизни дороже… Кстати, в рапорте царю, посланном из плена, Стройников писал, что сперва офицерами так и было решено: сражаться до последней крайности, а потом сцепиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорваться вместе с ним. Но матросы вроде бы заявили, что не пойдут на это…
– Правда заявили так?
– Кто знает… А Иван Гаврилов, предок наш, прозванный Рафаиловым, утверждал потом, что Стройников пожалел людей, поступил по-божески, не дав погибнуть в огне матросам, коих было на «Рафаиле» более двухсот… Однако сын его Петр, который стал торговцем, с этим был, видать, не согласен. Потому и фамилию поменял: не хотел сомнительной славы. Так мне кажется…
Кинтелю было жаль Стройникова. И в то же время ощущал он какую-то сдавленность, будто есть в бесславии «Рафаила» и его, Даньки Рафалова, частичка вины. Хорошо, что в каюте было темно. В этой темноте Кинтель хмуро спросил:
– А что это за плен такой, из которого можно своему царю рапорты посылать?
– Обычное дело. Война ведь была не та, что в наши времена, выполнялись международные правила. Даже турки, несмотря на свой янычарский нрав, были вынуждены соблюдать воинский этикет в обращении с пленными. По крайней мере, с офицерами. Дали им возможность отправить письма через нейтральное посольство…
– А потом что с ними было? С пленными…
– Война кончилась, вернулись в Россию. С матросов какой спрос, а офицеров отдали под суд. И суд этот, во главе с адмиралом Грейгом, всех приговорил к смертной казни. Ну, тогда это в обычае было: сперва смертный приговор, а потом император милосердно смягчает его. И Николай Первый приказал разжаловать осужденных в матросы. Говорят, дворянства их лишил. По крайней мере, Стройникова. А в одной старой книге я читал даже, что царь запретил Стройникову до конца дней жениться. Это для того, мол, чтобы «не плодить потомство трусов»… Его величество весьма щепетилен был в вопросах воинской чести. Он даже такой приказ отдал: если в каком-нибудь сражении русские отобьют «Рафаил» обратно, фрегат этот в наш флот больше не зачислять, а сжечь, потому что он опозорил андреевский флаг… Его и правда сожгли, через двадцать с лишним лет, в Синопской бухте. Нахимов тогда уничтожил там всю турецкую эскадру. А «Рафаил» в ту пору назывался «Фазли-Аллах», то есть «Подарок Аллаха», и был обветшалый уже…
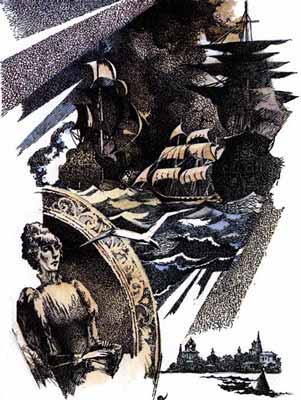 – Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицеры? – Кинтель будто искал спасительную лазейку для Стройникова. Потому что страшно же так: умереть с несмытым пятном.
– Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицеры? – Кинтель будто искал спасительную лазейку для Стройникова. Потому что страшно же так: умереть с несмытым пятном.
– Выслужиться? Это когда как… Стройникова, по-моему, разжаловали без выслуги. Тянул он матросскую лямку на Белом море, а что с ним потом стало, не знаю… А до своей службы в нижних чинах Стройников еще провел три года арестантом в Бобруйской крепости. В той же крепости побывал и кое-кто из декабристов, я читал их воспоминания, что условия там были каторжные…
Кинтель подумал, что каторжные условия были, наверно, не самым страшным наказанием для капитана Стройникова. Страшнее было все годы чувствовать себя изменником и знать, что никак это теперь не исправить.
Он попытался представить себя на месте Стройникова. Приказал бы он спустить флаг?.. Конечно, это жутко – знать, что вот-вот тебя искрошат залпами из орудий, сожгут, разнесут на клочки. Но если ты боевой офицер… и если всю жизнь знал, что возможен такой конец… К тому же смерть – это лишь один миг… А кроме того, был капитан второго ранга Стройников наверняка православным христианином. А верующие люди знают, что душа не умирает, ее ожидает жизнь вечная.
Кинтель тоже считал, что душа бессмертна. Только было тут много неясностей. Или она после смерти тела навсегда поселяется где-то в космосе, или переходит в другого человека? Скорее всего, переходит. Иначе отчего снятся иногда сны, будто ты вовсе не Данька Рафалов, а кто-то совсем другой, в незнакомом городе, в старинные времена? Это, наверно, память о прошлой жизни.
Теплоход шел ровно, лишь иногда чуть подрагивал корпусом. Кинтель попытался представить, что над «Кутузовым» громадные мачты и темные паруса, которые неспешно двигает ровный ветер. Но тогда получилось, что это уже не «Кутузов», а фрегат «Рафаил» в ночь перед сдачей в плен. Кинтель не хотел такого. И стал думать о другом. О трубаче, который стоит на каменной стене и готовится заиграть сигнал. Но песня про трубача вспомнилась словами, в которых был упрек:
Наш трубач ни за что
Не сыграет отбой…
А фрегат «Рафаил» с предком Кинтеля сыграл отбой…
Дед уже посапывал – явно во сне. Кинтель повернулся на бок, прогнал все мысли и после этого стал сердито засыпать без всяких сновидений…
СОСТЯЗАНИЕ
Завтрак дед и Кинтель проспали. Наскоро перекусили в буфете и еле успели на автобус, который от маленькой пристани повез туристическую группу в Кирилло-Белозерский монастырь.
День был теплее прежних, проблескивало солнце. Дед подремывал, Кинтель глазел на окрестности. О ночной беседе они с дедом не вспоминали. У них и раньше так бывало: вечером разговорятся о всяких «философских» вопросах, а утром Толич – серьезный, деловитый, молчаливый. Мне, мол, не до болтовни, масса важных дел. Но Кинтель понимал, что дед просто стесняется откровенности, которая случилась накануне. Может быть, даже ругает себя за излишнее многословие. Ну и ладно, Кинтель в такие минуты к нему не приставал.
Порой Кинтель ощущал себя взрослее деда. По крайней мере, в кое-каких житейских вопросах. Конечно, Виктор Анатольевич занимался ответственной работой: ведал кадрами в главной областной больнице и ее отделениях. Его хорошо знали в облисполкоме, иногда он печатал в «Краснодзержинском знамени» свои статьи про безобразия, которые случаются в областном здравоохранении по вине местных чиновников. Те делали ему в отместку всякие гадости, но всерьез уязвить не могли, был у деда орден «Знак Почета», две медали, благородная седоватая прическа, довольно стройная (несмотря на животик) осанка и строгое интеллигентное лицо. Особенно когда Виктор Анатольевич водружал на переносицу больше блестящие очки. Но Кинтеля-то эти внешние признаки солидности обмануть не могли.
Дед, как мальчишка, обожал фильмы про пиратов и мушкетеров, любил бродить по городу, по самым закоулкам, открывая для себя всякие любопытные мелочи. Мог несколько дней подряд (особенно когда стал вдовцом) питаться всухомятку, потому что лень готовить. Мог истратить последние деньги на альбом художника Сальвадора Дали, на редкие значки для своей коллекции, про которую вспоминал время от времени.
Собирал дед значки с гербами городов. Кинтель этого увлечения не понимал. Страсть к коллекционерству была ему чужда. Редкой вещицей можно, конечно, полюбоваться, но обмирать о ней, желать, чтобы она была обязательно твоя, – какой смысл? Впрочем, это не помешало Кинтелю выпросить у деда значок со старинным гербом Преображенска. На гербе три золотые рыбы в голубых струях реки, а сверху одномачтовый кораблик с длинным вымпелом – «в знак рыбного изобилия, а также того, что с пристани на реке Сож начинается плавание по рекам всего края». Но значок нужен был не ради собирательства, а чтобы малость похвалиться перед Алкой Барановой…
Не одобрял Кинтель и чрезмерной дедовой страсти к хоккею. Взрослый человек, а подскакивает на стуле перед экраном и вопит, как пацан, когда «Спартак» вляпывает противнику шайбу… Впрочем, на этом деле многие мужики слегка сдвинуты по фазе…
Было, однако, у деда с Кинтелем и много общего. И прежде всего – отвращение ко всякой зависимости, принуждению и унижению. Кинтель и уроки-то старался учить аккуратно не из-за какой-то там любви к знаниям, а чтобы не топтаться у доски и не мямлить под ехидным учительским взглядом. А дед, например, не желал покупать машину, хотя денег мог бы наскрести. Говорил: «Это чтобы любой взяточник в погонах и с полосатой палкой мог меня останавливать на улице и всячески надо мной измываться? Дудки!» По той же причине он отказывался ездить за границу. «Пока оформишь все документы и визы, пока настоишься в очереди, чтобы обменять валюту, инфаркт заработаешь. Всякий проходимец на конторской должности смотрит на тебя, как на вошь в томатном соусе, хмыкает и размышляет: поставить печать или помурыжить еще? В молодости я за кордоном кой-чего повидал, а теперь не соскучусь и в своей провинции…»
Почему «вошь в томатном соусе», было непонятно, однако общую позицию деда Кинтель одобрял. «Проходимцев», которые засели среди всякого начальства, он тоже не жаловал…
Кирилло-Белозерский монастырь поразил Кинтеля. Гораздо больше, чем Кремль в Москве. Башни и зубчатые стены Кремля были знакомы по картинкам, по ежедневной передаче «Время», в них чудилось что-то официальное, связанное с неласковой государственной властью. А здесь стояла первозданная былинная крепость без всякой парадности, с замшелостью камней, с кустиками в бойницах. С нерастраченной мощью веков.
Внутри крепости оказалась целая страна. Как в «Сказке о царе Салтане». Всюду поднимались купола, колокольни, башенки с маковками, манили к себе какие-то арки, переходы, запутанные дорожки. И лежала на всем этом тихая солнечная ласковость.
Они с дедом отстали от группы, ходили сами по себе. Толич то подолгу молчал, то шумным шепотом начинал восхищаться и приглашал Кинтеля разделить этот восторг. Кинтель кивал молча. К чему тут слова?
В широком арочном проходе, где на облупившейся штукатурке виднелись вверху неясные фрески, дед задержался. Постоял, подняв голову. Сквозь пятна, блеклость и паутинную серость проступал на своде образ Божьей Матери с маленьким Иисусом на руках. Были у Богородицы большие печальные глаза. Мальчик, подняв серьезное лицо, прижимался к матери щекой и словно хотел прошептать ей что-то очень-очень важное…
Дед постоял с поднятой головой и перекрестился двумя легкими взмахами. Потом быстро и виновато оглянулся на Кинтеля. Тот сделал вид, что ничего не заметил.
Он знал, что дед верующий, тот и не скрывал этого от внука. Пару раз они даже рассуждали о религии, о Боге и о бессмертии. Кинтель, наверно, тоже был верующий. По крайней мере, он считал, что Создатель, который сотворил Вселенную, где-то есть. Какая-то огромная энергетическая сила, наделенная всеобщим сверхразумом. Кинтель уважал этого Создателя, но думал, что молиться ему бесполезно. Разум, управляющий бесконечным Космосом, разве мог отрешиться от своих вселенских дел, чтобы заняться крошечным человечком на какой-то окраинной планетке?
Кинтель как-то в минуту вечерней откровенности поделился этими соображениями с дедом. Толич сказал, что такая «философская концепция» не нова и достаточно примитивна. «Ты, Даниил, еще просто не дорос до истины, что Бог настолько велик, что он в каждом человеке и что человек, если он хочет познать Бога, должен стремиться к нему душой…»
– Чего же к нему стремиться, если он и так в каждом человеке? – поддел Толича Кинтель, хотя главную мысль деда, кажется, уловил.
– Тьфу на тебя, – сказал дед. – Рассуждения твои плоские, как противень… Ты бы хоть Евангелие почитал, вон в журнале «Литературная учеба» новый перевод.
– А я читал… Только я все равно ведь некрещеный…
– Разве дело в обряде? – вздохнул дед.
При внуке Толич никогда не молился, в церковь он тоже не ходил. Может, боялся, что ему, члену партии, за это попадет, а может, и правда считал, что дело не в обрядах… А тут, в монастыре, что-то, видать, шевельнулось у него в душе…
Кинтель еще раз посмотрел на фреску. И вдруг вспомнил, как мама Сани Денисова поправляет на сыне воротничок и ласково лохматит ему волосы. Взлохматит и тут же пригладит…
И вот ведь правду говорят: легок на помине. Буквально через полминуты Кинтель увидел Салазкина.
Арочный проход вывел их на широкий двор, опоясанный крепостной стеной с галереей. Поле это, густо усыпанное звездами одуванчиков, было почти пустое. Только в центре его поднималась ветряная мельница. Видать, ее привезли сюда из какой-то деревни – как экспонат. Кучки туристов затерялись в этом травянистом просторе. Недалеко от мельницы лежал штабель бревен: наверно, для ремонта. Одно тонкое и длинное бревно нижним концом уходило в траву, а верхним лежало на краю штабеля. И вот по этому-то наклонному бревну шел, балансируя, Саня Денисов. Салазкин. Он был похож на циркового гимнаста.
Штабель высотой был метра два. Салазкин уже почти достиг верха. А у бревна – вполне объяснимо, хотя и смешно – как взволнованная курица, беспокоилась мама:
– Ты куда? Шею свернешь! Спускайся немедленно!.. Ай, осторожно!.. Вниз, кому я сказала!.. Ну подожди, спустись только!
Несколько дам из той же группы квохтали и качали головами. Отца не было видно. Салазкин достиг верха и остановился там – маленький, гибкий, с упертой в бок рукой и вскинутой головой. Будто нарисованный чернилами на фоне освещенной солнцем стены.
– Ух, отсюда как здорово видно!
– Ай, не качайся! Спускайся, тебе говорят!..
Кинтель сыграл в мгновенную игру: присел, будто поправляет шнурок на кроссовке – так, что на линии взгляда верхний край штабеля совпал с гребнем крепостной стены и Салазкин оказался как бы на этой стене. Маленький трубач над крепостью. Правда, не было трубы, но Кинтель представил ее зримо со вспышкой солнца на серебряном ободке…
– Александр! Ты смерти моей хочешь?
Салазкин сел на корточки, помедлил секунду и скакнул с высоты в траву. Ай да мамин ребенок!
Мать ухватила его за свитер, убедилась, что чадо невредимо, дала ему шлепка.
– Изверг! Отцу скажу… Колготки порвал на колене, чучело… Куда ты опять?!
Салазкин взбрыкнул тонкими черными ногами, ускакал в сторону. Закрутился, обирая с темно-синего свитера травяной мусор.
Далеко, за воротами монастыря засигналил автобус: пора…
В середине дня, когда вошли в Белое озеро, по радио было объявлено, что организуется экскурсия в ходовую рубку. Записывайтесь в группы, товарищи… Дед сказал:
– Не бывал я в этих рубках, что ли?.. Я буду письмо писать. А ты иди.
Кинтель оказался в одной группе с Денисовыми. Его и Салазкина взрослые пропустили вперед – детям заботу и внимание (всегда бы так!).
Квадратные, с закругленными углами окна образовывали в рубке сплошную прозрачную стену. Под ними тянулся широкий пульт – кнопки, телефоны, дисплеи, циферблаты, карты – в глазах замельтешило. Увидел Кинтель и знакомую по снимкам и кино стойку магнитного компаса – нактоуз. Почти такую, как на старых кораблях… Молодой, но уже с залысинами, полноватый штурман – один из помощников капитана – давал объяснения. Вежливо, но с ленцой (видать, надоело). Говорил, что теплоход – один из самых крупных среди речных судов мира. Что может ходить и по морю, если высота волны не больше четырех метров. Что навигационное оборудование – самое современное.
– Для поворота вправо-влево стоит лишь нажать нужную кнопку. Видите, у нас нет здесь даже намека на привычное рулевое колесо, именуемое в просторечии штурвалом…
«Жаль, что нет», – подумал Кинтель.
– Скорость – до двадцати узлов… – с той же ленцой продолжал штурман. Массовик Кирилл Георгиевич, не забывавший занимать подопечных пассажиров, интригующим голосом задал вопрос:
– Кстати, кто скажет, что означает эта скорость – узел?
Кинтель хмыкнул про себя. Высовываться не хотелось. Какой-то дядька у него за спиной басовито провозгласил:
– Это, как я понимаю, одна морская миля в час…
– Абсолютно верно! – обрадовался Кирилл Георгиевич. – А кто скажет, велика ли она, эта миля?
– Что-то около двух километров, – отозвался дядька.
Кинтель не выдержал, сказал насупленно:
– Тысяча восемьсот пятьдесят два метра…
Тут оживился штурман:
– Точно! А откуда взялась эта некруглая величина?
Кинтель размышлял: говорить дальше или не стоит? Чего хорошего, когда все на тебя глазеют?.. И в этот момент раздался голосок Салазкина:
– Минута географического меридиана…
С ума сойти! Откуда он знает про меридианы-то? Кинтель скосил взгляд. Папа Денисов что-то тихо говорил сыну. Подсказывал? Мама поправляла у сына широкий воротник свитера.
Тогда Кинтель сообщил, глядя сквозь стекла на открытый горизонт Белого озера (синий, в солнечных облаках):
– Деления минут откладываются на боковых краях штурманских карт. Чтобы легче было измерить расстояния… – Все-таки он был внук деда, который в молодости плавал на океанских судах. Да и читал про флотскую жизнь Данька Рафалов немало…
Штурман оживился еще больше:
– Тут, я смотрю, знатоки…
– Это меркаторские карты, – сообщил Салазкин. Такой вот восьми или девятилетний пацаненок, где-то нахватавшийся морских познаний.
Кинтель не ощутил ни зависти, ни досады, но появился хмурый азарт. Кинтель выговорил:
– На этих картах прямоугольная сетка координат. Вот как тут, на пульте… – И не удержался, опять бросил взгляд на Салазкина.
Тот смотрел своими широкими глазами с веселым интересом. И словно бы с желанием познакомиться. Но Кинтель отвернулся.
– Прекрасно! – радовался Кирилл Георгиевич. – Сейчас не будем тратить порох, а скоро устроим конкурс морских знатоков. Я думаю, такие найдутся и в других группах. Победителю – приз…
Состязание устроили через два дня, накануне прихода в Ленинград. Опять было зябко и пасмурно. Ладога катила под низким небом плоские зеленоватые валы. Слева тянулся еле заметный низкий берег, справа и впереди был открытый горизонт. Чуть покачивало. В салоне уютно светились лампы.
Дед был почему-то не в духе и в салон не пошел. А Кинтель пошел. Народу оказалось немного, хотя трижды объявляли по радио. Человек десять взрослых и столько же ребят.
Кирилл Георгиевич вышел к пианино, словно к трибуне. И бодрым голосом выразил надежду, что здесь собрались знатоки морской истории и флотских премудростей. Сказал еще раз о призе, ожидающем победителя. Спросил, есть ли желающие позаседать в жюри. Нашлось двое: чья-то мама (судя по всему, активистка родительских собраний) и подвижный старичок с богатейшим набором орденских ленточек на пиджаке (может, бывший моряк?).
– Ну а третьим буду я! – весело решил Кирилл Георгиевич. И для начала задал вопрос: кто из русских моряков первым обошел вокруг света?
Сразу вскинули руки трое: полная девушка с желтыми волосами, худой парнишка с прыщиками на носу (кажется, Костя) и Салазкин. Кинтель задавил в себе стеснительное сопротивление и тоже поднял ладонь.
Первой Кирилл Георгиевич вызвал девицу. Та уверенно сообщила, что упомянутых выше мореплавателей звали Лазарев и Беллинсгаузен. Салазкин выдал короткий звонкий смешок. Мама, сидевшая рядом, дернула его за свитер. Кирилл Георгиевич с вежливой улыбкой развел руками: неверно, мол.
– Теперь ты, мальчик…
Кинтель неловко встал. Сказал, глядя на горизонт:
– Крузенштерн и Лисянский…
– Совершенно верно! Кто-нибудь хочет что-то добавить?
Салазкин вскочил:
– На шлюпах «Надежда» и «Нева»!
– Чудесно!.. А у тебя тоже дополнение?
Костя с прыщиками снисходительно объяснил, что экспедиция началась в 1803 году и закончилась в 1806-м. Считать же первым русским кругосветным мореплавателем справедливо будет Лисянского, поскольку он опередил Крузенштерна на две недели.
«Образованный», – сердито подумал Кинтель и добавил:
– После того как они расстались на траверзе мыса Доброй Надежды… – Он нарочно ввернул это «на траверзе».
– Там был туман, и они потеряли друг друга, – сказал Салазкин.
Все зааплодировали. А Кирилл Георгиевич, пошептавшись с мамой-активисткой и ветераном, объявил, что Саня Денисов, Костя Бельский и («Мальчик, как тебя зовут?..») Даня Рафалов получают по пять очков.
– А Лазарев и Беллинсгаузен открыли Антарктиду, – неожиданно для себя сказал Кинтель.
– Браво! – обрадовался Кирилл Георгиевич.
– На шлюпах «Восток» и «Мирный», – ввинтился звонким голосом Салазкин.
– Это было в 1820 году, – спокойно, почти с зевком уточнил Костя. – Впрочем, за рубежом не все ученые признают приоритет Беллинсгаузена и Лазарева в открытии шестой части света.
– Великолепно! У вас еще по два очка! – радовался Кирилл Георгиевич. А оскандалившаяся девица розовела и хихикала в ладошки. – Итак, три человека проявили недюжинные познания в истории морских путешествий! А сейчас задачка из другой области. Кто скажет, что такое «рангоут»?
– Это… насколько я понимаю, нечто связанное с теорией судна, – без прежней уверенности проговорил Костя Бельский.
«Нечто», – хмыкнул про себя Кинтель. И почти перестал стесняться:
– Это все мачты, реи. На чем ставят паруса… Да, еще бушприт…
– У бушприта есть два продолжения: утлегарь и бом-утлегарь, – прозвенел Салазкин.
Кинтель глянул на него искоса. И вспомнил:
– Рангоут поддерживает и управляется такелажем. Стоячим и бегучим. Это всякие тросы и канаты…
– Рангоут бывает подвижным и неподвижным, – уверенно сообщил Салазкин. – Подвижный – тот, что ходит вместе с парусами. Реи, гафели, гики…
Что-то запрыгало в памяти у Кинтеля: кажется, из словаря в конце книжки «Жизнь моряка».
– Они крепятся к мачтам на бейфутах. На таких специальных шарнирах…
Все неожиданно притихли при этом словесном турнире. Салазкин отодвинул от мамы локоть, за который она машинально его теребила. Сказал на весь салон:
– Ну не дергай, пожалуйста. Подумают, что ты подсказываешь… – Никто не успел засмеяться. Потому что сразу Салазкин сообщил: – Сейчас рангоут делают металлический, из труб. А раньше делали из деревьев, из прямых стволов. Потому он так и называется – «круглое дерево» в переводе на русский.
– Это с голландского, – быстро подключился Кинтель. Он теперь все больше ощущал волнующую дрожь состязания. – Потому что Петр Первый учился строить корабли в Голландии. Он там многое перенял…
 – Уникальные дети! – восхитился Кирилл Георгиевич. И глянул на Костю.
– Уникальные дети! – восхитился Кирилл Георгиевич. И глянул на Костю.
Тот развел руками:
– Я – пас… Здесь специалисты.
Кирилл Георгиевич обрадованно заметил, что, судя по всему, никто больше не решается вступать в этот поединок морских эрудитов. Таким образом, выявились два лидера.
– Попросим вас вот сюда, рядом со мной, чтобы вы могли демонстрировать свои знания перед лицом всей аудитории.
Кинтелю не хотелось «перед лицом аудитории». Но делать нечего, тем более что Салазкин уже уверенно покачивался на своих тонких ножках рядом с пианино. Словно опять собрался петь. Кинтель стал у другого края инструмента, прислонился локтем. Опять стал смотреть над головами сквозь стекла. Ну прямо правдашнее море…
– Итак, два претендента на приз! Саня Денисов из Краснодзержинска и Даня Рафалов… откуда?
– Тоже… – буркнул Кинтель. И поймал взгляд Салазкина. Удивленно-обрадованный.
– Тоже из Краснодзержинска?! – возликовал Кирилл Георгиевич. – Изумительно! Однако у вас, кажется, совсем не морской город?
– У нас озеро есть большое. Называется Орловское, – разъяснил Салазкин. – И на нем яхты…
– И на гербе кораблик, – нахмуренно добавил Кинтель, словно заступаясь за свой город. – Раньше по реке Сож корабли до самого моря ходили…
– Тогда ясно!.. Значит, продолжаем? А все остальные будут болеть…
Кинтель понимал, что болеть будут за Салазкина: он младше, симпатичнее, держится раскованно. Такие всегда нравятся. Будь Кинтель среди зрителей, он тоже сочувствовал бы этому пацаненку с зелеными глазами и доверчивой улыбкой, а не стриженному ежиком, набыченному мальчишке, который смотрит мимо людей… Ну и пусть. Ни зависти, ни обиды у Кинтеля не было. Досадовать он мог бы на равного по силам и возрасту или на того, кто больше. А тут чего ж… Впрочем, уступать Кинтель не собирался.
И не уступал. Очки они с Салазкиным набирали поровну.
Вопросы были всякие. То с пустяковой хитростью: «Что такое бухта?» Кинтель и Салазкин разом ответили, что, во-первых, – небольшой залив, а во-вторых, – моток троса. То посложнее: «Откуда взялось в обозначении скорости судна понятие «узел»?» Кинтель вспомнил, что раньше узлами разбивали шнур на приборе для измерения скорости, на лаге. Салазкин рассказал в дополнение к этому, как устроен старинный лаг. Кинтель добавил, что сейчас лаги другие: механические, электронные…
Ну и так далее. Слушатели в салоне то затихали, то аплодировали. Надо сказать, что не только Сане Денисову… Очков набралось уже по полсотни на каждого.
– Ну и наконец, последний вопрос! На знание типов парусных кораблей… Чем бриг отличается от фрегата?
Это был пустяковый вопрос для всякого, кто внимательно читал книжки про моряков.
– У брига две мачты, – быстро сказал Кинтель. – А у фрегата три или даже больше. У того и у другого прямые паруса на всех мачтах. На реях…
Салазкин, конечно, не отстал. Смело поправил Кирилла Георгиевича: бриг, мол, неправильно называть кораблем, надо говорить «судно». Кораблями в парусном флоте называются только суда с оснасткой фрегатов, то есть с полным корабельным парусным вооружением.
И вдруг добавил:
– А среди бригов самый знаменитый «Меркурий». Он дрался с двумя турецкими линейными кораблями и вышел победителем…
– Чудесно! – даже подскочил Кирилл Георгиевич. – Прекрасное дополнение. Действительно, бриг «Меркурий» совершил подвиг, доказав, что русские моряки ни при каких обстоятельствах не сдаются врагу!..
Кинтель даже качнулся вперед. Потому что вот тут-то можно было выложить факт о «Рафаиле». Как козырную карту! Нет, мол, товарищи, бывало, что сдавались. Не все такие герои, как на «Меркурии». Есть грустное отличие фрегата «Рафаил» от брига «Меркурий». Но… открыл Кинтель рот и захлопнул. Покачал головой. Словно встретился с живым взглядом измученного худого офицера в старинном мундире – капитана Стройникова: не надо, мне и так хватило позора… И предок Иван Гаврилов будто издалека глянул укоризненно. Знание о чьем-то стыде и несчастье – разве козырь?
Впрочем, обдумал это Кинтель уже потом, а пока его просто задержало внутреннее «нельзя». И еще – снова такое чувство, словно он тоже виноват в сдаче «Рафаила».
– У тебя, Даня, нет добавлений?.. Ну что же, тогда жюри посовещается и вынесет решение.
Кирилл Георгиевич нагнулся над сидящими рядом старичком с орденскими планками и мамой-активисткой. Какое будет решение, не стоило и гадать. В шаге от пианино висела широкая портьера. Пока все смотрели на жюри и на Салазкина – явно как на победителя, Кинтель придвинулся к портьере спиной, скользнул за нее, а там – к двери. И оказался в коридоре, у ведущего на верхнюю палубу трапа.
ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
Наверху было ветрено, зябко, особенно после уютного салона. Ветер, однако, дул теперь с востока, с кормы, и Кинтель укрылся от него за трубой. Труба эта – громадная, скошенная назад, с голубой полосой, медным серпом и молотом и черными крыльями – поднималась над палубой, как дом. Впереди была привинчена скамейка, и Кинтель съеженно сел, подняв до ушей воротник школьной курточки.
Большого огорчения Кинтель не чувствовал. Если бы кто другой, не Саня Денисов, выиграл приз, тогда обидно. А Салазкин пусть порадуется вместе с мамой… Но была у Кинтеля печаль. Не из-за проигрыша даже, а так, без всякой причины. Однако горечи в печали не ощущалось. Даже наоборот – приятное что-то. Как при музыке, которую играла однажды на улице Первомайской девочка-скрипачка.
Когда Кинтелю было грустно без причины, он всегда вспоминал эту музыку. И девочку, которая от музыки была неотделима.
…Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день прошлогоднего августа, когда шагал на рынок за картошкой. Сперва он услышал музыку. У забора за-брошенной стройки полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. А на фоне темных и рваных афиш играла на скрипке девочка. Одного с Кинтелем возраста.
Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрепанными, как у мальчишки, волосами. И с искорками-сережками в маленьких коричневых ушах. И очень загорелая. На ней была желтая майка и белые шортики. От этого девчонкины ноги казались еще больше загорелыми. Они были того же цвета, как скрипка, которую девочка прижимала к подбородку. Она покачивалась на ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила смычком.
У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой крышке его белел бумажный лист. На нем крупно было написано: «Зарабатываю на скрипку».
Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. Или не очень хорошая. Но даже на ней девочка играла восхитительно. По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же. И сама девочка – тоже. Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. Было что-то удивительно милое и знакомое, только полузабытое, в этой скрипичной мелодии и в том, кто ее играл, – в быстрых тонких пальцах, в дрожании волос и сережек, в задумчивых глазах и строгих бровях над облупленной переносицей, в подсохших корочках ссадин на коленках (в точности как у Кинтеля). И еще была в ней доверчивая беззащитность и одиночество, несмотря на окружавших людей.
Люди слушали внимательно, лишь изредка что-то шептали друг другу. В скрипичном футляре лежало уже немало мятых рублей и трешек.
У Кинтеля в кармане была лишь пятирублевка, которую дал дед и которую можно было тратить только на картошку. А будь у него свои деньги – хоть сто рублей! – он тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. Хотя… посмел бы он? Все сразу начали бы глядеть на него. И она посмотрела бы – на неловкого, стриженного арестантским ежиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке… Он и так уже стоит здесь, наверно, полчаса, и все, конечно, догадались о его завороженности…
Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щеки. И пошел, пошел, не решаясь оглянуться. И долго еще слышал скрипку…
Обратно он шагал по другой стороне улицы. Девочка все еще играла. И снова ту мелодию, которую Кинтель услышал вначале. Страдая от стыдливой боязливости, Кинтель все же подошел опять, постоял за спинами, страшась, что девочка увидит его… Потом побрел домой, унося в душе что-то теплое, щемящее, доселе неизвестное…
Днем Кинтель, не в силах носить в себе переживания, поделился на улице с компанией. Сказал небрежным тоном:
– Утром за картошкой поперся, гляжу: у забора пацанка со скрипкой. Так клево пилит по струнам. Все стоят, рты поразевали, тугрики ей бросают… И главное, одна, не боится…
– Ха, одна, – отозвался опытный Джула. – Ты ее попробуй задень, сразу со всех сторон амбалы выскочат! У них небось артель: она деньгу на всю кодлу зашибает, а они ей это… режим наибольшего благоприятства… Знаем мы таких девочек со скрипками…
Тут бы и врезать этому длинному трепачу по слюнявым губам. И Кинтель врезал бы, не думая, что будет после! Но только… Да нет, не за себя он испугался! Но ведь когда начнут издеваться, ехидничать про его любовь, эти поганые насмешки будут и про девочку! Конечно, она не узнает, но все равно получится, будто он подставил ее под помои. Это как предательство.
Ненавидя себя, Кинтель сплюнул и лениво сказал:
– Тебе, Джула, везде амбалы мерещатся. Только и знаешь про мафию чесать языком.
Все заспорили про мафию и о девочке забыли.
В следующие дни Кинтель не раз ходил на то самое место, к забору у стройки. Но девочки там не было. Оно и понятно: время-то началось школьное. А может быть, она уже насобирала на скрипку? Нет, наверняка она появится в воскресенье!
Подлое, непрошеное подозрение о том, что Джула насчет этой девчонки, возможно, прав, Кинтель буквально выжег в себе, без остатка. И решил ждать. Но воскресенье оказалось промозглым, пришла настоящая осень. Ясно, что при такой погоде размокла бы любая скрипка. Что было делать? Где искать маленькую скрипачку? Да и… зачем? Найдешь, увидишь, а что дальше?
И девочка со скрипкой осталась в памяти как что-то волшебное, полусон какой-то или сказка о Дюймовочке. И музыка осталась, запомнилась. Иногда Кинтель насвистывал или мурлыкал ее, и однажды это услыхал дед.
– О, да у тебя слух как у музыканта!
– Почему? – застеснялся Кинтель.
– Такую мелодию ведешь без всякой фальши.
– А что за мелодия? – У Кинтеля, как тогда, при девочке, затеплели уши. – Я не знаю даже. Случайно вспомнилась…
– Это скрипичный романс Шостаковича из фильма «Овод».
…В минуты, когда подкрадывалось задумчивое настроение, печаль какая-нибудь, «Овод» начинал звучать в Кинтеле тихо, ненавязчиво, в лад со струнами души.
Вот и сейчас мелодия накатывала, как бегущие по Ладоге пологие волны, которые не спеша догонял и подминал под себя «Михаил Кутузов».
Но вскоре в эту музыку скрипки толкнулся другой мотив – тревожной непрошеной ноткой: «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать… Штормовые рассветы встречать…» Это было связано с Салазкиным! И Кинтель интуитивно угадал, что Салазкин неподалеку. И лишь потом услыхал шаги.
Салазкин встал рядом со скамейкой. Кинтель покосился. В руках Салазкина была плоская коробка с парусным кораблем на крышке.
До той минуты они друг с другом не разговаривали, но тут Салазкин сказал, будто давнему знакомому:
– Даня, ты почему ушел раньше срока?
Кинтель ответил ровно, даже с зевком, чтобы Салазкину не пришло в голову, будто он обижается или переживает:
– Почему раньше срока? Все ведь кончилось…
– А приз…
Кинтель снисходительно улыбнулся:
– Но не я же победил.
Салазкин сказал убедительно:
– По-моему, мы оба одинаково победили. Надо, чтобы справедливо… Давай делить. – Он сел на краю скамейки, положил коробку между собой и Кинтелем, поднял крышку. В коробке лежали фигурные шоколадные конфеты. – Тебе и мне пополам.
– Да ну… – смутился Кинтель.
– Нет уж, ты бери, пожалуйста! – Салазкин смотрел решительно.
«Хороший он человек», – подумал Кинтель. Взял конфету, сунул в рот.
– Нужно вот так! – Салазкин принялся перегружать половину шоколадного запаса в крышку.
– Постой! Мне не надо! – почти испугался Кинтель. – Я много шоколада никогда не ем… То есть не ел. Даже когда он в магазинах был. У меня от него… это, аллергия.
Аллергии у Кинтеля не бывало, но шоколад он правда не очень любил и не жалел, что теперь его не бывает в продаже. Потому что как можно помногу есть такую вяжущую рот и горло горьковатую сладость! Это ведь не мороженое…
– Ну правда тебе говорю! – добавил он, глядя в недоверчивые глаза Салазкина. – Забирай обратно. – Пересыпал конфеты опять в коробку. И вдруг пришло в голову: – А крышку я возьму… если можно. Ладно?
– Конечно! – обрадовался Салазкин. Разумеется, не вернувшимся конфетам, а тому, что Даня Рафалов хоть что-то берет.
Кинтель сказал:
– Хороший корабль. Я его в рамку вставлю – и на стену…
– Это «Паллада». Видишь, здесь написано…
Внизу были буковки: «Шоколадное ассорти «Фрегат «Паллада».
«Фрегат», – опять царапнуло Кинтеля. Но он подавил в себе неприятные мысли.
Салазкин сел попрочнее: привалился к спинке, пятки поставил на скамью. Тоже сунул в рот конфету. Сказал доверчиво:
– А славно получилось, что мы из одного города, правда ведь?
Кинтель кивнул, облизываясь.
– Ты там где живешь?
Саня Денисов тоже облизал губы.
– На окраине, в Старосадском поселке. Но папе обещают скоро дать новую квартиру… Мама уже вещи понемногу упаковывает, она очень предусмотрительная…
Кинтеля вдруг дернуло за язык:
– Это мама посоветовала тебе поделиться конфетами?
И сразу испугался: обидится Салазкин!
Тот не обиделся, но удивленно раскрыл глаза:
– Нет, с чего ты взял? Я сам… Мама даже не знает, куда я пошел.
– Значит, будет искать и волноваться, – выкрутился Кинтель из неловкого положения. – Родители, они все такие.
– И у тебя? – с пониманием спросил Салазкин.
Кинтель вздохнул:
– Я, к счастью, с дедом…
Салазкин отвел глаза. Взял еще конфету. Стал ковырять на обтянутой черным трикотажем коленке аккуратную штопку. «Мама зашила», – подумал Кинтель. И усмехнулся:
– Но если бы я, как ты недавно, на бревна полез, он бы тоже бегал внизу и… – Кинтель чуть не сказал «кудахтал», – и нервничал.
Салазкин кивнул, все ковыряя штопку:
– Мама ужасно беспокойная. Стоит мне задержаться на улице, как дома паника… Но сейчас, пока она не хватилась, можно еще посидеть! – И повозился, устраиваясь поудобнее.
Посидели, помолчали. Пасмурная Ладога все катила, катила валы, реяли чайки. Нельзя сказать, что покачивало, но иногда все же возникало ощущение непрочности. Этакий намек на невесомость.
– Ну, право, совсем как на море, – вдруг сказал Салазкин.
Он все-таки расковырял штопку, и светилась круглая, словно двугривенный, дырка. Из нее выглядывала похожая на бородавку выпуклая родинка. Салазкин тер ее мизинцем, предварительно облизав его. «Опять заработаешь от матери шлепка», – подумал Кинтель. А вслух сказал:
– Я на море еще не бывал.
– А я был два раза. И могу авторитетно утверждать, что очень похоже… – Он, видимо, сам почуял, с какой забавной солидностью у него это прозвучало, и хихикнул.
Кинтель сказал:
– В морских делах ты прямо академик. Занимался в каком-то кружке, да?
– Видишь ли… это не совсем кружок… Это…
– Санки! Салазкин! Вот ты где… Ну что за мода исчезать бесследно, как привидение… – Мама Сани Денисова появилась из-за трубы. – Идем, скоро ужин!.. И какой здесь холод…
Салазкин встал. Сказал Кинтелю вполголоса:
– Мы ведь еще непременно увидимся.
– Разумеется. У нас две недели впереди, – в тон ему ответил Кинтель и опять улыбнулся про себя, но без насмешки, по-хорошему.
Мама Салазкина тревожилась:
– Вы оба, наверно, простудились. Мальчик, тебе не холодно?
– Это Даня Рафалов, с которым мы там, вместе… – ревниво сказал Салазкин.
– Да-да, я вижу. Даня, вы оба продрогли.
– Я сию минуту тоже иду в каюту, – отозвался Кинтель, как покладистый скромный мальчик.
Так и пошли: впереди мама, за ней Салазкин с открытой коробкой, как с подносом, сзади Кинтель, он шагал и хлопал себя «Палладой» по джинсовым штанинам.
В каюте дед сказал:
– Тут тебе приз принесли. Говорят, ты второе место занял в этом «Клубе знаменитых капитанов».
Приз оказался набором вымпелов с гербами городов, где побывали и еще должны были побывать пассажиры «Кутузова». Что ж, совсем не плохо! Даже лучше конфет…
– А чемпион мне вот что подарил, – похвастался Кинтель крышкой. – От своего ассорти.
– Красивая штука, – одобрил дед. – А про «Палладу» ты что-нибудь слышал?
– Книжка такая есть. Только скучная очень. Я начинал…
– Эх ты, «скучная»… «Паллада» – корабль знаменитый. Кстати, в молодости им одно время Нахимов командовал, будущий адмирал… – И Толич вдруг осекся. Сообразил, что не надо бы лишний раз о Нахимове.
Кинтель, однако, сделал вид, что ничего не заметил. Стал рассматривать разложенные на постели вымпелы. Потом глянул в окно. У горизонта облака разошлись, в щель пробился солнечный огонь. Похоже на закат, хотя по времени до заката было далеко: лето, север, белые ночи…
«Бьется пламя под крыльями туч…»
Когда они познакомятся поближе, надо будет спросить у Салазкина, откуда эта песня… Как не вовремя появилась его мамаша: даже не успел он объяснить, где набрался морских знаний. Ну ничего, все впереди. Конечно, Салазкин – еще малец, и при нем чувствуешь себя как рядом с чем-то хрупким. Но есть в нем и… такое, совсем не детское. По крайней мере, ясно, поговорить с ним можно о вещах, которые с «достоевской» компанией обсуждать бесполезно…
Дед озабоченно глянул на часы:
– На ужин пора. И надо лечь пораньше, завтра в пять утра будем входить в Неву. Не проспать бы Шлиссельбург…
Шлиссельбург они проспали. Впрочем, не беда, увидят на обратном пути. В полдень подошли к речному вокзалу Ленинграда. От экскурсий с группами Толич и Кинтель отказались, решили гулять сами. И за два дня стоянки повидали столько, что ни с какими экскурсоводами такого не успели бы. Прежде всего поехали к морскому вокзалу. Туда, где швартуются приходящие со всех морей и океанов теплоходы и где виден открытый горизонт залива. Потом отправились на пассажирском катере в Петергоф – еще ближе к морю. Правда, залив (именуемый, как известно, Маркизовой лужей) был более серым и спокойным, чем Ладога. Но само сознание, что это Балтика, волновало душу Кинтеля.
А потом были, конечно, музеи. Петропавловская крепость, долгое хождение по многим улицам, площадям, набережным. Но Кинтель нет-нет да и вспоминал Салазкина. Однако в эти дни он его не видел – ни на улицах, ни вечером на теплоходе. Впрочем, это Кинтеля мало тревожило. Но зато он забеспокоился всерьез, когда отошли от ленинградского причала, а Денисовых по-прежнему нигде не было видно. Ни в ресторане, за ужином, ни в коридоре, ни на палубах…
И утром – то же самое. После завтрака Кинтель не выдержал, набрался смелости и постучал в дверь денисовской каюты. Никто не отозвался. Кинтель наконец поделился тревогой с дедом: куда, мол, девался мой соперник по морскому турниру? Виктор Анатольевич навел справки. Обещали догнать «Кутузова» в Петрозаводске. Кинтель слегка успокоился.
Но в Петрозаводске Денисовы не появились. То ли что-то случилось, то ли решили путешествовать другим путем. Тем более, что чемоданы они предусмотрительно прихватили с собой.
Кинтель запечалился, но путешествие было такое, что для долгой грусти не оставалось времени. Столько всего каждый день: Валаам, Кижи, потом всякие города… Дома Кинтелю долго еще снились высокие берега, медленные великанские ворота и осклизлый бетон шлюзов, монастыри и крепости, не отстающие от теплохода чайки и стоящие над широкой водой печальные колокольни затопленных церквей…
Кинтель даже стал думать, что неплохо бы так жить всегда. Вроде бы в доме, под крышей и в то же время – в постоянном путешествии. Только надо, чтобы судно было не таким громадным. Пускай вроде того древнего колесного парохода, который Кинтель видел у какого-то заброшенного причала. Был бы неторопливый, но уютный, добрый такой кораблик. И чтобы подобрались на нем хорошие люди – и взрослые, и ребята. Разные, но все такие, кто никогда не обижает друг друга и от кого не слышишь: «Ну чё, блин, пасть разинул, будто форточку, шевели ходулями» (это если, например, зазевался в проходе у школьной раздевалки) – и при которых не надо все время держать себя готовым к отпору.
Взять бы на пароход ту девочку со скрипкой. Салазкина. Деда. Регишку… Набрать бы дружный экипаж – и в путь. Пусть шлепает колесами по всем рекам и озерам пароход под названием «Трубач». И не обязательно просто так плавать, можно делом заняться, грузы возить!
Этот пароход тоже иногда снился Кинтелю.
Салазкина Кинтель вспоминал, но ни разу не встретил. Город-то вон какой громадный. Старосадский поселок у черта на рогах… Сделать рамку для «Паллады» Кинтель так и не собрался. Сунул карточку на полку, между книг.
РАРИТЕТ
Саня Денисов не очень испугался, когда четверо прижали его к забору. Правда, ощутилось в коленках мелкое дрожание, но не от боязни, а так, «нервное», как говорит мама, когда у нее дрожит в пальцах кисточка. Приходилось попадать в такие переплеты и раньше: и у себя в Старосадском, и в других местах. Порой крепко доставалось, но случалось и отмахаться, уйти «не посрамивши флага» (как бриг «Меркурий»).
Можно было это и сейчас. Вон того, небольшого, кинуть через бедро налево, толстому стукнуть головой под дых – и давай Бог ноги! Но потом уже – ясное дело – по этой улице не пройдешь в одиночку. Конечно, если сказать про такое на Калужской, Корнеич тут же наладит «комиссию для разбора». И комиссия разберется, будьте уверены. Только надолго ли? Эти ведь, очухавшись, захотят реванша. И пойдет – око за око. Как в Южной Осетии…
Вот такие мысли и прыгали в Саниной голове, когда судьба послала ему спасителя. Именно судьба! Счастливая! Почти что чудо! Потому что ведь не просто хороший человек появился в решительный миг, а Даня Рафалов! Тот самый! О котором Саня так много вспоминал после прошлогоднего плавания…
Правда, вот огорчение: Даня Рафалов не помнил его!
Но, с другой стороны, если заступился за незнакомого, значит, и правда человек замечательный! И к тому же почти сразу Даня вспомнил. Заулыбался:
– Салазкин!
– Да! – радостно сказал Саня. Но тут же счел нужным объяснить: – Это в том году мама придумала… временное такое прозвище. Теперь уже забылось… Но ты зови Салазкиным, если хочешь! Раз тебе так запомнилось…
Даня Рафалов сказал с веселой сердитостью на себя:
– У меня дурацкая такая память. Бывает, что вижу – человек знакомый, а где встречались, вспомнить не могу. И вот с тобой тоже… Да ты и вырос с той поры…
– Да, изрядно, – охотно согласился Саня. – Там, на «Кутузове», я был тебе до плеча, а сейчас до уха. А ты ведь тоже рос все это время, правильно?
– Наверно… – вздохнул Даня Рафалов. Словно вспомнил что-то не очень веселое. Но тут же оживился: – Слушай! А куда вы тогда подевались с теплохода?
– Ой, это такая история… – Саня засмеялся от удовольствия, что сейчас эту историю можно рассказать Дане Рафалову. Так же весело и с «деталями», как любил ее рассказывать папа, когда приходили гости. И Дане, наверно, будет интересно. Вот он и шаги замедлил… – Это такая история!.. У меня родители не могут равнодушно пройти мимо магазинов. Мама – мимо промтоварных (несмотря на то, что в них сейчас шаром покати), а папа – мимо книжных… В Ленинграде мы, конечно, отстали от группы…
– Как и мы, – вставил Даня Рафалов.
– Да? Ну вот видишь, похоже… И началось «посещение торговых точек». То «маминых», то «папиных». У мамы – полная сумка кисточек и красок для своей работы, у папы – книжки под мышками, только я один – без всякого интереса от такой жизни. Наконец я сажусь на асфальт (ну не совсем на асфальт, а на ступеньку какого-то крыльца) и говорю: «Все! Или мы немедленно идем в Морской музей, или я на три дня объявляю голодовку». Три дня я выдерживаю. А мама – когда смотрит на меня голодного – только день. Так что этот прием безотказный… Ну вот и пошли. Знаешь, Морской музей – это бывшая биржа. На стрелке Васильевского острова.
– Мы с дедом были.
– Ну тогда ты, наверно, помнишь: там в большом зале, слева от входа витрина с вещами Петра Первого…
– Нет, я не помню. Я как вошел – сразу к моделям! Ну, к тем громадным, что посреди зала.
– А-а… Мы не так. Папа любит, чтобы все по порядку, он же историк… Ну и вот, он вдруг замер у этой витрины. Где царский камзол, ботфорты и всякое другое, что Петру принадлежало… Но он не из-за этих вещей, а из-за книг… Вообще-то папа специалист по древней истории и по средневековью, но редкие книги собирает про все эпохи, это у него страсть… И вот он тут дышать перестал. Мама говорит: «У тебя что, столбняк?» А он шепотом, прямо как в приключенческом фильме: «Это она…» – «Что она?» – «Он…» – «Что он?» – «Морской устав» Петра Великого…» Мама уже нервничать стала. «Ты что, – говорит, – хочешь разбить витрину и похитить книгу?» А папа: «Нет. Но я только что видел такую же… Только я не знал, что это «Устав». Я никогда не думал, что он выглядит так. Мне представлялось, что первое издание – это внушительный том…» – «Господи, – говорит мама, – где ты его видел? Это бред…» – Саня засмеялся на ходу, поглядывая на Даню. У того лицо было внимательное. – А папа опять шепотом: «В букинистическом магазине. В бывшей лавке книгопродавца Смирдина…» Знаешь, Даня, это в начале Невского проспекта, рядом со старым кафе. С тем самым, откуда Пушкин уехал на дуэль…
– Знаю, мы заходили туда. Не в кафе, а в лавку. В ней при Пушкине его новые книжки продавались, дед рассказывал…
– Правильно!.. Вот папа и говорит: «Бежим!» И помчался, не слушая маму… По набережной, по мосту, мимо Адмиралтейства. Плащ трепыхается, очки один раз уронил, мы еле поспеваем… Мама говорила потом, что мы были похожи на семейство, которое забыло выключить дома утюг и вспомнило об этом на полпути… Ворвались в магазин, папа сразу к шкафу: «Девушка, вот эту книжку, пожалуйста, покажите!» А де-вушка: «Да это ничего интересного. Старый морской устав…» – «Вот-вот! Именно…» И скорей за книжку ухватился. А мама, конечно: «Сколько стоит?» Потом бледная сделалась и села. Хорошо, стул рядом… Но разве папу остановишь, когда у него в руках такая редкость!.. Короче говоря, после этой покупки осталось у нас три рубля с копейками. Только-только, чтобы бабушке позвонить: «Спасите наши души, сидим на мели, шлите деньги телеграфом до востребования…» Но чтобы денег дождаться, надо остаться в Ленинграде! Вот, мы вещи забрали с теплохода, напросились в квартиранты на три дня к одному папиному знакомому. Решили: получим деньги, догоним теплоход в Петрозаводске…
– И не догнали, – вздохнул Даня Рафалов.
– Потому что перевод задержался. Хотя и телеграф, а такая волокита… Но мы все-таки еще попутешествовали потом. На поезде и на местных теплоходах. Побывали и на Валааме, и в Петрозаводске, и на острове Кижи. А оттуда домой, о Волге пришлось забыть…
– Ох и досталось, наверно, бедному папе от мамы, – сказал Даня Рафалов.
– Ты знаешь, нет! Не очень… Во-первых, это бесполезно. Папа все дни ходил в обнимку с этой книжкой и… ну, весь в себя ушел, будто в другое пространство. Так что ругать его не имело смысла. Да и за что? Волга никуда не денется, а тут такая удача – это же раз в жизни… Папа говорит: «Я и не предполагал, что такой раритет может быть в свободной продаже. Говорят, в семьсот двадцатом году этот «Устав» был напечатан всего в количестве пятисот экземпляров. А сколько их погибло во время морских сражений, войны, блокады, сколько потерялось! Остались наверняка единицы. Это же первоиздание!» Согласись, Даня, что удивительная история!
– Прямо роман, – отозвался Даня. – Ты, Салазкин, будто писатель: все прочитал, как по собственной книге.
– Потому что папа столько раз эту историю всем знакомым рассказывал. Я наизусть запомнил. Только теперь переделал, чтобы от своего лица, а не от папиного…
Даня Рафалов сказал:
– А мы с дедом в Ленинграде тоже одну старую книгу купили. В магазине на Литейном проспекте. Толстенный такой том Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Дед в него тоже вцепился, говорит: «У меня такая в детстве была, бабушкин подарок». Она в девятьсот одиннадцатом году напечатана. Куча картинок и крупные буквы… Я потом каждый вечер читал в каюте до ночи…
– Ты тоже любишь читать в постели?!
– Естественно… Дед ворчал сперва: глаза, мол, портишь. Я говорю: «А сам-то разве не читаешь по ночам?» Он рукой махнул…
«Все про деда и про деда, – с легкой тревогой подумал Саня. – Они что, вдвоем живут? Не спросить бы лишнего…» Страшновато ведь: вдруг нетактичным вопросом разрушишь вновь начавшееся знакомство.
– Ну вот, пришли уже… – осторожно сказал Саня. – Но теперь-то уж мы точно еще увидимся, да?
– Конечно!
– У вас сколько сегодня уроков?
– Пять.
– А у нас четыре. Ну ничего…
Первым был английский. Кабинет оказался еще закрыт, у дверей гомонили одноклассники. Кинтель увидел Алку Баранову.
– Мисс Рэм, дай скатать перевод, я дома совсем забыл, что надо делать письменный…
– Лодырь, – сказала Алка.
Они с Кинтелем еще с детсадовских времен были врагами-приятелями. Вечно спорили, и Алка всегда его подъедала и критиковала. Но выручать не отказывалась. Она сунула Кинтелю тетрадку, он устроился у подоконника. Тут же примостился сбоку Ленька Брянцев, обычно именуемый коротко – Бряк. Один из «достоевской» компании. Тоже начал писать и посапывать. Потом спросил:
– Чё, в натуре, что ли, закорешил с каким-то «дворянчиком»? Пацаны говорят…
Кинтель не стал его обзывать, разъяснил сдержанно:
– Никакой не «дворянчик», нормальный парень. Мы с ним в прошлом году на теплоходе вместе плавали… Что теперь было делать: пройти и не заступиться?
– А чё в «Гнезде» живет? Там одни сыночки начальников.
– Бредятину какую-то несешь. У него отец учитель истории. Где квартиру получили, там и живут. Отказываться было, что ли? – И не выдержал: – Что у вас за привычка всегда врагов выдумывать! Лишь бы охотиться за кем-то. Как стая…
– У кого это «у вас»? – оскорбился Бряк. – А ты не такой, что ли?
– Я на людей не кидаюсь… И так по всей Земле грызня идет, а тут еще на своей улице гражданскую войну разводить…
– Ну да, ты у нас юный пионер. И тот такой же. Вот и сошлись два сознательных…
– Ну и нефига у сознательного задание списывать, отвали на полдистанции. Алка не тебе тетрадку дала, а мне…
– Потому что она всю жизнь в тебя влюбленная…
– Вот именно! А ты ищи свою влюбленную… Иди-иди…
– Ну чё-о-о! Мне «англичанка» вторую пару вкатит!
– Тогда не возникай… И не вздумай к Саньке Денисову, к парнишке этому, прискребаться. И другим скажи… Что за люди!
«В самом деле, что за люди», – думал Кинтель о своих приятелях с улицы Достоевского.
Вроде бы, когда разговариваешь с ними, или игру затеваешь, или дело какое-то, нормальные ребята. Не дураки. Джула вон одной фантастики тыщу книг прочитал… Не жадные, заступаются друг за друга. Или когда вечером разведут костерок на пустыре, Вовка Ласкутин принесет гитару – так хорошо всем вместе делается, готовы друг за друга хоть куда… И такую дружную бригаду прошлым летом склепали! Джула добыл где-то длинный садовый шланг, разыскал среди развалин действующий водопроводный кран, провели кишку к обочине на Первомайской, там часто ходят машины. Поставили плакат: «Артель «Веселые брызги», мойка автомобилей. 1 машина – 10 руб.». Желающих полно оказалось, даже в очередь вставали. А лихая артель как навалится на машину! Кто со шлангом, кто с ведром и мочалкой! Через пять минут автомобиль – словно сию минуту с завода!.. И деньги делили без всякой ругачки, поровну, только Джула за свой шланг брал из общей выручки лишний рубль… Кинтель тогда за неделю заработал сорок пять «деревянных». Жаль, что артель не протянула долго: кто-то украл у Джулы шланг…
Впрочем, спор с Ленькой не испортил Кинтелю настроения. Он спокойно радовался хорошей погоде, когда вышел из дому, та же бесхитростная радость усилилась от встречи с Салазкиным. И теперь не исчезла. На коротких шумных переменах Кинтель Салазкина не встречал, но радость не проходила. Лишь на пятом уроке ее подпортила «литераторша» Диана Осиповна.
Кинтелю казалось, что Диана – она самая. Та учительница, из-за которой он в шестилетнем возрасте едва не схлопотал отцовских «блинов». Память на лица, как известно, была у Кинтеля скверная, но на девяносто процентов он был уверен. Диана появилась в этой школе в прошлом году. Скорее всего, она, как и Кинтель, переехала с Сортировки. Порой Кинтелю казалось, что Диана его тоже помнит, хотя и не уверена. По крайней мере, она часто поглядывала на Рафалова как-то по-особому и придиралась больше, чем к остальным. В прошлом году она преподавала у шестиклассников русский и литературу, а в этом – вот сюрпризик! – стала в седьмом «А» еще и классной руководительницей. Впрочем, Кинтель не очень расстраивался. Русский язык для него не был трудной наукой, литература – тем более. Поведения он был спокойного и к мелким Дианиным пакостям относился философски.
Нынче, однако, Кинтеля взяла досада. Это когда в конце урока Диана заявила:
– Летом вы все обязаны были прочитать «Тараса Бульбу». Кто поленился, читайте безотлагательно. Скоро мы начнем изучать это лучшее произведение Николая Васильевича…
«Обязаны были прочитать»! Кинтеля толкнула неожиданная злость. В последнее время он стал замечать в себе такие вот вроде бы беспричинные вспышки раздражения. И не всегда сдерживал их: надо клапаны-то открывать, чтобы «выпустить пар». Сейчас, правда, сдержался. Но не совсем. Сказал вполголоса:
– Ох уж, «лучшее»…
«Вечера на хуторе…» – это да! Кинтель очень любил их, читал не раз еще и до прошлогодней поездки. А «Тараса Бульбу» впервые прочел на «Кутузове», и повесть эта его… ну как ржавой теркой по душе. Был это какой-то совсем другой Гоголь, хотя вроде бы там тоже Украина, казаки…
– Чем недоволен Рафалов? – поинтересовалась Диана Осиповна.
– Всем доволен. Только «Вечера…» лучше.
– Ты уж поднимись, будь любезен, когда беседуешь с преподавателем… Оценка произведений – дело, как говорится, вкуса. Но есть школьная программа. И кроме того, «Тарас Бульба» – это самая героическая книга Гоголя. Сгусток патриотизма…
Ох, не надо было связываться! Но, глядя в окно, Кинтель тихо спросил:
– Это, что ли, когда в Днепр евреев кидают? Или польских грудных младенцев на копья?
Класс притих. Особенно Бориска Левин, скромненький такой очкастый шахматист, с которым Кинтель сидел на одной парте.
– Ты… – выдохнула Диана. – Ты, Рафалов… поступаешь, извини меня, просто подло. Ты выдергиваешь отдельные эпизоды… которые обусловлены определенной эпохой… не давая себе труда выявить общую тенденцию…
– Эпоха получается похожая, – все так же негромко выговорил Кинтель. – Как послушаешь радио…
– В том, что говорится по радио, Николай Васильевич не виноват! А ты… ты просто оскорбляешь! Нет, не меня! Мне обидно за великого писателя!
– Мне тоже… – вздохнул Кинтель.
– Всё! Можете быть свободны!
В коридоре Алка Баранова сказала:
– Скребешь на свою голову, Данечка. Диана Осиповна – человек памятливый.
– У нас плюрализм, – буркнул Кинтель.
– Вот-вот. Она тебе и покажет «плю»…
– Скажет «подбери соплю», – вставил оказавшийся рядом Ленька Бряк.
– Сам подбери.
На крыльце настроение опять улучшилось.
Школа выходила фасадом в сквер со старыми кривыми кленами. Было много ярко-желтых листьев, но летнее тихое тепло еще по-прежнему согревало окружающий мир. На кленах, будто елочные игрушки, болталась там и тут малышня с пестрыми ранцами – отпущенные с продленки первоклассники и второклассники. На вытоптанной площадке был вкопан турник. На турнике, уцепившись ногами, висел вниз головой Салазкин. В таком положении он ловил красный мяч, который с хохотом пинали в его сторону два продленочных пацана.
Салазкин увидел Кинтеля. Пропустил мяч, упал с турника на руки, вскочил. Нерешительно заулыбался. Кинтель сразу понял: Салазкин ждал его. Целый час! Хотя и делал вид, что он здесь просто так, забавляется с малышами.
– Привет, – небрежно сказал Кинтель. – Домой пойдешь?
– Да, разумеется! – Салазкин подхватил с земли сумку.
И они пошли. Салазкин смущенно поддавал ногой сухие листья. При этом слегка косолапил.
– Чего хромаешь?
– Ерунда! На физкультуре ступню подвернул… А ты…
– Что?
– Какой-то немножко хмурый.
Кинтель был не хмурый, он улыбался внутри. А что насупленное лицо, так это не стерлась еще память о стычке с Дианой.
– С классной поругался. На почве расхождения литературных взглядов… – Он дурашливо вздохнул. – Не надо было, да прорвалось. Наверно, зловещий переходный возраст наступил.
Салазкин весело оживился:
– Ой, у меня мама этого возраста как чумы боится! Если что не так, сразу: «Ну вот, он уже наступает!» Я говорю: «В десять лет еще рано». А она: «Но все равно это случится! И мне заранее жутко…»
«Наверно, единственное дитя у мамы», – со скрытой усмешкой подумал Кинтель. И Салазкин, кажется, угадал эту мысль:
– У меня две сестры: Зоя и Соня, близнецы. Они уже студентки, в Москве. Мама говорит, что с ними не было никаких забот и тревог. А со мной…
– Господи, а с тобой-то что? – вырвалось у Кинтеля.
– Ну-у… – Салазкин смешно помотал головой (коричневые волосы разлетелись). – Я не укладываюсь в параметры… Сейчас ведь как? Чтобы семья считалась «на уровне», нужен минимальный набор: импортная стенка в гостиной – раз, цветной телевизор – два, машина «Жигули» – три, породистый пес – четыре и ребенок, который занимается музыкой, или английским, или фигурным катанием, или еще чем-нибудь таким…
– Значит, все в тебя уперлось?
– Представь себе! Стенку добыли, в давние времена еще. Телевизор имеется. Пес, он хоть и без родословной, но вполне приличный терьер. Машины нет, но тут уважительная причина – мама страшно боится, что папа, если будет водить автомобиль, врежется в первый же столб. А больше некому… А со мной – просто беда. Никаких ярких данных.
– Ну уж… – вежливо сказал Кинтель.
– Даю слово!.. В английскую школу не взяли, потому что картавил в детстве. К спорту – ни малейшего призвания. К музыке – тоже…
– Ты ведь здорово пел тогда на «Кутузове»…
– Ох уж «здорово»! Просто вспомнилась эта песня… Кстати, музыкальный слух – это еще не талант. Голоса-то никакого. А если бы и был, у мальчиков он в четырнадцать лет все равно пропадает…
«А откуда эта песня?» – хотел спросить Кинтель. И не решился почему-то. Словно почуял границу, за которую при непрочном знакомстве заходить не стоит, хотя Салазкин и был вроде бы бесхитростно откровенен. Кинтель сказал о другом:
– А бывает наоборот: в детстве никакого голоса, а потом вдруг бас, как у Шаляпина…
– Кстати, папа обожает Шаляпина! У него старинные пластинки есть. И книга – шаляпинские мемуары…
Так вот, болтая, прошли они по улице Мичурина, по Камышловскому переулку, вышли на улицу Достоевского. Кинтель не подал виду, что заметил, как в Камышловском переулке напрягся и стрельнул глазами Салазкин, ожидая встретить недавних врагов. Никого не встретили. Миновали дом Кинтеля, но Кинтель промолчал об этом. Уже когда желтые утесы «Гнезда» надвинулись вплотную, Салазкин спохватился:
– Ой, а ты где живешь?
– Прошли уже.
– Ой… а почему ты… Меня, что ли, провожаешь, да?
– Ну… шагаем и шагаем. Заговорились.
– А то я подумал: может быть, ты решил, что я боюсь один идти… – Салазкин бросил зеленый взгляд.
– Ничего я не решил… Да и не тронет никто тебя теперь, я ведь предупредил. Они нормальные ребята, только иногда находит на них такое… «Классовая вражда» какая-то…
– Я понимаю, – покладисто сказал Салазкин.
– А еще мне охота было посмотреть, где ты живешь, – выкрутился Кинтель.
Салазкин обрадовался:
– Да? В таком случае идем до конца! Ко мне домой!
– Да ну, зачем это?.. – Кинтель вспомнил Денисовых – маму и папу.
– Пойдем, пойдем!.. Я понимаю, ты стесняешься. Напрасно, потому что дома никого нет. Кроме Ричарда… Мама приходит позже, папа со студентами на картошке…
Они вошли в крайний подъезд шестнадцатиэтажной громады. Поехали в лифте. Кинтель – с удовольствием: не часто случалось такое. Специально кататься на здешних лифтах он с «достоевскими» ребятами не ходил. Чудилось в этом что-то унизительное: быть чужим, ждать, что закричат и прогонят…
Салазкин уже в кабине деловито вытянул из-под галстука ключ на шнурке. В коридоре на девятом этаже, когда Салазкин подступил к двери, бухающим эхом отдался собачий голос.
Дверь открылась, сунулся из нее большущий, с жесткой бараньей шерстью пес. Но Салазкин запихал его обратно.
– Даня, входи… Ричард, это Даня, свой! Ты должен его уважать.
Пес помахал хвостом-обрубком в знак того, что согласен уважать Даню. Доброжелательно обнюхал его брюки. И Кинтель бесстрашно потрепал Ричарда по загривку.
Салазкин сказал:
– Дома он со всеми добродушный. А вот на улице постороннего не подпустит. Если бы я сегодня шел не один, а с ним, никто бы не пристал…
– Теперь и так никто не пристанет, – снова успокоил Кинтель. И стал расшнуровывать кеды.
– Да не надо! У нас дома нет такого японского обычая, чтобы обувь снимали… Пошли!
Квартира была трехкомнатная. С хорошей мебелью, но без лоска, который ожидал увидеть Кинтель. С заметным беспорядком, какой бывает, если в доме все заняты и нет времени для постоянной приборки. На стенах – желтоватые гравюры со всякими античными персонажами, в рамках и под стеклом. И всюду книги, книги, книги… Кинтель ревниво подумал, что у них с дедом и десятой части не наберется, хотя Виктор Анатольевич был тоже библиофил… А еще тут и там пестрели на полках глиняные расписные игрушки: красавицы в пышных юбках, лихие гармонисты, индюки с радужными хвостами, разноцветные кони с выгнутыми шеями. Салазкин заметил, что Кинтель смотрит на них:
– Это мамины. Она специалист по народным промыслам. Раньше работала в Управлении культуры, а теперь ушла в малое предприятие, расписывает дымковских кукол. Их знаешь как ценят! Иностранцы приезжают – и весь товар нарасхват! Потому что это ведь искусство…
– Сань, а книжку можно посмотреть? – вспомнил Кинтель. – Ну, ту самую…
– Конечно! Она у папы в кабинете, там у него все раритеты.
В кабинет Денисова-старшего Кинтель ступил с робостью. Знал уже, что отец Салазкина не просто преподаватель, а профессор Преображенского университета, доктор наук, автор нескольких исторических книг и ездил недавно в научную командировку в Голландию («Вот эти часы привез, с корабликом…» Белые фаянсовые часы с голубым парусником и ветряной мельницей на берегу тикали бодро, как у себя в Голландии, привыкли).
Салазкин с некоторой торжественностью открыл дверь тяжелого шкафа. Медленно взял с полки книгу. И на ладонях поднес ее Кинтелю.
Книга была маленькая, но очень толстая. В плотных корках, обтянутых чем-то вроде пергамента, с пересохшими от старости ремешками и медными пряжками. Салазкин глянул ревниво: «Ты понимаешь, какая это удивительная вещь?»
– Можно я подержу? – шепотом попросил Кинтель.
– Возьми…
Кинтель принял в ладони увесистый томик. Покачал. Салазкин сказал:
– Даже не похожа на Устав, не правда ли? Скорее как церковная книжка…
– А можно открыть? – опять шепотом спросил Кинтель.
Салазкин снял с медных шпеньков колечки пряжек, отогнул верхнюю крышку, корешок тихо заскрипел.
– Переплет из телячьей кожи, – объяснил Кинтель. – Пересох уже, надо осторожно, чтобы не потрескался…
На левой странице была картинка: парусная лодка в окружении всяких завитков и оружия. Справа – титульный лист. Старинные буквы всякого размера:
кнiга
УСТАВЪ
морскои
о всемъ что касается доброму управленiю
въ бытности флота на морЪ
А ниже, под чертой:
Напечатася повелЪнiемъ
ЦАРСКАГО
велiчества
въ санктъпiтербургскои тiпографiи
ЛЪта Господня 1720
АпрЪля въ 19 день.
– Двести семьдесят один год назад, – выдохнул Салазкин. – С ума сойти, верно, Даня? Может быть, ее сам Петр Первый в руках держал.
– Может, – согласился Кинтель. Но почти машинально. Думал о другом. И неровно, в какой-то странной пустоте перестукивало сердце. Как при чтении книжки, в которой вдруг нащупывается приключенческая нить. Или как в игре, когда вечером крадешься в репейных джунглях на пустыре и слышишь шорох того, кого ищешь. С тем же замиранием, только сильнее.
– Смотри, Даня, он на двух языках. Слева русский текст, а справа голландский. Петр, он же много взял из Голландии для флота…
– Потому и толстая такая, – рассеянно отозвался Кинтель.
– Жаль, что нескольких листков и таблиц не хватает… Зато смотри, какая надпись… вот там, сзади…
Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. На чистом обороте заднего листа выделялась хитрая вязь рыжих от старости чернил. Кинтель с трудом разобрал только верхнюю строку. Опять же: «Кнiга Морской Уставъ…»
– Непонятно…
– Папа прочитал: «Книга Морской Устав корабельного мастера Василiя Алексеева, сына Селянинова, дворянина города Зупцова…» «Зупцов» – через «п», но, наверно, на самом деле «Зубцов». Есть такой городок на Волге, выше Калинина. То есть Твери…
– Там корабельная верфь была?
– Не знаю… Может быть, этот Василий Селянинов там просто свой век доживал. Ну, как на пенсии…
– Странно, что дворянин. Мастера, они же были из простого народа.
– Не исключено, что император пожаловал ему дворянство за хорошую работу…
«Не исключено», – согласился про себя Кинтель. Но опять отрешенно. Главная мысль была о другом.
– Сань, я хочу поглядеть на нее на закрытую.
Салазкин поспешно захлопнул «Устав».
– Смотри, Даня, здесь на пряжках маленькие портреты, голова в парике. Папа говорит, что это, возможно, изображение императора…
В самом деле, в центре медных узорчатых застежек были крошечные лица в обрамлении буклей. Но теперь уже не разобрать, чей портрет. Да и не важно. Вернее, не это важно.
– Салазкин, сядь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло. И книгу возьми, вот так. Скорее.
Салазкин слегка испуганно послушался. Кинтель положил ему «Устав» корешком на коленку с коричневой родинкой-бородавкой, приоткрыл.
– Палец вот сюда, между листами… – И отошел, приглядываясь, как фотограф в ателье.
Салазкин смотрел с радостным непониманием: что, мол, за игра такая? Кинтель – руки в боки, прищурился. В нем разгорался азарт поиска и близкого открытия. И стало весело (хотя дело-то в общем серьезное).
– Наклони книжку чуть-чуть ко мне… Ага… И сядь строго, как… старая дама.
– Так? – Салазкин сделался словно деревянный.
– Вот-вот… Жалко только, что не похож ты на мою прапрабабушку.
– Пра… на кого?
– На мою прапрабабушку Теклу Войцеховну Винцуковскую… Между прочим, ее предки были графы в свите польского короля Стефана Батория… Можно я возьму это покрывало? – Кинтель кивнул на диван.
– Конечно.
Кинтель сдернул с дивана рыжий мохнатый плед, поднял Салазкина на ноги, двумя взмахами соорудил на нем длинную юбку. Снова опустил изумленного Салазкина в кресло:
– Сядь по-прежнему… Ага! Ну точно как на фото…
– Может быть, ты все-таки объяснишь… – робко начал Салазкин.
– Ага… Если все сойдется, дед будет потрясен…
– А… он кто, твой дедушка? – вежливо поинтересовался Салазкин. Спрашивать о сути дела он уже не решался. – Тоже потомок графов?
– Он медик… Сиди, сиди, я приглядываюсь… Раньше он был судовой врач, а сейчас заведует врачебными кадрами. А насчет графства… С одной стороны, выходит, – да. Со стороны матери. А по отцовской линии дальний предок был матросом… – Кинтель слегка потускнел, вспомнив о «Рафаиле». Но не надолго. Главное – книга!
Салазкин смотрел молча и вопросительно. Он мог, в конце концов, обидеться, раз Кинтель ничего не объясняет!
– Сань, я все расскажу!.. Чуть позже, ладно? Завтра же. А сейчас… понимаешь, я суеверный, сглазить боюсь. – Это он вроде бы и с шуткой объяснил, но на девяносто процентов всерьез.
– Ну хорошо… Можно я уже сниму эту юбку?
– Конечно! Спасибо, Сань… Я пойду, надо теперь срочно…
Салазкин встрепенулся:
– Я тебя провожу! С Ричардом. Ему все равно надо гулять.
– Но я не домой, а к… родственникам, на Сортировку. Тут рядом как раз остановка тридцать пятого…
– Ну, тогда до остановки… Можно?
– Ну конечно же! Идем!
ЦИФИРЬ
В квартире на Сортировке не оказалось ни отца, ни тети Лизы. Дверь открыла Регишка, поглядев предварительно в глазок и пискнув: «Это ты, Даня?»
– Привет, мартышка. А где предки?
– Папа – не знаю. Мама ушла к тете Рае. Сказала, что скоро вернется, а целый час нету…
– Придет, никуда не денется. А ты сиди учи уроки, большая уже.
– Нам еще не задают… У нас учительница вос-хи-ти-тельная.
– В первые дни все учительницы восхитительные, – вздохнул Кинтель. – Знание суровой жизни приходит позже… – Регишка в этом году пошла в первый класс.
Кинтель прошел к письменному столу отца. Ящики там не запирались. Кинтель знал, что в левом – всякие старые документы, почетные грамоты, квитанции и фотографии. Выдвинул, пошарил. Нашел…
Вот она, прапрабабушка, вот они, девочка Оля и мальчик Никита, из давних, почти легендарных времен. Текла Войцеховна – прямая, строгая, уверенная в правильности всех своих мыслей и поступков. Сидит, заложив палец в книгу, которую держит на колене. Книжка – ну в точности как та, у Салазкина!..
Девочка Оля (неужели это прабабушка Кинтеля?!) тоже смотрит строго. Наверно, нарочно, чтобы мама не обвиняла в несерьезности. А Никита… У него грустная полуулыбка и взгляд чуть в сторону. Словно этот гимназист ведает какую-то тайну. Может, знает заранее, что случится с ним в Крыму в двадцатом году? «УМ 1920 г.» – написано (вернее, нацарапано – тонко, как иглой) рядом с ним. Вернее, между ним и книгой… А может, Никита уже придумал письмо, которое после напишет на обороте снимка своим шифром?
Кинтель перевернул фотографию. Густая россыпь чисел – они тоже не то написаны острым бесцветным грифелем, не то выдавлены им. Разобрать, однако, можно, если постараться…
«Цифирь», – пришло в голову старинное слово. Это было подходящее название для числовой путаницы и загадки.
Числа были сложные. Сначала крупные – из двух или трех цифр, а рядом – дробь. Например: 843 4/22. И так сверху донизу, по всему обороту снимка. Поди разберись…
«Но, может, и разберусь! Если книга эта и правда «Устав» Петра…» Опять зазвенели струнки азарта. Кинтель, не долго думая, сунул фотографию в портфель.
– Папа станет ругаться, – заметила Регишка. Она вертелась рядом.
– Пусть ругается. Это общая фотография, семейная, значит, я тоже имею право… Да он и не узнает, я через несколько дней принесу.
– Ты так редко приходишь, – грустно сказала Регишка. И тронула щекой рукав Кинтеля.
– Дела всякие…
– У тебя всегда дела. А летом говорил, что вместе пойдем гулять.
– Ну… еще все равно почти лето. Вот выберу время – и пойдем…
– Когда выберешь? А то я совсем…
Кинтеля нехорошо царапнуло.
– Что «совсем»?
– Ну, скучно…
– Ты же в первом классе! Сколько дел!
– Это с утра в классе. А потом…
– А мама с папой никуда, что ли, с тобой не ходят?
– Мама с папой только ругаются все время друг с другом, – с тяжелой, как ртуть, грустью сообщила Регишка. – Им некогда.
Кинтель взял ее за подбородок. Печальная обезьянья мордашка. И под глазами темновато…
– Ладно, мартышка, завтра приду. В парк пойдем на аттракционы. Только после обеда.
– Опять сочиняешь небось…
– Честное пионерское, – усмехнулся Кинтель.
– Сейчас пионеров не бывает, – серьезно сообщила Регишка. – Маргарита Сергеевна говорит, что и октябрят, наверно, не будет.
– Как это не бывает, если вот он, галстук! – шумно возмутился Кинтель. – Ну ладно. Бывают или нет пионеры, а я приду. Ровно в два часа выходи из подъезда и жди.
– Ладно! Я желтое платье надену!
– Да, будь покрасивее. Умыться не забудь.
Несмотря на субботу, деда все еще не было дома. Кинтель поставил на плиту сковородку с макаронами, вытащил из дедова ящика с коллекциями лупу, через которую Виктор Анатольевич разглядывал значки и прочие свои редкости. Достал снимок.
…Дед появился после десяти вечера. Принюхался:
– По-моему, что-то у нас горело.
– Макароны! Ты бы еще дольше ходил где-то! Ночь на дворе, сколько можно ужин подогревать? Вот и подпалил…
– Дела, брат Данила…
– А макароны я новые приготовил, с колбасой. На сковородке под зеленой крышкой… Сам я уже поел.
– Тронут заботой, – рассеянно отозвался дед.
– Толич… Скажи, у твоей бабушки, у Теклы Войцеховны, мог быть старинный «Морской устав»? Петра Великого…
– М-м… С какой стати?
– Ну, вообще в доме. Среди других книг…
– «Морской устав»… Кто его знает? Не исключено. Это ведь правовой документ, он действовал почти без изменений до самой русско-японской войны. А дед-то был адвокат, у него, конечно, хватало всяких сводов законов… Откуда вдруг такой интерес?
– Потому что вот… Иди сюда к лампе… – Кинтель взял со стола снимок и линзу. – Твоя бабушка держит в руке вовсе не Евангелие, а «Устав» Петра Великого! Я такой же в точности видел сегодня!
Дед никогда не показывал большого удивления. И сейчас только спросил:
– Ты уверен?
– Да! Я в лупу разглядывал, в нее даже узор на застежках виден, такая четкость! Смотри сам! Тот же узор, с маленькими головами. Это, говорят, портрет царя…
– Дай-ка… – Толич порассматривал снимок сквозь стекло. Почесал оправой лупы подбородок. – Ну, если даже и так.. что из этого следует?
– А письмо, а шифр-то! Ты же сам рассказывал, что этот Никита говорил: «Ключ в руках твоей мамы!» Оле говорил, то есть твоей маме… Значит, можно расшифровать!
– А ведь в самом деле, – отозвался дед. Без особого, впрочем, восторга. – А книга-то где?
– Ты иди ужинай, я расскажу.
И рассказал про встречу с Салазкиным, про «Устав», пока Толич на кухне прямо со сковороды цеплял вилкой макароны.
– Занятно, – сказал дед, рассеянно жуя. – Но можно ли все-таки по фотографии судить, что это такая же книга? Скорее просто похожая… С чего бы это бабушка увлекалась морскими делами?
– Может, увлекались Никита и Оля. А книгу дали Текле Войцеховне просто так, подержать, когда снимались… Тут есть еще одно доказательство! Глянь сам, найдешь или нет? – Он сунул деду под нос фотокарточку и стекло.
– М-м… Ничего я не вижу, дай поесть спокойно… Какое еще доказательство?
– Тут написано: «Ум тысяча девятьсот двадцатый гэ»… Вроде, значит, умер в тыща девятьсот двадцатом. А приглядись, у девятки колечка-то вроде нету. Это скорее семерка, только тут еще пятнышко случайное, вот и выходит будто девятка!
– Ну и…
– А «Устав»-то напечатан когда! «Лета Господня тыща семьсот двадцатого, апреля девятнадцатого дня»! Я запомнил! И «у эм» значит «Устав морской»! Видишь, рядом с книжкой написано! Специально!
– Дай-ка гляну… Что ж, можно предположить… Слушай, попить бы чего-нибудь…
– Тебе чаю или компота?
– Лучше бы кофе. У нас, кажется, оставался растворимый…
Кинтель разболтал в кипятке остатки порошка. Но сказал:
– На ночь вредно, господин доктор.
– Когда как… Дай-ка фотографию, еще посмотрю… А красивая у меня была бабушка!
– Ты лучше на цифры посмотри! Книга-то есть, а как ею пользоваться? Сразу не поймешь, зачем эта арифметика…
– Ну-у, дружище! Я думал, ты сообразительнее. Ясно же, что большое число – номер страницы, числитель – строка, знаменатель – буква в строке. Старый способ…
– Толич, ты гений!
– Да? – грустно усомнился дед. – А кое-кто утверждает, что полный болван.
– С тетей Варей, что ли, поспорили? – догадливо спросил Кинтель. – Не переживай. Милые бранятся – только тешатся…
– Нахал ты, – устало сообщил Виктор Анатольевич. – И не был я нынче у Варвары. А торчал допоздна, да будет тебе известно, на внеплановом заседании Областного детского фонда с участием исполкомовских и медицинских деятелей. И узнал о себе много интересного…
– А именно? – оживился Кинтель. До сих пор его скребло: почему дед отнесся к открытию без должного энтузиазма? Казалось бы, Толич должен был загореться не меньше внука, а он какой-то вареный. Теперь же все понятно – когда служебные неприятности, не до тайн и приключений! Но это пройдет…
– Кучу вопросов пытались решить без всякого успеха… Конфисковали у райкомов пять отличных зданий, детская больница обрадовалась: ну, теперь получим корпус для ожогового отделения! А то малышей, которые на грани жизни, буквально в развалинах лечат… И исполкомовские чины говорят: шиш вам, есть заявки поважнее… Сволочи! Поважнее, чем умирающие дети!..
– Дед, ты поспокойнее, – озабоченно сказал Кинтель. – Опять будешь нитроглицерин глотать… Кофе еще тут зачем-то…
– Ничего… Я им, конечно, врезал с трибуны. «Подняли, – говорю, – над крышей трехцветный флаг вместо красного и думаете, что в этом вся революция?» А один проходимец (у деда это было самое привычное ругательство – «проходимец»), он мне, понимаете ли, заявляет: «А вы не думайте, что если вовремя из партии сбежали, то уже и демократ! Еще неизвестно, где вы были девятнадцатого августа!» Я говорю: «Не сбежал, а заявление хлопнул на стол перед вашими персонами! А где был девятнадцатого, вам известно! Койки готовил в больнице, когда дело пошло на накал!» А он: «Интересно, для кого койки? Может, для омоновцев, которые собирались митинг разогнать?» Тут я как заору: «Для всех, черт возьми! Для раненых! Мне плевать, кто кого разгонял, если ранен. Я врач, а не чиновная крыса!..» Еле нас растащили…
– Кофе больше не пей…
– Ладно… А потом новое дело. Дама из детского фонда встает и читает заявление: у мальчика лейкемия, у нас вылечить не могут, спасти можно только за границей.  Родители умоляют: нужна валюта для поездки. Кто даст? В детском фонде у них, видите ли, нет… Я говорю: «Как же нет? Вам завод «Кабель» передал на баланс, нарочно для больных!» А они: «У нас плановое распределение. Таких детей знаете сколько? И если выделять каждому…» А сами толпу бюрократов возили недавно в Австрию. Делегация, мол, для обмена опытом. Проходимцы… Главное, так ничего и не решили насчет мальчика… Конечно, таких детей много, особенно после Чернобыля. Да ведь для отца-то с матерью каждый – единственный… – Дед вдруг неловко замолчал, покосился на Кинтеля. Тяжело повозился на стуле и задумался.
Родители умоляют: нужна валюта для поездки. Кто даст? В детском фонде у них, видите ли, нет… Я говорю: «Как же нет? Вам завод «Кабель» передал на баланс, нарочно для больных!» А они: «У нас плановое распределение. Таких детей знаете сколько? И если выделять каждому…» А сами толпу бюрократов возили недавно в Австрию. Делегация, мол, для обмена опытом. Проходимцы… Главное, так ничего и не решили насчет мальчика… Конечно, таких детей много, особенно после Чернобыля. Да ведь для отца-то с матерью каждый – единственный… – Дед вдруг неловко замолчал, покосился на Кинтеля. Тяжело повозился на стуле и задумался.
Кинтель сел напротив. Положил кулаки на клеенку, подбородок на кулаки. Вдруг непрошено пришла в сознание скрипичная музыка. Та самая…
– Толич, а твоя мама… – Кинтель с особой осторожностью говорил слово «мама». – Она… и этот мальчик, Никита… Они что, правда очень дружили?
Дед поскрипел стулом.
– Я ведь не так уж много знаю… Ну да, дружили. Играли вместе. Она в этом доме жила, а он по соседству. Сын врача, между прочим… Их дом лет десять назад разломали, а до той поры на двери так и оставалась табличка: «Доктор Таиров Матвей Сергеевич». С твердыми знаками… А еще дачи у них были рядом – моих бабушки и дедушки и доктора Таирова. На берегу Орловского озера. Два сада сливались в один. Мама говорила, они с Никитой там то в прятки, то в индейцев играли… Между прочим, помню еще один снимок, как раз дачный. Они вдвоем на качелях. Мама в белом платьице. Никита в шляпе с лентой и в матроске… А еще они придумывали морские путешествия. По той карте, что над столом… Кстати, и «Морским уставом» тогда, наверно, тоже пользовались… Никите, кажется, семнадцать лет было, когда началась Первая мировая. Кинулся на фронт, вольноопределяющимся. А перед отъездом написал то самое цифровое послание, на память о детстве… Такая вот грустно-романтическая история. Давняя… – Глаза у деда заблестели, он отвернулся. – Слушай, Данила, глотну-ка я ма-аленькую рюмочку коньяка. У меня есть в аптечке. Для снятия давления и стресса…
– Только одну!
– Одну, одну… А с шифром надо разобраться. Любопытно…
– Не только любопытно. Может, и польза будет.
– Да какая же польза-то?
– А вдруг… клад?
– Тю-у… Ну какой клад мог быть у гимназиста?
– А может, нашел старинный… И перепрятал…
– Ох, Данила Валерьевич. Вроде ты уже не дитя, двенадцать лет…
– Ну и что? Самый тот возраст, когда всякими тайнами увлекаются, – рассудил Кинтель. – Тому Сойеру было столько же, когда он клад искал. И нашел, между прочим.
– Надежды юношей питают… А если найдешь драгоценности, что будешь делать? Подашься в бизнесмены, в духе времени?
Кинтель вжал подбородок в кулаки. Прикрыл глаза.
– Не-а… Может, отдам… чтобы того пацана отправили на лечение. И еще кого-нибудь. На сколько хватит…
Дед смущенно крякнул:
– Ну… дай тебе Бог, как говорится… – И встал.
– Не трогай посуду-то, – велел Кинтель. – Сам вымою. Иди уж… к аптечке.
– Ты, Данила, хороший человек, но… циник, – сказал дед с ненастоящим упреком.
– Я современный подросток.
Утром дед крепко спал. (Ох, одну ли только рюмочку он пропустил на сон грядущий?) Кинтель разогрел вчерашние макароны, пожевал, взял полинялый рюкзачок и двинул на рынок за картошкой. Хозяйственные дела проворачивать лучше с утра, пока свежие силы. Он шагал по ранней, рыже-пятнистой от солнца улице и размышлял, что надо убедить деда, чтобы сговорился насчет машины, и купить картошку сразу, несколько мешков, засыпать в сарае в подпол. И дешевле обойдется, и не нужно будет каждую неделю топать на базар по слякоти или по снегу.
Но пока слякоти не было. Безоблачная синь и обещание летнего дня…
Когда Кинтель вернулся, дед мурлыкал и жужжал электробритвой. Бодро поинтересовался:
– Какие планы на выходной?
– К Салазкину пойду. Ну, насчет «Устава»… А потом обещал Регишку в парк сводить.
– Благородные помыслы… А я потружусь на литературной почве… – Дед выволок из шкафа разболтанную машинку «Эрика», выложил на стол пачку бумаги. – Статью буду сочинять для нашего славного «Вечернего Преображенска».
– Про вчерашних бюрократов?
– Про них родимых…
– Толич, ты и про того мальчишку напиши. Которому валюта нужна, чтобы вылечили. Может, поймут…
– Будем надеяться…
Кинтель взял из пачки чистый лист, завернул фотографию, затолкал ее во внутренний карман джинсовки.
– Толич, я пошел!
Вчера на остановке, ожидая автобуса, Кинтель все-таки проговорился Салазкину: мол, кажется мне, что прапрабабушка на фотографии держит «Морской устав». И Салазкин взял с него обещание «непременно появиться завтра утром!». И еще сказал: «Ты видишь, мы не зря встретились! Это просто судьба!» Сам Кинтель постеснялся бы столь откровенно и радостно выразить эту догадку. Но подумал, что, возможно, Салазкин прав…
Договорились на одиннадцать. Кинтель вышел без пяти минут. День уже разгорался, как в июле. Кинтель стянул курточку и, помахивая ею, зашагал к желтым корпусам «Дворянского гнезда».
Открыла Санина мама.
Сейчас Кинтель разглядел, что она не такая молодая, как казалась на теплоходе. Постарела за год? Едва ли. Просто Кинтель впервые видел ее так близко, без косметики, в надетом поверх пестрого платья синем халатике – как у школьной технички.
– Здрасьте… я к Сане. Он дома?
– Проходи, мальчик… Повесь курточку на крючок.
Кинтель шагнул. Повесил. Нагнулся, чтобы расшнуровать кеды. Санина мама не остановила его, как вчера Салазкин, и Кинтель мельком порадовался, что носки чистые и без дырок.
– Саню я заставила заняться уборкой в своей комнате, там чудовищный кавардак… Санки, к тебе мальчик!.. А я пошла докрашивать свою композицию.
Салазкин – встрепанный, в старом тренировочном костюме – появился в дверях. Просиял:
– Здравствуй! Какой ты молодец, что пришел!.. А меня тут взяли в ежовые рукавицы, в пе-да-го-гические. Исправляют трудовым воспитанием.
– Давай помогу.
– Нет, что ты! Я уже всё… Пойдем, только тахту придвинем к стенке.
Они придвинули. Салазкин утащил в коридор совок и веник, стремительно вернулся. Плюхнулся на тахту, вскочил:
– Садись, Даня… А я заранее «Устав» приготовил, вот…
Знакомая книга лежала на столе. Кинтель потянулся к ней…
– Санки!.. – Это голос матери долетел из другой комнаты. – На минутку, пожалуйста!..
– Даня, извини, я сейчас… – И Саня ускакал.
Кинтель взял книгу – сгусток старины и тайн. Надо теперь сравнить поточнее: такая же, как на снимке?
Он вспомнил, что фотография в кармане курточки.
Вышел в прихожую. Мягко ступая по ковровой дорожке, дошагал до вешалки. Из-за приоткрытой двери слышны были голоса. Салазкин говорил жалобно и капризно, мама негромко и увещевательно:
– Я просто советую тебе быть внимательнее. И разве тебе недостаточно друзей на Калужской?
– Ну, ты ничего не понимаешь! Ты даже не запомнила его! А там, на «Кутузове»…
– Я прекрасно запомнила. Я еще тогда обратила внимание на какую-то его… угрюмость. Если хочешь знать, это неистребимая печать улицы…
Слабея от стыда, Кинтель задержал дыхание. Увидел себя как бы со стороны. Ведь и правда, ежа не причешешь, как ухоженную кошку. И отпечаток уличной вольницы въедается в человека, словно угольная пыль. Тем более, что и старые брюки не глажены, и майка со штопкой на боку. И как он вошел – угловатый, нескладный…
– Кстати, почему он был с дедушкой? Кто его родители?
– Ну откуда я знаю? Допрашивать, что ли?
– Не допрашивать, а деликатно поинтересоваться…
– Дедушка у него очень интеллигентный человек. Такой же книголюб, как папа…
Мама ответила что-то неразборчиво.
– Ну и что же? – тонко возмутился Салазкин. – Я же не могу, как Ричард на поводке! На фига было тогда переезжать сюда?
– Вот-вот! Этому ты, видимо, научился у него…
– Ничего не у него! Он… наоборот… Если хочешь знать, его прапрабабушка была польская графиня в свите Стефана Батория…
Возникший в прихожей Ричард вопросительно помахивал хвостом-обрубком и смотрел, как вчерашний знакомый осторожно снимает с крючка куртку, сует ноги в кеды. Может, гавкнуть? Кинтель, глядя в собачьи глаза, прижал палец к губам, бесшумно отодвинул язычок замка… Прикрыл за собой дверь. И в незашнурованных кедах кинулся по лестнице через все этажи: с девятого до входа в подъезд.
УЛИЦА П. МОРОЗОВА
Обиды на Салазкина не было. Никакой. Мало того, не было обиды и на его мать. Была досада на себя и ощущение постыдного провала. Словно, не умея танцевать, сунулся вальсировать посреди большого зала и оскандалился под неловкое молчание всех, кто это видел.
…Была еще злость. Но опять же не на маму и сына Денисовых, а на весь белый свет.
Кеды он зашнуровал только у своего дома. Деду пришлось соврать: уехал, мол, новый приятель на дачу, неожиданно. Врать придется и после: что книжка на снимке все же не «Устав» и прочитать цифирь не удалось… Обидно. Теперь до «Устава» не добраться. Разве что когда-нибудь потом, в какой-нибудь столичной библиотеке с редкими книгами Кинтель разыщет этот раритет и разгадает тайну.
Впрочем, сейчас тайна уже не казалась такой важной. И горечи оттого, что на неведомые сроки отодвинулась разгадка, почти не было. Была печаль, что не получится теперь ни дружбы, ни даже простого знакомства с Саней Денисовым, который год назад так хорошо пел песню о трубаче… Но и эту печаль Кинтель принимал с хмурой покорностью судьбе. Он привычный. Случалось переживать и не такое… Да и зачем ему этот мамин Салазкин? Ну славный, доверчивый, хорошо с ним, не надо быть вечно ощетиненным, пренебрежительно-насмешливым, как с «достоевскими» и одноклассниками. Однако что поделаешь? Мало ли неплохих людей в жизни встречается и уходит… А пока надо думать о том человеке, которому он, Кинтель, действительно нужен. Такой, как есть, без придирок. Регишка-то ждет!
Кинтель почистил и поставил вариться картошку. Деду (который все стучал на машинке) велел следить, чтобы «не сплавить на плиту варево». Потом соврал еще разок: сказал, что пообедает у отца.
Когда Кинтель прикатил на Сортировку, было как раз два часа и Регишка нетерпеливо пританцовывала у подъезда. Вся ну будто подсолнух: в желтом платье, в желтых колготках, с бантами солнечного цвета.
– Ты прямо как прожектор. Издалека видать.
– Это чтобы я от тебя не потерялась… Мама, мы пошли!
– Долго не гуляйте! – крикнула из окна первого этажа тетя Лиза.
 Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде-драконе, который бодро бегал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз – пластмассового зайчонка (когда-то такого же подарила Кинтелю в детском саду Алка Баранова). Высадили груду мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кинтеля была десятка – запас еще от прошлогоднего летнего заработка, – а через два часа осталось меньше рубля.
Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде-драконе, который бодро бегал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз – пластмассового зайчонка (когда-то такого же подарила Кинтелю в детском саду Алка Баранова). Высадили груду мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кинтеля была десятка – запас еще от прошлогоднего летнего заработка, – а через два часа осталось меньше рубля.
Регишка вела себя очень пристойно. В меру радовалась аттракционам и мороженому, в меру смеялась, но чаще была серьезной. А Кинтеля, несмотря на всю парковую пестроту и суету, не оставляли мысли о Салазкине. И наконец он с облегчением побренчал в кармане мелочью:
– Всё. Финансов только на автобус. Топаем домой.
– Хорошо.
В автобусе и по дороге к дому Регишка была задумчивая. Держала Кинтеля за руку и молча смотрела под ноги.
– Ты чего приуныла? Устала?
Она почесала пластмассовым зайчонком нижнюю губу. Подняла мордашку – глаза непривычно темные. Сказала по-взрослому:
– Даня, мне кажется, мы оба сегодня притворялись…
– Как это?
– Ты веселился не по правде, у тебя какие-то заботы.
Кинтель вздохнул:
– А у тебя?
– У меня… потому что папа и мама по-настоящему собрались разводиться…
– Да ты что!
– Да. Раньше они просто ругались, и это было еще ничего. А сейчас папа говорит: «Будем разменивать квартиру…»
Кинтель молчал. Регишка хотя была и не родная отцу, но любила его: все-таки пять лет вместе, с младенчества.
– Может, еще раздумают…
– Нет уж. – Регишка помотала бантами. – Даня… а ты будешь приходить ко мне, когда папа уйдет?
Тут у него непрошено щекотнуло в гортани. Он кашлянул, сказал тихо, но со всей твердостью:
– Буду. Пусть разводятся, это их дело, а мы с тобой… все равно… Не бойся…
– Тогда хорошо… – Она покрепче ухватила его ладонь. – Я хочу сказать, что тогда это не так страшно…
Тетя Лиза крикнула из окна:
– Появились! Наконец-то! Идите быстро, я вас покормлю!
– Нет, я не хочу! – отозвался Кинтель. На самом деле есть хотелось ужасно, хотя, кроме мороженого, они в парке еще сжевали по пирожку с повидлом.
– Даня, зайди хоть на минуту! Папа хочет с тобой поговорить!
– Ох, – прошептала Регишка. – Я тебя, кажется, выдала.
– Как?
– Вчера папа в ящике какие-то облигации искал, а потом спрашивает: «Ты не знаешь, кто ко мне в ящик лазил?» А я говорю: «Даня фотокарточку взял…» Не надо было, да?
– Почему не надо? Все нормально…
– Даня, ну зайди! – Это опять тетя Лиза. – Папа просит!
– Мне домой пора, дедушка ждет!
– Постой тогда, папа сам выйдет!
– Беги домой, – сказал Кинтель Регишке.
Та ушла, и тут же появился отец.
– Привет, наследник. Я тебя провожу, не возражаешь?
Кинтель не возражал. Но когда пошли, сказал сразу:
– Уж не думаешь ли ты, что я твои облигации стащил?
– Не думаю… Я их в бумажнике обнаружил… А фотография-то тебе зачем?
– Предками интересуюсь. Голос крови проснулся…
– Дед небось рассказами своими тебе мозги пудрит? – хмыкнул Валерий Викторович.
– Ну и… а тебе-то что?
– Да ничего… А он как сейчас? В каком настроении? Побеседовать мне с ним надо.
– О будущем, что ли? – напрямик спросил Кинтель.
– В курсе уже?
Кинтель заверил с тайной ноткой злорадства:
– Дед не одобрит.
– Ты, я смотрю, тоже не одобряешь?
– Дело ваше. Только Регишку жалко…
Отец помолчал на ходу. Потом бросил в сторону:
– Меня вот только никому не жалко…
– Сравнил, – сказал Кинтель. Подумал и добавил: – Непонятно, почему вы такие…
– Кто «вы»?
– Взрослые… Все время предаете детей.
– Ты это… поконкретнее.
– Ну, например, ты. Сперва меня, сейчас Регишку…
Отец тяжело проговорил:
– Насчет себя ты матери скажи спасибо.
– Легко теперь на мертвых валить.
– А она живая была, когда бросила! И тебя, и меня!.. Ты знаешь, как она пила? Вроде бы культурный человек, высшее образование, а… Ты деда спроси! Сама ушла, я не прогонял… Может, и лучше, что этот случай с «Нахимовым». Для нее лучше…
– Еще что скажешь… – тихо отозвался Кинтель.
– Ты ведь многого не знаешь, не помнишь… Такая приходила, что страшно было к тебе подпускать. И сама захотела, чтобы ты у деда с бабкой…
– Ну и ты не возражал…
– Господи, а что тебе известно про мою тогдашнюю жизнь?
«А тебе про мою?» – подумал Кинтель. Но промолчал. Тошно было от голода и печали. Подошли к остановке.
– Вон тридцать пятый стоит, я пойду…
– Ну, топай… Не суди строго-то…
– Да мне-то что, – сказал уже издалека Кинтель. Стало вроде бы жаль отца. Но что тут поделать, он не знал.
Глядя, как внук уминает жареную картошку, дед сообщил:
– Тут появлялся один мальчуган, тебя спрашивал.
– Какой? – подскочил Кинтель.
– Судя по всему, твой новый приятель. Небольшой такой, в ковбойке, в коротких штанишках. Весьма вежливый… Его наш сосед Витя Зырянов привел. «Вот, – говорит, – Кинтеля ищет».
«Не побоялся! Сам сунулся к местным, чтобы показали!»
– Ну и что ты ему сказал?
– Ну, что… Ушел, говорю, с сестренкой в парк, придет, наверно, поздно… Он, судя по всему, опечалился.
Только сейчас Кинтель полностью понял, что Салазкину тоже несладко. Скорее всего, тот догадался, что Кинтель услышал разговор и потому исчез. И теперь Салазкин, конечно, мается. Тонкая ранимая душа! И Кинтель хмыкнул. Вдруг поднялась на Салазкина такая досада! Кинтель постарался эту досаду подогреть и сказал себе, что Салазкин так храбро сунулся на улицу Достоевского, потому что не один, а с Ричардом.
– Он с собакой был?
– Нет, без всякого четвероногого. Только с Витькой…
Надо же! Впрочем, Кинтель ведь обещал Салазкину, что никто его не тронет…
Потом Кинтель подумал: а завтра-то что? Наверняка Салазкин отыщет его в школе. И будет небось жалобно смотреть и ненатурально спрашивать: что случилось?
А ничего не случилось. Просто незачем тебе, Саня Денисов, липнуть к Кинтелю, мама права. И годы у вас разные, и это… уровень культуры. И дружить без маминого позволения воспитанный мальчик ни с кем не должен. Еще курить научится и слова говорить всякие…
Растравив себя таким образом, Кинтель улегся на свой старенький диван и открыл наугад Гоголя. Но попался «Тарас Бульба» – то место, где он убивает Андрия. Кинтель плюнул, уронил книгу на пол и отвернулся к спинке…
Утром в сводке погоды радио сообщило, что еще два дня будет сухо и тепло, а потом придет резкое похолодание с дождями. Скорее бы! Потому что сырая унылость подходила состоянию души Кинтеля гораздо больше нынешних абсолютно летних дней.
В школу Кинтель подгадал нарочно к самому звонку – так, чтобы не столкнуться с Салазкиным, если тот ищет встречи. На переменах старался поменьше крутиться в коридоре. Раза два он замечал Салазкина в толпе, и однажды показалось даже, что Салазкин поспешил навстречу. Кинтель укрылся за дверью кабинета истории. Туда, к семиклассникам, Салазкин сунуться, видимо, не решился.
На последней перемене они все-таки столкнулись у туалета. Кинтель растерянно замигал, у Салазкина расширились зеленые глаза – в них и надежда, и вопрос, и виноватость. Но в этот миг загремел звонок, толпа ринулась из дверей, оттеснила Салазкина, и Кинтель вбежал в кабинет русского языка, в «Дианово царство».
Весь день Кинтель был в сумрачно-рассеянном настроении, а сейчас появилась злость. Из-за того, что так по-дурацки растерялся (струсил даже!) при встрече. И вообще это глупо! Все равно ведь никуда не спрячешься, раз в одной школе. Не сегодня так завтра Салазкин подойдет. И что тогда?.. Может, послать его подальше теми словами, которые в ходу на улице Достоевского и в школьном туалете? Чтобы сразу все оборвать… Но Кинтель представил, как беззащитно замигает Салазкин, виновато затопчется на тонких ножках… А в чем он виноват-то? Мама виновата, оберегает сыночка…
Точила еще и мысль, что виноват сам он, Кинтель. На кой черт надо было боязливо линять из денисовской квартиры? Ну покосилась бы Санина мать на подозрительного гостя, а потом, глядишь, и привыкла бы. Увидела бы, что не юный рэкетир, не наркоман и не шпана, и все наладилось бы. И «Морской устав» оказался бы под рукой!.. А теперь под откос! Дернула нелегкая чужой разговор подслушивать. Мало ли про что мать и сын говорят наедине. Самолюбие заело идиота…
«Ну и заело! – огрызнулся на себя Кинтель. – Приятно, что ли, когда смотрят, как… на вражеского агента. Ах, завербует милого мальчика в хулиганы…»
«А жил бы ты сам с матерью, и было бы тебе не двенадцать, а десять лет, и привел бы ты в дом неизвестно кого… Думаешь, она не затревожилась бы?»
И тут Кинтель наконец перестал скрывать от себя, что дело не только в самолюбии, в стыде за свою неотесанность. Дело все в той же давней зависти, в сладковато-ревнивом чувстве, с которым он смотрел на Салазкина и его мать еще на теплоходе. Как она поправляет ему воротник и прическу, как волнуется, когда он акробатничает на бревнах. И как другие матери тоже «пасут» своих пацанов. Это был счастливый, недоступный мир. И вчера этот мир по закону своей природы оттолкнул Кинтеля, угадал в нем чужака…
Это понимание стало наконец таким ясным, что у Кинтеля зачесалось в уголках глаз – где рождаются жидкие соленые горошины. Кинтель часто замигал, глядя за окно – там солнце насквозь просвечивало желтые клены.
– …Все смотрим на доску! Кто скажет, какой в этом слове суффикс? Не вижу рук… Рафалов, ты смотришь на доску или витаешь в облаках?
– Витаю, – тихо сказал Кинтель.
– А если это обернется двойкой?
– Дать дневник? – спросил Кинтель. Все так же негромко, но уже напружинив нервы. Загоревшаяся искорка конфликта спасительно уводила мысли от горькой темы.
– Охамели вы все, – сообщила Диана Осиповна. – Что за время… Когда я училась, невозможно было представить, что школьники могут так разговаривать с педагогами.
– Это было во времена Иосифа Виссарионовича? – осведомился Глеб Ярцев – интеллигент, язва и любитель эпиграмм.
– Нет, Ярцев, я не столь древняя мумия и родилась уже после кончины «отца народов». Но должна сказать, что мы напрасно отказались от всех без разбора завоеваний той эпохи. Строгая дисциплина и порядок в делах ох как были бы полезны в наше время…
– Это точно, – подал голос Артем Решетило, сын директора местной телестудии. – Раньше в каждом бараке каждый знал свои нары… И опять кой-кому порядка захотелось, в августе.
– Ой, только не надо, не надо о политике! Теперь каждый готов речи говорить, лишь бы делом не заниматься. А между прочим, старые методы кое-где возвращаются. И приносят весьма ощутимые плоды. Как, например, в Ставропольском крае…
– А что в Ставропольском крае? – слегка кокетливо спросила Алка Баранова. И стрельнула в Кинтеля глазами.
– Не читали в газетах? Жаль. Там казачий круг постановил воспитывать разболтанных подростков дедовским способом. Приводят в исполком и в присутствии родителей и комиссии по делам несовершеннолетних велят снять штаны. И нагайкой… Говорят, в окрестных школах очень укрепилась дисциплина.
– Тут ведь навык нужен, – заявил Артем. – У них, у казаков-то, традиции, а у нас в школе кто пороть будет? Лично вы?
– Тебя, Решетило, с а-агромнейшим удовольствием…
Чтоб закрутить режима гайки,
Лишат тебя штанов, Артем,
И всыплют двадцать две нагайки
Демократическим путем! -
стремительно сочинил Глеб Ярцев.
Девчонки зааплодировали. А когда утихли, Кинтель проговорил, ощущая нервный холодок:
– Это полумеры. Лучше уж вывести полтыщи виноватых на майдан и очередями из «максимов». Как большевики пленных офицеров Врангеля в Крыму…
– И Крым стал с той поры солнечным, – заметил Ярцев уже прозой.
– Да, – сказал Кинтель. – И сейчас тоже сразу будет дисциплина. Как на братском кладбище.
Диана Осиповна скрестила руки на бюсте. Покивала:
– Да-да. Вы готовы до бесконечности развивать любую тему, лишь бы не заниматься учебной программой… – В это время затарахтел звонок. – Всё! Идите на перемену. Задание запишете на классном часе. В этом же кабинете…
Негодование овладело демократически настроенным обществом.
– Какой классный час?! В расписании нету!
– Сейчас последний урок!
– У меня дома пес целый день не гулял! Он знаете что наделает?
– Заранее надо предупреждать!
– Чуть поспоришь на уроке – сразу классный час!
– Ти-хо! – Диана Осиповна тренированным голосом покрыла всплески неорганизованного протеста. – Никто не собирается обсуждать ваши споры, есть оргвопрос, это распоряжение директора! А кто сбежит…
– Пусть без родителей не является!
– Или нагайки…
– Дети, без шума! «Вы в школе или кто?! Вы ученики или где?!»
– Гусары, ма-алчать! Поручик Ржевский, как не стыдно при дамах!
Темою данного классного часа
Будет, ребята, устройство фугаса…
Рады теперь тишине педагоги:
Всюду развешаны руки и ноги…
Но это уже так, в пространство. И в дверь, которая закрылась за Дианой Осиповной.
Кинтель не пошел из кабинета. Так за партой и дождался звонка с перемены.
Тема классного часа оказалась вовсе не «фугасная». Просто идиотская: судьба пионерской организации. Той, которой на самом деле уже не было (даже вожатая уволилась). Но Диана сказала, что необходимо «расставить все точки». Ученики сами («Понимаете, сами!») должны решить, нужна ли в школе общественная работа и в каких формах она будет развиваться. Директор Таисия Дмитриевна считает, например, что пионерскую дружину следует сохранить. Только…
– Я не понимаю, почему морщится Рафалов! Один из немногих, кто еще носит красный галстук и должен, казалось бы…
Кинтель морщился своим горьким мыслям о Салазкине. И с облегчением отвлекся от них. Сказал, что галстук носит как память о светлом пионерском детстве.
– Неуместная ирония… Таисия Дмитриевна считает, что дружину надо сохранить, но прежние формы деятельности и, конечно, имя Павлика Морозова сейчас оставлять неуместно.
– А за что его так, Павлика-то? – вдруг спросил сосед Кинтеля, безобидный Бориска Левин.
– Неужели надо объяснять?! Он стал символом доносительства, которое в прежние годы было государственной политикой! А теперь, когда восстанавливают извечные моральные принципы…
– С нагайками, – сказал Кинтель, удивляясь тому, как тянет его на скандал.
– Помолчи, Рафалов! При чем тут нагайки? Я говорю про общечеловеческие нормы. Никогда нельзя предавать отцов!
– А детей?! Их можно, да?! – взвинтился Кинтель. Словно сорвалась пружина. – Отцам детей предавать можно?! – Теперь он помнил, как беспомощно и тоскливо смотрела вчера Регишка.
– При чем тут это?..
– А при том! – Кинтель подался за партой вперед. – Только и делают, что предают…
Артем Решетило (он, видать, часто слышал отцовские разговоры на такие темы) сказал обстоятельно:
– Сперва задурили парнишке голову светлым будущим… Это я о Морозове. Потом зарезали. Родственнички, за папу заступились. Потом сделали героем. А теперь поливают дерьмом каждый день. Великая страна сводит счеты с одним своим пацаненком…
«Дед так же говорил», – вспомнил Кинтель. Все почему-то притихли. Диана Осиповна кашлянула:
– Никто не спорит, гибель мальчика… и его братишки – это трагедия. Но нельзя же по-прежнему оправдывать неправое дело, за которое он погиб.
– Он погиб, потому что его предали, – сказал Кинтель.
И тут подал свой негромкий голос Бориска Левин.
– Афган – это тоже неправое. А солдаты, которых туда послали, разве виноваты?
– Может, их тоже как Павлика Морозова? – спросил кто-то с задней парты. – Всех подряд…
– Ты не сравнивай! – возмутилась Светка Левицкая, главная красавица класса.
И пошло:
– А почему не сравнивать?
– А в Южной Осетии по ребятишкам стреляют! Они-то при чем?
– А по телику казали, как в интернате воспитатели…
– А когда в дневник про всякое пишут, это доносительство или как?
– Нет, если взрослые про ребят, это пе-да-го-ги-ка…
– Тихо! Да тихо же, я вам говорю! – надорвалась Диана.
И стало наконец тихо. Но в этой тишине Алка Баранова задумчиво вспомнила:
– А в прошлом году физрук Ленчику Петракову ка-ак даст пинка. Тот заплакал и пошел к завучу. А физрук вслед кричит: «Иди, иди, доносчик! Павлик Морозов нашелся!» – И она опять быстро глянула на Кинтеля.
Тогда Кинтель сказал:
– Понятно, почему «Тараса Бульбу» изучают…
– Почему же, Рафалов? Изложи. – Диана Осиповна поджала губы и разомкнула опять. – Можешь не вставать…
Но Кинтель поднялся. Зашевелилось в нем что-то похожее на песенку о трубаче. Плюс все горечи прошедших дней. Плюс щекочущая глаза обида. И он выдал – спокойно так и убежденно:
– Потому что написано, как можно убивать сыновей. Не моргнув глазом. «Я тебя породил, я тебя и убью…» Шарах из берданки, и никаких вопросов…
– Ты что? Оправдываешь преступление Андрия?
– А убийство без суда – это тоже преступление, – сказал Бориска Левин.
– Левин, я знаю, что твой папа адвокат и ты подкован… Однако тогда были другие условия и права. Другая эпоха…
– Чего в ней другого-то? Сейчас тоже о нагайках тоскуем, – сказал Артем Решетило.
Кинтель, глядя через стекло на листья клена, выговорил раздельно:
– Этот Бульба просто трус.
– Ты, Рафалов, соображаешь, что говоришь? – Это она даже не с возмущением, а с жалобным страхом.
– Конечно, соображаю… Испугался, что казаки его к ответу потянут за сына: «Как ты допустил, что он к полякам переметнулся?» Вот и решил, чтобы концы в воду: «Я его своей рукой! Видите, какой я сознательный!»
– Ты… У меня даже слов нет!
Красивое лицо Дианы заполыхало. Да такое ли уж красивое оно, если злое? «Некрасивая красота, – мелькнуло у Кинтеля. – Как у матери Салазкина». И он добавил с ощущением сладкой мести:
– А старшего сына он тоже предал.
– Как предал?! Он, рискуя жизнью, пробрался в Варшаву! Чтобы поддержать его в последний миг!
Кинтель пренебрежительно шевельнул губой:
– Ничего себе поддержал. «Слышу тебя, сынку!» – и скорее ноги уносить… Уж выхватил бы тогда саблю – да на выручку. Бесполезно, конечно, да все же легче, чем слышать, как сыну кости ломают…
Диана Осиповна потерла щеки. Вроде успокоилась.
– Ты легко рассуждаешь о вопросах жизни и смерти. В твоем возрасте это вроде игры…
– Ну а если мы такие глупые, зачем это изучать… в таком возрасте.
– Не «мы», а ты… Я понимаю, каждый может иметь свою точку зрения на классиков, но должен же быть предел… Уважение какое-то!..
– Дать дневник? – сказал Кинтель.
– Нет… Но я очень хотела бы встретиться в ближайшие дни с твоей матерью.
Кинтель молчал, ощущая тишину. Опять посмотрел на листья. Потом объяснил – миролюбиво так, даже устало:
– Я думал, что в учительской всем известно, что моя мама утонула на пароходе «Адмирал Нахимов». Помните, была катастрофа в восемьдесят шестом году…
«А теперь держись. Чтобы ни один волосок не намок на ресницах…»
– Ну… извини, – с придыханием попросила Диана. – Ты… сам довел меня почти до стресса… Извини.
Кинтель смотрел в окно. Красиво там было. Золотисто.
– Рафалов, ты вот что… иди-ка домой. Это не в порядке возмездия, а… просто так. Ты какой-то не такой сегодня, тебе надо успокоиться.
– Да, наверно… – И Кинтель потянул из парты портфель.
Почему она его отпустила? Устыдилась нелепых своих слов о матери? Увидела, что Кинтель весь на нервах? Или испугалась дальнейшего спора о Гоголе?.. Ну и фиг с ней. Кинтелю не хотелось больше думать ни о чем. Пришло к нему ленивое успокоение. Потому что не может человек все время быть натянут, как тетива у лука. И в этом успокоении ни школьным делам, ни даже мыслям о Салазкине уже не было места. Зато, когда Кинтель побрел к дому, шевельнулась в нем и повела мелодию музыка – тот самый скрипичный романс.
И Кинтель понял: чтобы окончательно успокоить душу, надо поехать туда.
Кинтель не стал сопротивляться этому зову. Свернул на Красноармейскую, к трамвайной линии, сел на «четверку» и через двадцать минут сошел на остановке «Детский парк».
По правде это был не парк, а сквер, где гуляли с внучатами бабушки да устраивались на скамейках дядьки с добытым в боевой очереди пивом. Но такое случалось днем, а теперь на главной аллее были тишина и пустота. Верхушки тополей были оранжевыми от уходящего солнца, стало прохладно. Бронзовый Павлик Морозов – маленький, ростом с обыкновенного мальчишку – стоял на гранитном пьедестале. Прямой, тощенький, со сжатыми кулаками опущенных рук и вскинутой головой. Голова, плечи, распущенная рубашка были облиты грязно-серой краской. А на постаменте кто-то нарисовал суриком фашистский знак. В позе Павлика, в повороте его головы было отчаяние и упрямство…
Кинтель глянул на памятник и отвел глаза. Словно в чем-то виноват.
Аллея, что тянулась от главного входа, через сотню метров упиралась в забор из решетчатого бетона. В нем была калитка, она вела на улицу имени того, кому стоял в сквере памятник, – П. Морозова. Но Кинтель не пошел туда. Метрах в десяти от выхода, у пыльных кустов желтой акации стояла скамейка. И Кинтель привычно сел на нее.
Над решетчатым бетоном и кустами виднелся верх пятиэтажной панельной хрущобы. Она стояла на другой стороне улицы П. Морозова. Солнце пряталось как раз за этим домом, и он казался на фоне светлого неба почти черным.
Кинтель отыскал глазами второе с краю окно на верхнем этаже. Окно было открыто. Значит, она там…
«Та-а… та-та, та-та-та…» – прошелся по невидимым струнам ласковый смычок. Повел мелодию плавно, с хорошей такой грустью. Кинтель отдался этой грусти без сопротивления, поплыл как в прогретой летним солнцем воде… Вот шевельнулась штора, зажегся за окном неяркий свет… А может быть, она сама покажется в окне? Пускай темным, плохо различимым силуэтом, все равно… Да нет, вечером ей не до того, чтобы стоять у окна. Небось дел по хозяйству выше головы… Ну ладно, все равно она там, в этой комнате с желтым светом. И ниточка от Кинтеля тянется туда. Вернее, такой тонкий невидимый луч. И может, однажды она ощутит этот луч, почует что-то…
Зашуршал под осторожными шагами сухой лист. Не шевельнувшись, Кинтель досадливо скосил в сторону глаза. У края скамьи стоял виноватый, с опущенной головой Салазкин…
Трудно сказать, чего больше испытал Кинтель – досады или радости. Только одного не было совсем – удивления.
– Следил, что ли? – спросил Кинтель устало.
Салазкин переступил на шелестящих листьях. Головы не поднял, объяснил шепотом:
– Да… я шел следом. И ехал… Извини…
– Ладно, извиняю… – хмыкнул Кинтель, хотя насмешничать не хотелось. – Садись, раз… догнал.
Салазкин быстро глянул из-под волос, присел на край скамейки. Бросил к ногам сумку. Потрогал на коленке похожую на горошину бородавку.
– Понимаешь… я был там, у школы. За деревьями. А ты вышел… такой… ну, будто у тебя что-то случилось. И пошел не домой, а к трамваю… Я и подумал: когда человек в таком состоянии, он… мало ли что…
– Решил, что я голову положу под колеса? – Кинтель не сдержал язвительной нотки.
– Ну… я понимаю, что это глупо. Только я… ужасно мнительный. Это все говорят.
– Салазкин, не валяй дурака, – прямо сказал Кинтель. – Тебе просто надо выяснить со мной отношения.
– Ну… и это тоже…
Кинтель покорно вздохнул:
– Давай.
– Что?
– Спрашивай: «Почему ты ушел ни с того ни с сего…»
Салазкин понажимал бородавку, словно кнопку.
– Я знаю. Ты слышал наш с мамой разговор и обиделся…
– Да не обиделся я. Не в этом дело.
– Нет, ты обиделся. И совершенно справедливо… Даня, ну что я могу сделать, если она такая?!
– Ты на мать бочку не кати, – сурово сказал Кинтель. – Она хорошая.
– Да! Я знаю, конечно! Только… у нее ряд предрассудков… Вот и ты ушел из-за этого…
– А ты представь себя на моем месте.
– Я представил… – Салазкин опять поник головой. – Я понимаю… Но мне-то что делать теперь? На моем месте…
Это он совсем тихонько сказал. И Кинтель опять ощутил притяжение к доверчивому и отважно-беззащитному Салазкину. То самое, которое испытал впервые, услышав песню о трубаче. Тут была и готовность защитить его от врагов, и желание узнать у него какую-то тайну…
– А ничего не надо делать, – буркнул он. – Обойдется…
– Я уверен, что мама все поймет.
– Вот и хорошо… – Это получилось у Кинтеля совсем неласково, с недоверием, но Салазкину оказалось достаточным и того. Он засмеялся. Потом нервно подышал на ладони, потер ноги и локти. Вместе с сумерками подкралась неуютная зябкость. – Продрог небось, – ворчливо заметил Кинтель. – Не лето уже.
– Чепуха… А у тебя руки тоже голые.
– Я привычный.
– А я, думаешь, нет?! Приходится закаляться с весны.
Кинтель хотел спросить, почему это такой домашний Салазкин должен закаляться? Неужели мама велит? Но не решился, сказал о другом:
– Тебя небось уже ищут. С фонарями по всем улицам…
– Я позвонил маме на работу, что задержусь… с одним товарищем. И что он меня проводит.
– Нехорошо обманывать маму, – не удержавшись, поддел Кинтель.
– Я… собственно говоря, я не обманывал, просто не уточнил. Я ведь не сказал, «с лучшим другом». А товарищем назвать… можно и того, с кем плавал однажды на теплоходе.
В этом было что-то вроде жалобного, неумелого отпора. И Кинтель слегка устыдился. Встал:
– Пойдем.
– Куда? – почему-то испугался Салазкин.
– Домой. Ты же обещал, что товарищ проводит. Надо выполнять.
– Но… ты, наверно, здесь чем-то занят. Мне показалось…
– Чем занят, то уже… всё. – Кинтель попрощался с окном глазами. – Пошли.
Они двинулись по аллее. Неторопливо. Салазкин слегка отставал. И вдруг сокрушенно проговорил из-за плеча Кинтеля:
– Я ужасно навязчивый, да?
– Нет… – Кинтель ощутил нарастающую бодрость. – Не ужасно. В самый раз! – Это он выдал уже с дурашливо-радостным оттенком. И Салазкин догнал, пошел рядом. – Только смотри, чтобы дома не узнали, с каким товарищем ты болтался, – весело предупредил Кинтель.
Салазкин сердито прыснул:
– Я не собираюсь скрывать… если мама спросит. Я имею право выбирать… друзей.
– Она решит, что я водил тебя в дурную компанию. И приучал к выпивке и сигаретам.
Салазкин с готовностью посмеялся и вдруг спросил:
– Даня, а ты уже пробовал курить?
– Естественно! У нас в округе все пацаны смолят… Только сейчас трудно с сигаретами, они же в сто раз подорожали. А бычки сшибать противно… Да для меня это уже пройденный этап. Мы с дедом завязали в один день.
Салазкин вопросительно молчал.
– Это весной было. Дед унюхал и говорил: «Выдеру по всем правилам». А я говорю: «Это не выход. Давай лучше вместе бросим – ты и я. Ты давно собирался…» Он подумал и говорит: «Видать, судьба. Давай. Все равно когда-то надо…»
– Я тоже один раз попробовал. Тоже прошлой весной, с ребятами за гаражом. Конечно, про это узнали, и папа не только пообещал, а по правде взялся за ремень. Единственный раз в жизни. Было совсем не больно, но ужасно в моральном отношении…
Кинтель вспомнил Диану с ее рассказами о казачьих обычаях. И сказал искренне:
– Свинство такое, нас готовы лупить все, кому не лень. И вообще изводить всячески… Даже мертвых в покое не оставляют. – Он кивнул на бронзового Павлика, они как раз проходили мимо.
– По-моему, это чудовищная непорядочность, – согласился Салазкин. И спросил: – А твой дедушка потом ни разу слово не нарушил? Насчет курева? – «И ты?» – прозвучало в его вопросе.
– Ни я, ни он… Дед у меня насчет обещаний твердый.
– Он у вас, наверно, главный в доме, да? Ты часто о нем говоришь.
– Он… просто единственный. – И, понимая осторожное любопытство Салазкина, Кинтель объяснил, чтобы уж сразу обо всем: – Мы с ним вдвоем живем. Потому что мать погибла в катастрофе, давно еще, а у отца другая семья… Ну, живем, ничего.
Салазкин дышал виновато, но и благодарно – за откровенность.
На остановке они долго ждали трамвая. Кроме Кинтеля и Салазкина, под навесом сидела парочка: длинноволосый парень и тощая девица в мини. Поглядели на мальчишек, будто на пустое место, и начали целоваться.
– Идиоты, – шепотом сказал Кинтель. – Обязательно надо свою любовь напоказ выставлять.
Скамейка была высокая. Салазкин качал ногами. Покачал и признался:
– А я уже влюблялся… один раз. Только это была безнадежная любовь.
Кинтель кивнул: понимаю, мол. Салазкин шептал:
– Потому что она была взрослая. Мамина знакомая. Изумительно красивая, но… я-то ей был ни за чем не нужен. Даже не смотрела… Я был счастлив, когда она перестала к нам ходить.
Кинтель сказал неожиданно для себя:
– Мама у тебя тоже красивая…
Салазкин не удивился:
– Да, это многие говорят… Даня, а ты… влюблялся когда-нибудь?
Был теперь тот настрой доверия, когда два человека будто на одной радиоволне. И Кинтель сказал Салазкину то, в чем не сознался бы ни «достоевским» пацанам, ни Алке  Барановой, ни деду и никому на свете:
Барановой, ни деду и никому на свете:
– Как-то раз, когда я такой был, как ты… по возрасту… я увидел девчонку… девочку. Она играла на скрипке, на улице. Ей деньги на новую скрипку нужны были… И вот с той поры… Только я больше никогда ее не встречал.
– Я понимаю. Она в том доме живет, на который ты смотрел там в саду… Да?
– Что?! – изумился Кинтель. Помигал, соображая. Потом грустно посмеялся. – Нет, Сань, тут совсем другое дело… Когда-нибудь расскажу… может быть.
Салазкин сказал покладисто:
– Хорошо. Конечно… про тут тайну с «Морским уставом» ты тоже обещал рассказать и в самом деле скоро все объяснил… ну а когда ты ко мне придешь?
– Я?! Зачем?
– А как же? Разве тебе не нужен ключ к шифру?
Кинтель только сейчас вернулся мыслями к цифири. До этой минуты и не вспоминал… Да, разгадать хорошо бы. Но…
– Ты сам-то подумай! Как я к вам теперь…
– Но можно когда мама на работе. Раз уж ты не хочешь ее видеть…
– Тайком, что ли? Сидеть и на дверь оглядываться?
– Ну ладно! – Салазкин встал с неожиданной решительностью. А может, просто услыхал дребезжащий вдали трамвай? Нет, сказал твердо: – Что-нибудь придумаем.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУНТ
«Что-нибудь придумаем», – сказал накануне Салазкин. И придумал. Перед первым уроком он разыскал в школьном коридоре Кинтеля. Таинственно отвел в уголок:
– Я принес тебе «Морской устав»… На… – И вытащил из сумки знакомую толстую книжку с ремешками и пряжками.
У Кинтеля аж мороз по коже.
– Ты чокнулся?! А если дома узнают?
– Папа в командировке. А мама к нему в шкаф не заглядывает. Ей и в голову не придет…
Кинтель поежился от смеси благодарности и страха:
– Слушай, Салазкин, зря ты… Как-то это… не то…
– Но должен же ты расшифровать надпись!
«Должен. Конечно, должен!» Желание разгадать письмо разгорелось в Кинтеле с новым жаром. Но он сказал сумрачно:
– Вот и получается, что ты из-за меня… лезешь в нехорошую историю. Мать правильно боялась.
Зеленые глаза брызнули сердитой обидой.
– При чем здесь ты? Это моя проблема – книгу тебе дать. К тому же папа никогда не запрещал мне трогать свои книги. Так что формально я ничего не нарушил…
– Он приедет и покажет тебе «формально»… Второй раз в жизни…
На сей раз Салазкин не обиделся:
– Он приедет лишь послезавтра. А ты сегодня и завтра посидишь над расшифровкой, а потом книгу я поставлю на место. Конечно, здесь есть элемент риска, но…
– Вот именно! «Элемент»… А если у меня портфель уведут или еще что-то случится?
– Ты уж будь осторожен, – слегка испуганно попросил Салазкин. – Теперь все равно никуда не денешься.
– Балда ты, – сказал Кинтель жалобно. – Спасибо, конечно, только все равно балда. Принес бы уж лучше ко мне домой, зачем в школу-то было переть?
– Я сначала и принес домой! Не такой уж я балда. Но ты уже ушел…
Кинтель виновато посопел:
– Да. У нас нулевой урок нынче был, биологичка назначила. Расписание кувырком… Ладно, я весь день буду портфель прижимать к пузу. А из школы пойдем вместе.
К пузу он портфель не прижимал, но на переменах не выпускал из рук. Обычно-то как: бросишь где-нибудь в угол или на подоконник и гуляй, пока не пришла пора идти в кабинет. Но сейчас Кинтель был словно дипкурьер со сверхважными документами. Впору приковать ручку портфеля к запястью.
Чувства у Кинтеля были разные. Прежде всего – радость, что ради него Салазкин пошел на такое дело. И что опять появилась надежда на разгадку письма. Но радость была перемешана с острым опасением. Не дай Бог, если дома у Салазкина узнают про это. И влетит ему, конечно, по первое число, и (что самое плохое) не подпустят его после этого к Кинтелю и на милю. Мама небось на всех переменах будет дежурить в школе. Или, чего доброго, переведут Саньку в другую… И зрело в Кинтеле предчувствие, что добром вся эта история не кончится.
Была даже мысль отыскать на перемене Салазкина и сказать: «Забирай-ка ты этот раритет, Саня, от греха подальше». Но ведь у Сани Денисова книга тоже не будет в безопасности. Наоборот, чего доброго, ухватят у растяпистого новичка-пятиклассника сумку, начнут футболить по коридору или по двору. Или сопрут – бывает и такое…
А Салазкин – то ли боялся быть навязчивым, то ли просто показывал Кинтелю, что полностью доверяет, – ни разу не подошел на переменах. Только в окно с третьего этажа Кинтель видел, как Денисов и его одноклассники по-обезьяньи качаются на кленах и турнике, гоняются друг за другом и сражаются рейками, балансируя на буме…
Ох, скорее бы кончились пять уроков…
Четвертым и пятым часами стоял в расписании труд. Преподавал его молодой и энергичный Геннадий Романович. В нем не было ничего от привычного образа трудовика, похожего на завхоза или фабричного бригадира. Геночка был строен, интеллигентен и вежлив даже с разгильдяями и балдежниками. «Сударь, ваше разухабистое обращение с таким тонким инструментом, как стамеска, может иметь непредсказуемые последствия… Весьма сожалею, но, если вы не перестанете ковырять вашего соседа напильником, я предоставлю вам свободу действий за пределами этого помещения…»
Девчонки болтали, что Геночка пишет стихи и готовит к печати книжку. Диана Осиповна однажды высказалась: «Представитель нового поколения. Весь из себя демократ…»
Он и правда был демократ. И сейчас, в коридоре перед мастерской, не стал орать и грозить «неудами», увидев на полу свалку семиклассников, решивших малость поразмяться. Он встал над ними и раздумчиво проговорил:
О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями…
«Кости» поднимались, отряхивались, говорили «здрасьте» и шли в мастерскую, которую Геннадий Романович отпер для мальчишек (девчонки ушли на домоводство).
Сумки и портфели полагалось оставлять в тесной комнатке, где хранились краски, лаки и запасные инструменты. Называлась она почему-то по-военному – каптерка. Кинтель оставил там портфель с большой неохотой, а потом занял место у крайнего верстака, поближе к полуоткрытой двери каптерки.
Задание оказалось простым: зачищать шкуркой ручки для напильников. Ручки эти наточили на токарных станках старшеклассники.
Поднялся ропот:
– Фига ли вручную-то! Можно было сразу на станке зачистить…
– Это специально, чтобы мы, как бабуины, чухались…
– Восьмые-то классы на станках, а мы – доски от забора к забору таскать или колупаться без пользы…
Геночка, поглаживая модную шевелюру, кивал и разъяснял доброжелательно:
– На станках начнете работать во второй четверти. Есть учебный план, утвержденный нашей уважаемой Зинаидой Тихоновной. Ваше стремление к социальной справедливости похвально, однако система требует разумного программирования… А что касается ручного труда, то именно он облагораживает личность, воспитывает в ней гармонию между интеллектом и физическим совершенством… Кто зачистит не меньше десяти штук, имеет пятерку в журнале…
– А сколько надо на четверку?.. А на трояк?..
– Четверок и трояков не будет. Или пять, или ничего… Левин, почему вы раскручиваете тиски с такой осторожностью, словно они из динамита?
Последнее выражение дало толчок новому трепу. Нечто вроде конкурса черного юмора. Шурик Хлызов, хихикнув, вспомнил:
Говорила бабка внучку Мите:
«Не копайся, Митя, в динамите!
Не копайся, я кому сказа…»
К потолку приклеились глаза.
Геночка азартно насторожился. Он собирал школьный фольклор.
Юрка Бражников, который всегда спорил, сказал:
– Это старо. Сейчас в таких стихах должна быть связь с современностью. Вот, например:
Дедушка кашлял, окурки кидал.
Дяденька внуку «калашников» дал.
Рады родители: «Тихо и чисто.
Мальчик у нас записался в путчисты».
Кинтель не болтал и почти не слушал. Зажал в руках деревянную ручку и швыркал по ней шкуркой. Не ради пятерки, а просто когда работаешь, время бежит быстрее.
А народ резвился:
Дедушка в свете земельной реформы
Грядку копал у вокзальной платформы.
Чавкнул колесами быстрый экспресс.
«Зря ты в политику, дедка, полез…»
Геннадий Романович громко заспорил:
– Нет, друзья, это уже не то! Политическая тема не спасает жанр от вырождения. Когда я учился в институте, перца в таких стихах было больше. Вот, послушайте… – Он встал в позу декламатора, но прочесть не успел.
– Ка-ак тут у вас весело… – Это возникла в дверях Диана. Кокетливо поинтересовалась: – Можно к вам на минуту?
Геночка рассыпался в словесных реверансах, из которых следовало, что присутствие многоуважаемой Дианы Осиповны послужит стимулятором дальнейшего совершенствования этих отроков в ручном труде, который всегда граничит с подлинным творчеством.
– Я как раз насчет ручного труда. Завтрашнего… Всех прошу слушать меня внимательно! Завтра приходим в школу к восьми утра без портфелей. Одеться потеплее и по-рабочему, желательно взять старые перчатки. Поедем на автобусе… Совхоз Кадниково очень просит нас помочь им на картофельных грядках.
– У-у-у!! – такова была первая реакция. Еще не оформленная в организованный протест.
– Что значит «у-у»?! Думаете, учителям больше, чем вам, хочется туда ехать? Срывать программу, комкать занятия?.. Но когда от нас зависит судьба урожая…
– Почему от нас-то? – сказал Шурик Хлызов и дерзко замахал белесыми ресницами.
– От нас – в том числе! Так же, как от всех горожан! Вы что, с Луны свалились?
– Да уж конечно! На Луне школьников на картошку не гоняют, – сказал Артем Решетило. – Потому что там социализм не строили…
– Вот и отправляйся учиться на Луну! А пока ты в нашей школе…
– А в нашей школе учителей не хватает! – заявил Юрка Бражников. – Но никто ведь не зовет колхозников английский преподавать!
– Оставь, Бражников, свою демагогию! В колхозах и совхозах не хватает рук! И едут все: инженеры, артисты, ученые, доктора, хирурги…
Тут Кинтеля потянуло на язык. Что с ним такое в эти дни? Как увидит Диану, так хочется все поперек…
– Ага, они, хирурги-то, сперва в земле копаются, а потом этими пальцами в потрохах больных. Аппендиксы ищут…
– А с Рафаловым я вообще дискутировать не намерена! Итак, повторяю: завтра в восемь…
– У меня завтра тренировка в бассейне, – сказал Дима Ивощенко – пловец и призер областного уровня.
– Потерпит твой бассейн!
– Он-то потерпит, а я…
– А картошку ты любишь?
Димка меланхолично разъяснил, что картошку он любит, особенно с укропом и постным маслом. И потому:
– Мы свои шесть соток на участке давно выкопали…
– Ка-ак замечательно! А о других думать не надо? О государстве!
– А государство о нас много думает? – нахально спросил Ленька Бряк. – В кабинетах потолки текут и штукатурка на башку валится…
– Вот именно! А совхоз обещал в обмен на помощь дать школе стройматериалы!
– Бартерная сделка, – сказал Решетило. – Живых школьников – на известку и цемент. Это, дети мои, рынок… Лучше бы дали каждому горожанину по участку, чтобы картошка была у всех. А то только обещают…
– Как ты лихо решаешь экономические проблемы!
– А это не я, это академик Тихонов недавно по первой программе выступал.
– Ну вот когда ты будешь академиком…
– Тогда уже картошки не будет. При таком хозяйствовании…
– Я понимаю, что твой папа – человек политически подкованный и тебя воспитывает соответственно, однако, пока ты в школе…
– Я должен учиться, а не на грядках вкалывать вместо картофелекопалки…
– Нет, это надо же!.. Чтобы мы в свое время… Ну хватит! Это не я придумала! Это распоряжение исполкома!
– А они не имеют права, – подал голос Глеб Ярцев. – Школьников посылать нельзя. И вообще принудительный труд запрещен. Только что Декларация прав гражданина в «Молодой смене» напечатана. Там сказано…
– Статья двадцать третья, последний абзац, – ввернул политически подкованный Решетило.
– Ну какая, какая может быть Декларация, когда стране грозит голод? Го-лод! Вы это понимаете? Критическое положение!.. Да, в стране много беспорядка, но сперва надо спасти урожай, а потом уже думать, как быть дальше…
Кинтель снова не выдержал:
– Это каждый год говорят, с давних пор. И никакого толку. Дед с молодых лет на картошку ездил, сейчас тоже всех гоняют…
– Но ты пока еще ни одного клубня не убрал!.. Впрочем, Рафалову я персонально разрешаю в совхоз не ехать! Раз он такой утомленный. Есть еще… саботажники?
Наступило нехорошее молчание. В этой тишине Бориска Левин осторожно спросил:
– А тем, кто не поедет, завтра приходить на уроки?
– Это… как понимать? Ты тоже отказываешься?
Бориска объяснил негромко, но безбоязненно:
– Меня просто не отпустят. Сестра недавно из колхоза вернулась, она в отряде пединститута. И сейчас в больнице. Их там двенадцать человек на поле отравились. То ли пестицидами, то ли еще чем-то. Это те, которые сильно. А кто не очень – тех еще больше… Между прочим, недалеко от Кадникова.
– Про это в газете было! – вмешался Ленчик Петраков. – В той самой, где Декларация!
Кинтель тоже вспомнили: дед рассказывал про отравления студентов на полях. Причем не первый год такое. Медики ломают головы: что за болезнь, откуда свалилась? Всякие комиссии шлют. А студенческие отряды с полей благоразумно сматываются.
– Теперь, значит, нас на место студентов, да? – Кинтель аккуратно отложил зачищенную ручку. – А потом еще говорят, что детей у нас не предают…
Гвалт поднялся:
– Ничего, ребята, будет отбор на выживаемость!
– Да фиг им, меня тоже не отпустят!
– А противогазы в совхозе дадут?
– Это как в Иране! Там пацанов на минные поля впереди солдат пускали!..
– Как в анекдоте: а дустом не пробовали?
– Борька, а с сестрой что?
Бориска сказал:
– Ноги отнимаются. И слабость…
Диана Осиповна возвысила голос до предела:
– Ти-ше! Вы что, с ума сошли?! На те поля, куда вы поедете, выдан санитарный паспорт!
Бориска вдруг крикнул:
– Где сестра была, там тоже такой паспорт был!
– Как вам не стыдно! – Диана полыхала щеками. – Геннадий Романович, хоть вы на них подействуйте! Ведь будущие мужчины!.. Когда я девочкам сообщила, ни одного голоса против!
– Потому как дуры, – разъяснил Решетило. – Или не знают… От таких отравлений могут себе заработать бесплодие…
– Что?! Что-о?! – тонко завопила Диана. – Да ты хоть соображаешь?.. Ты что понимаешь в таких делах?!
– А это не я. Это в «Тревожной студии» профессор мединститута рассказывал…
– Но вам-то, я полагаю, такая опасность не грозит, – ехидно заметила Диана. – Думаю, причина вашего спора гораздо проще, без медицины и политики. Обычная лень… И хотя бы подумали: как вы подведете совхоз. А они там… всегда так замечательно встречают ребят. Говорят, в прошлом году несколько фляг молока прямо в поле привезли – пейте на здоровье!
Глеб Ярцев сказал:
В совхозе городских ребят
Зовут желанными гостями.
О поле, поле, кто тебя
Усеял…
– Хватит! – Диана даже взвизгнула. – Не хотите – не надо! Но каждый… я подчеркиваю – каждый – пусть заявит об этом персонально!.. Геннадий Романович, портфели у них в той комнате? Отлично! По крайней мере, никто не сбежит! Я сяду там, и пусть заходят по одному. В зависимости от решения делаю запись в дневник… Вы позволите?
Геннадий Романович развел руками: не смею, мол, препятствовать. А на мальчишек посмотрел сочувственно. Кое-кто струхнул. Одно дело – галдеть в толпе, другое – подвергаться индивидуальной обработке. Да и дома, прочитавши Дианину запись, могут врезать… Но Артем Решетило поднял над головой ладони, сцепил указательные пальцы: «Держись, парни…»
Диана Осиповна решительными шагами удалилась в каптерку. Через пару минут послышалось:
– Афанасьев!
Гошка Афанасьев сделал скорбную мину, помахал рукой: прощайте, товарищи. И пошел… С минуту из-за двери слышались неразборчивые голоса. Потом Гошка появился с дневником и скорбно прочел:
– «Злостно нарушал дисциплину, отказался ехать в подшефный совхоз. Родителям явиться в школу!..» – И сообщил: – Вытащила у всех дневники, сложила стопкой и спрашивает: «Поедешь?! Нет?» И катает ручкой на полстраницы…
Кинтель не боялся неприятностей из-за отказа от поездки. Дед поймет. Но сердце нехорошо застукало, когда услышал, что Диана шарила в портфелях… А та выкликала: «Корабельников!.. Бражников!.. Левин!» И все шли в каптерку и выходили с одинаковым выражением лица. Пускай, мол, пишет, не пропадем…
Кинтель с тревогой и нетерпением ждал, когда и его позовут пред разгневанные очи. Чтобы получить запись и поскорее убедиться, что книжка на месте. Ждал и… не дождался…
Диана возникла в дверях:
– Всё! С теми, кто и на самом деле не поедет, разговор будет на родительском собрании. С директором и завучем!.. – И стук-стук каблуками к выходу.
– А я?! – сказал Кинтель. – Меня-то не вызывали!
Диана Осиповна с удовольствием сообщила:
– А ты, голубчик, после урока явишься в кабинет Зинаиды Тихоновны. И никуда не денешься. Потому что портфель твой уже там. У нас будет до-олгий разговор…
И как скверно стало Кинтелю. Сразу понял: это все-таки случилось.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Уже после, много времени спустя, Кинтель сообразил, как портфель попал в кабинет к завучу. Судя по всему, Диана открыла в каптерке тесное оконце и кого-то окликнула в школьном дворе: «Отнесите, пожалуйста, это к Зинаиде Тихоновне…»
А пока не кончился второй час труда, Кинтель маялся. Внешне он был спокоен, зачищал рукоятки и даже мурлыкал под нос. А внутри его поедом ела тревога. И полчаса показались ему тягучими, как жвачка.
Едва грянул звонок, он бросился на второй этаж, к двери с табличкой «Завуч».
Завучей в школе было несколько, но Зинаида Тихоновна – главная над ними. И даже над директоршей Таисией Дмитриевной – в тех вопросах, которые касались учебы. Потому что Таисия Дмитриевна по уши была занята хозяйственными делами, а школьные программы, уроки, дисциплина – все это на выносливых плечах Зинаиды Тихоновны. И тем не менее она была доброй теткой – это все признавали. Высокая, худая, с длинным складчатым лицом, в очках-колесах и с девчоночьим хвостиком на темени, она и на завуча-то не была похожа. А походила на моложавую бабушку из какого-то детского фильма – притворно-сердитую, но хорошую в душе. И если бы по какому-то другому вопросу, Кинтель шел бы к ней без всякой робости. Но сейчас понимал – книга…
Он стукнул в дверь, услышал «заходи», вошел. Встал у косяка.
– Здрасьте… – И глаза в окно. Однако успел разглядеть, что в комнате трое. Кроме Зинаиды Тихоновны и Дианы, еще незнакомый дядька – лысый, с кустиками рыжеватых волос над висками, но молодой. В модной куртке, в маленьких блестящих очках.
– Здравствуй, здравствуй, Рафалов… – Зинаида Тихоновна добродушно и в то же время сокрушенно закивала. – Ну, выкладывай, что натворил?
– А что? – сказал Кинтель. – Я и сам не понимаю! Всем прямо там, в мастерской, записи вляпали, а меня сюда…
– Не прикидывайся! Дело не в записи! – Диана водрузила на стол портфель и – конечно же! – достала из него «Морской устав». – Откуда у тебя это?
«Ох и дурак же ты, Салазкин! Догадался, притащил… Как теперь спасти тебя от беды?»
Кинтель понимал, что дело безнадежное, но все же произнес в пространство:
– Как откуда? Из портфеля. Сами вытащили…
– Рафалов, Рафалов… – укоризненно сказала Зинаида Тихоновна.
А Диана часто задышала:
– Не придуривайся! Ты прекрасно понимаешь мой вопрос!
– Я другого не понимаю. Почему вы по чужим портфелям лазите? У вас что, ордер на обыск есть?
– Рафалов! – Волосяной хвостик на темени завуча встал торчком, очки перекосились.
– А что «Рафалов»? – со звоном сказал Кинтель. – Во всех газетах и передачах о правах человека трубят, а на самом деле… беспредел какой-то! Мой портфель – моя собственность! А вы…
– А книга – тоже твоя собственность? – ехидно перебила Диана.
– А это не ваше дело!
– Рафалов! – С Зинаиды Тихоновны слетело добродушие. – Ты хочешь загреметь из школы?
– Во-во! – сказал Кинтель, ощущая, как наполняет его спасительная злость. – Я и говорю: права и демократия.
Диана воззрилась на лысого. Тот проговорил с ленцой:
– Никакие права не нарушены. Это был не обыск, а предварительный досмотр. Подтверждаю как юрист. И во избежание дальнейших недоразумений – вот, прошу…
Он вытащил из-за пазухи коричневые корочки, развернул перед Кинтелем. Тот увидел очкасто-лысую фотографию, лиловую печать, тушью написанное имя: «Глебов Андрей Андреевич». И мелкие слова: «Следователь… районного…» Корочки захлопнулись.
– Ну и что? – сказал Кинтель. А по жилкам растеклась противная слабость. Неужели это по правде? Успели вызвать из милиции? Ради такого дела?
– Как «ну и что»? – возмутилась Диана. – Ты не собираешься отвечать даже следователю?
– А чего отвечать-то?
Бесполезно все это было, но выдать Салазкина Кинтель не мог. Пусть хоть в тюрьму везут!
– Даня Рафалов! Тебя спрашивают: откуда у тебя эта книга? – с расстановкой произнесла Зинаида Тихоновна.
– Да мало ли откуда! – Злые слезы закипели в Кинтеле. Но пока глубоко внутри. Он ощетиненно глянул в блестящие стекляшки следователя («Как у Берии!»). – Что вы меня допрашиваете?! Краденая она, что ли?! Вы меня вором считаете?! Сами залезли в чужой портфель, а теперь…
– Каждый учитель вправе посмотреть, нет ли в портфеле ученика посторонних предметов, – назидательно сообщила Зинаида Тихоновна. – Вон, в четырнадцатую школу недавно взрывпакет принесли…
– Это не взрывпакет! Что, нельзя в школу с книгой прийти?
– Это посторонняя книга, – сказала Диана. – Посторонние книги приносить незачем.
– Я и не приносил. Это мне принесли почитать…
– Кто? – увесисто сказал следователь Глебов.
– Не все ли равно… Почему я обязан говорить?!
– Потому что тебя спрашивает представитель следствия! – взвилась Диана.
– И все по закону, – ровным голосом разъяснил Глебов. – Тебя допрашивают в присутствии педагогов как несовершеннолетнего. Задают четкие, конкретные вопросы. А ты юлишь…
– Сначала скажите, в чем я виноват… – Слезы подло подошли к верхней черте.
– Книга очень ценная! – спокойно (видимо, подражая следователю) разъяснила Диана. – Раритет. То есть музейная редкость. И мы вправе знать, как она оказалась в школе…
– Мы отвечаем за все, что происходит в стенах школы, – вмешалась Зинаида Тихоновна. – Поэтому и хотим выяснить: кто тебе эту книгу дал? Неужели так трудно ответить?
Кинтель хрипло сказал:
– Чья книга, тот и дал…
– Не ври! – Диана хлопнула по столу. – На книге печать: «Библиотека профессора А.ЭМ. Денисова»! Профессор тебе ее дал? Денисов А.ЭМ.?
«Ну вот и все», – понял Кинтель. Но огрызнулся – из-за одного уже упрямства:
– Там еще написано: «Книга корабельного мастера Василiя Алексеева… сына Селянинова…»
– Видите, как он крутит нам мозги! – торжествующе заявила Диана. – Корабельный мастер тут, голубчик, ни при чем, царство ему небесное. Книга эта – профессора. И я уже звонила в университет, чтобы выяснить, откуда она у тебя. К сожалению, на кафедре сказали, что Александр Михайлович ушел и будет лишь через час.
– Неправда! Он в колхозе! – вырвалось у Кинтеля.
– Нет, правда! А вот ты лжешь и крутишься!
«Врет? Или в самом деле звонила? Значит, Салазкин придумал, что отец на картошке? Или…»
– Постойте, постойте, Диана Осиповна! – Зинаида Тихоновна, кажется, обрадовалась. – Ведь у нас учится сын профессора Денисова, я вспомнила! В этом году поступил, в пятый «Б»!.. Даня, это он дал тебе книгу?
Это была уже развязка, никуда не денешься. Но Кинтель молчал. Во-первых, в горле застряла шероховатая пробка, а во-вторых… нет, не будет такого, чтобы он, Кинтель, выдал Салазкина своим собственным языком.
– Это он тебе дал? – повторила Зинаида Тихоновна.
Кинтель сжал губы. Диана подошла к нему вплотную:
– Ну?
Следователь Глебов сидел на стуле у стены, положив ногу на ногу. С любопытством поглядывал на всех и словно ждал чего-то. И вот наконец он снисходительно проговорил:
– Я уже беседовал с сыном профессора Денисова. Тот утверждает, что никогда не давал никаких книг этому… Рафалову.
Пол буквально поехал из-под ног Кинтеля! Как во сне! Правда, на один миг… Кинтель затылком прижался к дверному косяку. «Салазкин… неужели он мог такое?»
Как живого увидел Кинтель Саньку Денисова перед собой. Беззащитного и отважного, с зеленью честных глаз… Кинтель откашлялся и с великим облегчением сказал Глебову:
– Я думал, вы по правде следователь. А вы проходимец…
– Негодяй!
Диана взвизгнула и дала Кинтелю оплеуху. Вернее, хотела дать. Кинтель откачнулся, и она врезала пальцами по косяку. Тонко заскулила, прижала к губам мизинец. Кинтель отскочил. Глебов подбежал:
– Дианочка, что с тобой?.. Кожа содрана! Зинаида Тихоновна, у вас есть йод?
Та засуетилась, запричитала что-то, полезла в ящик стола.
Кинтель отошел на два шага. Сказал оттуда, ощущая удивительную смелость:
– Если вы следователь, что же вы закон не защищаете? Когда ученика в школе бьют!
Завуч с коричневым пузырьком выбралась из-за стола.
– Ты, Рафалов, сам спровоцировал… И никто тебя не задел, Диана Осиповна сама пострадала… Ничего страшного, ссадинка…
– А если бы я не уклонился? – непримиримо сказал Кинтель.
Глебов дул на пальцы «Дианочки». Та глянула на него из-за плеча – глаза мокрые, щеки пятнисто-розовые.
– Как ты, мерзавец, смеешь оскорблять взрослого человека? Сопляк!.. Зинаида Тихоновна, этого… уголовника у меня в классе не будет! Я его давно знаю! Помню! Он еще в шестилетнем возрасте… позволял себе поливать взрослых… отборными словами!.. Или я сама… откажусь от классного руководства!..
– Ладно, ладно… – Зинаида Тихоновна обрела спокойствие. – Нам всем следует остыть. И разобраться, наконец, с этим делом. – Она мимо Дианы и Глебова высунулась в дверь: – Кто-нибудь… О, Геннадий Романович, помогите нам, пожалуйста! Попросите кого-нибудь узнать в пятом «Б», нет ли там Саши Денисова. Если еще не разошлись… Это новичок.
– Да знаю я! – послышался веселый голос Геночки. – Он пасется рядышком. Пытал меня, куда девался после уроков Рафалов, а я говорю: повлекли в геенну… Кстати, не понимаю, чего Диана взъелась на него… Ох, пардон, Диана Осиповна, я вас не заметил. Мое почтение, Андрей Андреевич… Эй, Денисов! Давай сюда, тут тобой тоже интересуются…
Салазкин шагнул в кабинет (Геннадий Романович – за ним, встал у двери). Глебов быстро сел на прежнее место. Завуч и Диана отошли к окну, Диана все еще дула на мизинец.
Салазкин интеллигентно сказал «здравствуйте» и теперь слегка испуганно смотрел на Кинтеля.
Зинаида Тихоновна ровностью тона попыталась показать, что ничего особенного не произошло:
– Саша, будь добр, подойди к столу, надо решить один вопрос. Пожалуйста.
Салазкин поправил косое крыло прически и сделал несколько широких шагов. Увидел книгу, замер…
– Саша, скажи, ты давал эту книгу Дане Рафалову?
Салазкин шевельнул головой, словно хотел оглянуться на Кинтеля. Не оглянулся. Сказал, глядя на завуча:
– Естественно… А что здесь плохого?
– Видишь ли… Книга крайне редкая, мы встревожились. Мало ли что…
– Извините, я не понимаю, – тихо, но отчетливо сказал Салазкин. – Что вас встревожило?
– Я же объясняю. Приносить такие ценности в школу не следует.
Кинтель увидел, как под клетчатой рубашкой шевельнулись и затвердели Санькины колючие лопатки.
– Извините, я не так спросил. Как вы узнали, что эта книга у Дани? – И он в конце концов оглянулся на Кинтеля.
Кинтель сказал ему:
– Шмон устроили по портфелям. Такие у нас в школе порядки… Да еще по уху попробовали врезать.
– Рафалов! – Это завуч.
– Если тебе порядки не нравятся, можешь выметаться! – вмиг завелась опять Диана.
А Глебов сообщил опять от стенки:
– С такими задатками спецшкола для трудных была бы, конечно, уместнее.
И тогда вдруг выступил Геночка:
– А что, Диана Осиповна, ваш жених приходит в школу не просто навещать вас? Осуществляет еще и правовое воспитание? На общественных началах?
Вот оно в чем дело!
Кинтель и Салазкин смотрели друг на друга, и стремительно разматывался между ними молчаливый разговор-объяснение:
«Видишь, как получилось! Я же не зря боялся… Я не виноват…»
«Мы оба не виноваты!»
«А что тебе теперь будет?»
«Не бойся…»
«Я не говорил, что это ты дал книгу!»
«Я понимаю».
Диана Осиповна между тем вознегодовала на Геночку:
– А вас, Геннадий Романович, я просила бы не вмешиваться!
– Отчего же, уважаемая Диана Осиповна? Рафалов, он ведь и мой ученик тоже. Когда вы сегодня пришли в мастерскую и устроили… гм… воспитательную беседу, я ведь не протестовал… Впрочем, «шмон» в портфелях я не санкционировал. Зинаида Тихоновна, заявляю это официально.
– Товарищи, товарищи… Оставим наши педагогические проблемы на потом, здесь дети…
– С которыми Геннадий Романович всегда запани-брата! И распустил! – не унималась Диана.
– Наверно, потому, что по уху никого не бью…
– То-ва-ри-щи! – возвысила командирский голос завуч.
Все примолкли на миг. И в этой тишине Салазкин звонко спросил:
– Можно я теперь возьму книгу и мы пойдем?
– Нет! – Диана метнулась к столу. Видимо, терпеть поражение по всем статьям ей не хотелось. – Книгу получит отец! Когда придет!.. Зинаида Тихоновна, разве можно доверять детям такую… реликвию?
– Но папа в отъезде!
– Вот поэтому ты и взял книгу без спросу… – с упреком заметила Зинаида Тихоновна.
Салазкин сказал медленно и очень вежливо:
– Простите, но мы с папой сами решим этот вопрос. Вдвоем.
– Вы решите его здесь! При нас! – объявила Диана. – Тем более, что ты лжешь! Отец вовсе не в отъезде! Я звонила на кафедру, и мне сказали, что он на работе! Только вышел куда-то!
Салазкин опять оглянулся на Кинтеля. Тот пожал плечами. Диана торжествующе сказала:
– Ты можешь сам позвонить и убедиться. Тем более, что отец уже, наверно, вернулся.
– Правда, можно позвонить? – Салазкин посмотрел на завуча.
Та, кажется, обрадовалась:
– Да! И… попроси папу прийти сюда. – Она повернула к Салазкину красный блестящий телефон.
Салазкин снял трубку. Потянулся к диску пальцем, замер на миг, будто вспоминая номер. Быстро завертел. И…
– Это Саня. Добрый день… Да, я так сказал… В своей школе, в кабинете завуча. Знаешь адрес? Хорошо… Я дал Дане Рафалову, я тебе говорил о нем, книгу «Морской устав». Ту самую… Надо было, об этом после!.. Его портфель обыскала учительница, книгу отняла. Теперь нас в чем-то обвиняют… Чуть ли не в краже! Даню ударили… Да! – И положил трубку.
– Что такое?! – Зинаида Тихоновна затрясла волосяным хвостиком. – Зачем ты так?! Ты… это папе звонил?
С незнакомым тяжелым спокойствием Саня Денисов сказал:
– Я звонил кому следует… Можно я пока сяду? У меня болит нога… Придется подождать… – он глянул на круглые настенные часы, – шесть минут. Нет, теперь уже пять…
– Ты папе звонил?
– Сейчас приедет, – уклончиво ответил Салазкин. Прихрамывая, отошел от стола. Спиной вперед. Опять посмотрел на Кинтеля. Решительно так, незнакомо.
– Сядь… – Зинаида Тихоновна забеспокоилась. – Что у тебя с ногой?
– Пустяки. С дерева прыгнул, чуть подвернул… – Салазкин отступил к стене, где стояли четыре стула. На ближнем к столу сидел Глебов. Салазкин сел на самый дальний. Потрогал на коленке бородавку. Опять стрельнул глазами в Кинтеля – уже с веселыми искорками. Вскинул глаза на часы. Он явно не боялся.
А Кинтель боялся. Вновь. Вот появится отец, будет Саньке на орехи! Если не здесь, то дома. И конечно: «Не смей связываться с этим…» Как Диана сказала? «С уголовником».
А завуч все тревожилась:
– Может быть, показать ногу медсестре?
Салазкин сказал беззаботно:
– Не стоит, у меня ступня то и дело подворачивается, слабые связки. С возрастом пройдет… – Он согнулся, потер щиколотку. Волосы упали на лицо. Сквозь них он опять посмотрел на Кинтеля.
– Здесь калечат, здесь и лечат, – сказал Геночка. – Целых две травмы, не считая моральных.
– Геннадий Романович…
 Зинаида Тихоновна не договорила. С вежливым «Разрешите?» шагнул в открытую дверь, мимо Геночки, человек в черной болоньевой куртке, с красным мотошлемом в руке. Молодой, с тускло-медным ежиком волос и пыльно-коричневым лицом. Сквозь этот налет или загар проступали темные веснушки. И глаза на таком лице казались пронзительно синими, с очень яркими белками.
Зинаида Тихоновна не договорила. С вежливым «Разрешите?» шагнул в открытую дверь, мимо Геночки, человек в черной болоньевой куртке, с красным мотошлемом в руке. Молодой, с тускло-медным ежиком волос и пыльно-коричневым лицом. Сквозь этот налет или загар проступали темные веснушки. И глаза на таком лице казались пронзительно синими, с очень яркими белками.
Человек прошелся этими глазами по всем, кто был в кабинете. Сказал ровно и уверенно:
– Здравствуйте… Я не спрашиваю, сюда ли я попал, поскольку вижу Саню Денисова. Позвольте представиться. Вострецов Даниил Корнеевич, представитель конфликтной комиссии при областном Детском фонде. Так сказать, группа быстрого реагирования… Могу я поинтересоваться, что произошло?
С четверть минуты продолжалось общее удивление, обалделость даже. У всех, кроме Салазкина. Он поднялся со стула и не то чтобы заулыбался, а засветился весь. И Кинтель, глядя на него, тоже ощутил радость. Ничего еще он не понимал, но почуял, что дело, кажется, может обойтись без отца.
Первой пришла в себя Зинаида Тихоновна. Оно и понятно: будучи завучем, нервы натренировала она, как летчик-испытатель.
– Насколько могу судить, у нас ничего не произошло. По крайней мере, такого, что требовало бы присутствия… столь ответственных представителей.
– Боюсь, что здесь мы разойдемся во мнениях, – учтиво сообщил Даниил Корнеевич Вострецов. – Саня…
– Да! – звонко откликнулся Салазкин. – Почему нас допрашивают, как воров? И книгу отобрали! И… Даня говорит, что его ударили!.. Я принес ему из дому папину книжку почитать, а они… – У Салазкина со слезным дрожанием сорвался голос.
В наступившей тишине Вострецов раздельно произнес:
– Прошу прощения, но мне хотелось бы задать несколько вопросов.
– По какому праву?! – вскинулась Диана. – Кто вы такой?!
– Я ведь уже объяснил, кто я такой. Если угодно, вот удостоверения… члена комиссии Детфонда, нештатного корреспондента «Молодежной смены»…
– А вы нас не пугайте, молодой человек, – величественно произнесла завуч.
– О Господи!.. Ну почему, как начинаешь разговаривать с педагогами, сразу «не пугайте»? – В голосе Вострецова еле заметно заискрилась насмешка. – Я не пугаю, а выполняю свои обязанности, уважаемая Зинаида Тихоновна… Я ведь правильно назвал ваше имя? Я помню вас по выступлению на президиуме, вы очень убедительно говорили, что необходимо всегда соблюдать интересы детей…
– Вот об этом бы и написали в своей газете!
– Со временем, если пожелаете. Но сейчас я вызван по конкретному поводу.
– Да кто вас звал?! – взвилась опять Диана.
– Как кто? – удивился Вострецов.
– Я звал! – вмешался Салазкин. – Вы же слышали!
– Лихо… – сказал у двери Геннадий Романович.
– Значит, ты звонил не папе! – возмутилась завуч, и у нее перекосились очки. – Я так и знала! Какое ты имел право?
– А разве не имел? – удивился Вострецов. – Каждый ребенок вправе просить о защите, если…
– О защите от кого? – Зинаида Тихоновна пальцем укрепила на переносице очки. Успокоилась, глянула с укоризной и незыблемой правотой. – От своих учителей?
– Увы… – сказал Вострецов.
– Чем же мы обидели Сашу Денисова? – Она устремила очки на Салазкина.
– Не меня, а Даню!.. И почему не отдаете книгу?
Вострецов посмотрел на него, на Кинтеля, на учителей. Покачал снятым шлемом. Вздохнул:
– Насколько я понимаю, имело место следующее: несанкционированный обыск, изъятие не принадлежащей вам ценности и применение физических мер воздействия при допросе… Ибо иначе как допросом такую беседу не назовешь.
– Ну что вы такое говорите! – Зинаида Тихоновна от старательного пренебрежения сморщила лицо. – Диана Осиповна хотела выйти, попыталась отодвинуть мальчика с дороги, у нее сорвалась рука… Видите, она даже палец поранила о косяк…
– Гм… – Вострецов неуловимо повеселел. – А разве нельзя было попросить мальчика посторониться?
– Я спешила! – взорвалась Диана. – Я не могла оставаться тут, когда… этот… оскорбляет взрослых людей!
– Взрослых людей оскорблять, естественно, не следует, – согласился Вострецов. – А кого именно и как оскорбил этот ученик?
Возникло секундное замешательство. Но тут же насмешливо внес ясность Геночка:
– Ученик Рафалов назвал проходимцем Андрея Андреевича, будущего супруга Дианы Осиповны… вот его-с… Андрей Андреевич зашел навестить Диану Осиповну и, будучи работником следственного аппарата, принял посильное участие в разборе дела…
– Геннадий Романович! Это переходит всякие границы! Вы же педагог, а не… Вам совсем безразличны интересы школы! – Зинаида Тихоновна гневно уперлась в стол кулаками.
– Совсем не безразличны. Иначе кто бы мне мешал уйти в кооператив «Орбита», где зарплата в пять раз выше здешней? Пацанов только жаль…
Вострецов смотрел на Андрея Андреевича Глебова.
– Прошу прощения. Вы в самом деле следователь?
– Да. И я не видел причины, почему бы не помочь педагогам.
– Но такие процедуры, очевидно, должны оформляться юридически. Протокол и так далее…
Глебов хмыкнул и отвернулся: мелете, мол, че-пуху.
В Кинтеле кипятком взбурлила обида.
– Скажите, а следователь имеет право врать?
– В смысле?.. – спросил Вострецов.
– А вот он… сказал, что допрашивал Салазкина… то есть Саню, еще раньше. И будто Саня говорил, что не давал мне никакой книги! И выходит, что я украл… – (Ох, не разреветься бы! Вот будет скандал!)
Вострецов медленно, словно заболела шея, повернул голову к Андрею Андреевичу:
– Вы в самом деле так сказали мальчику?
Тот покачал ногой в замшевой туфле. Пожал плечами. Разъяснил снисходительно:
– Это был маленький психологический эксперимент. Что такого?
Вострецов мизинцем поскреб веснушчатый подбородок. Проговорил, тщательно подбирая слова:
– Я выполняю сейчас официальные обязанности, и только это обстоятельство не дает мне возможности присоединиться к энергичной и емкой характеристике, которую дал вам мой тезка Даня Рафалов…
Диана пискнула и кинулась из кабинета – Геночка еле успел отскочить. Глебов поднялся:
– Я полагаю, мы еще встретимся, гражданин… Вострецов, кажется?
– Полагаю, что встретимся, гражданин… Андрей Андреевич… – Вострецов посторонился, пропуская Глебова, который спешил за невестой. И сказал Зинаиде Тихоновне: – Думаю, что конфликт можно свести к минимуму, если мальчикам вернут книгу и портфель и если Дане Рафалову принесут извинения за… гм… попытку излишне резко отодвинуть его от двери… Впрочем, извиняться уже некому.
– Не нужны мне ее извинения, – сипловато сказал Кинтель.
– Даня, что у вас происходит с Дианой Осиповной? – произнесла Зинаида Тихоновна очень педагогическим тоном. – Может быть, есть смысл собраться и вместе выяснить раз и навсегда? А то она ужасно недовольна тобой.
Кинтель сумел усмехнуться:
– Мы по-разному относимся к «Тарасу Бульбе». И к казацким обычаям… А еще поспорили сегодня насчет картошки. В газетах пишут, что ребят запрещено посылать, а…
– А вас что, посылают? – быстро спросил Вострецов.
– Ага! Завтра. А ребята, конечно, зашумели. Потому что студенты недавно поотравлялись на полях, теперь, значит, нас…
– Какая чушь! – всполошилась Зинаида Тихоновна. – Это всего лишь на один день! На полдня! Шефы просили! На совершенно безопасное поле!.. Мы же не враги своим детям!
Вострецов медленно и веско проговорил:
– Существует указ Госкомитета по образованию, запрещающий привлекать школьников к сельским работам в учебное время.
– Но как быть, если урожай…
– Пора уже понять, что спасать урожай и латать экономику страны детскими руками бессмысленно… Есть, кстати, и письмо Детского фонда на этот счет. Я не говорю уже о Декларации прав ребенка, ратифицированной Верховным Советом. Она тоже запрещает детский труд…
– Господи, да это же в плане трудовой практики! Для зачета… Да и ничего еще не решено. Скорее всего, никто никуда не поедет, погода портится… – И Зинаида Тихоновна устремила взгляд за окно, где светился безоблачный теплый вечер. Геннадий Романович тихо хмыкнул и ушел за дверь.
Зинаида Тихоновна обернулась к Салазкину с доброй укоризной:
– Ох, Денисов, Денисов… Неужели мы сами не сумели бы во всем разобраться? Устроил панику, сорвал с места человека…
– Ничего, работа такая… – сказал Вострецов. – Если позволите, ребята возьмут книгу и мы пойдем…
Из школы вышли втроем. У крыльца стоял мотоцикл – пыльная вишневая «Ява». «Могли угнать», – отметил про себя Кинтель. Вострецов словно услыхал эту мысль. Весело объяснил:
– Я попросил добровольцев покараулить… Спасибо, ребята! – Он помахал рукой. Из кленовой чащи (из засады) выбрались трое «продленочных» второклассников. Гордые такие…
Вострецов выкатил мотоцикл на обочину. Протянул Салазкину ладонь. Тот с размаху, весело вложил в нее свою ладошку:
– До встречи! – Сразу видно: хорошие знакомые.
Вострецов протянул руку и Кинтелю:
– Ну, будь здоров, тезка. Еще увидимся… – Он вскочил в седло и газанул с места. Умчался.
– Кто он такой? – спросил Кинтель напряженно. Потому что чувствовал себя виноватым. Портфель с «Уставом» оттягивал руку. (Сейчас проводить Салазкина до дому, отдать ему книгу – и с плеч долой.)
– Это… – начал Салазкин весело и вдруг притих. – Ой… папа…
От перекрестка шагал к школе профессор Денисов. Кинтель узнал его сразу. Салазкин шепотом сказал:
– Значит, правда приехал… Наверно, ему сообщили на кафедре, что кто-то звонил из школы, вот он и торопится…
– Хана, – выдохнул Кинтель.
Салазкин тряхнул волосами:
– Какая чушь! Папа, он все понимает… Даня, а можно будет сказать ему про фотографию и про шифр? Чтобы все объяснить…
– Говори, – печально разрешил Кинтель. И подумал: «Если поможет».
Тогда Салазкин закричал:
– Папа, мы здесь! – И, прихрамывая, побежал навстречу отцу.
МЫС СВЯТОГО ИЛЬИ
В старинный подсвечник на столе деда Кинтель вставил новую свечу. Зажег. Выключил во всей квартире свет. Настроился на таинственность… В дверь застучали. Кинтель чертыхнулся, пошел открывать. Это явился сосед Витька Зырянов.
– Айда на пустырь! Там наши парни костер жгут, картошку испечем. Вовчик Ласкутин гитару принесет…
– Некогда мне.
Витька глянул через плечо Кинтеля в комнату:
– У вас чё, свет вырубили? Почему свечка?
– Колдую, – сумрачно сказал Кинтель. – Дух прапрабабушки вызываю. Спиритизм называется. Слыхал?
– Не-а…
– Ну ладно, гуляй…
Витька, однако, не уходил.
– А корешок твой новый, он ничего… крутой пацан. Мы в субботу с Бусей подходим на перемене, спрашиваем: «Ну чё, труханул тогда?» А он: глупый, говорит, тебя-то, говорит, я мог носом в траву положить за секунду… А Буся, зараза, ржет. Я говорю: «Ты, пионер, наверно, малость того, да?» А Буся: «Спорим на рупь, что Витьку не положишь?» Он и говорит: «Ну спорим. Только ты, Витя, не обижайся, пожалуйста». Культурно так… Я ему: «Ты сам потом не обижайся…» А дальше ничего понять не смог: ка-ак меня крутануло! И лежу – рожей в лопухах…
«Ай да Салазкин!» – весело подумал Кинтель.
– Рубль-то Буся отдал?
– Да он не взял! Засмеялся, а тут как раз звонок…
– Ладно, гуляй, – опять сказал Кинтель. И вернулся в полумрак. «Ай да Салазкин…» Однако даже такой приятной мыслью не хотелось разбивать прежнее настроение. То самое, со свечой…
Кинтель, конечно, играл. Потому что, если здраво рассуждать, заниматься расшифровкой было гораздо удобнее при электричестве. Но хотелось загадочности. Того состояния души, когда она откликается на зов приключений.
 Хорошо, что деда не было дома, он позвонил, что вернется поздно. Никто не мешал. Текла Войцеховна из полутьмы смотрела с портрета на праправнука строго и выжидательно. Стало даже немного… ну не то чтобы страшновато, а слегка «замирательно». И хорошо.
Хорошо, что деда не было дома, он позвонил, что вернется поздно. Никто не мешал. Текла Войцеховна из полутьмы смотрела с портрета на праправнука строго и выжидательно. Стало даже немного… ну не то чтобы страшновато, а слегка «замирательно». И хорошо.
Кинтель подтянул к столу дедово скрипучее кресло, забрался в него с ногами. Положил на сукно снимок вверх оборотной стороной. И медленно, в соответствии с важностью момента, снял со шпеньков узорчатые пряжки «Устава».
Да, книга была у него. Потому что там, на улице, отец Салазкина сказал мягко, но решительно:
– А «Устав» ты, Даня, возьми себе домой. На несколько вечеров… Возьми, возьми, не спорь. Тайны надо разгадывать обязательно… Признаться, мне и самому любопытно. Поделишься, когда расшифруешь? Если, конечно, там нет семейного секрета, который нельзя разглашать…
– Поделюсь, – буркнул Кинтель. Он был тяжело смущен всем случившимся. А Салазкин, тот, наоборот, – чуть не пританцовывал от радости, что так хорошо закончился разговор с отцом.
Разговора этого Кинтель не слышал. Потому что Салазкин убежал навстречу отцу, встал перед ним, взял его за бока, запрокинул голову и заговорил негромко и быстро. Один раз оглянулся на Кинтеля. Профессор Денисов тоже на него посмотрел. А потом всё смотрел на сына, не перебивал его долгую и, кажется, сбивчивую речь… Дальше случилось неожиданное: отец взял Салазкина пятерней за макушку, мотнул его голову, взлохматил сыну волосы. Кинтель стоял поодаль, но видел это отлично.
Салазкин весело затряс головой, ухватил отца за рукав пиджака, повел к Кинтелю. Тот – глаза в асфальт. Потом поднял.
Профессор Денисов сказал дружелюбным басом:
– А я вас помню, молодой человек. На теплоходе встречались. Ну здравствуй…
– Здрасьте…
– Александр мой изложил все события…
– Вы его не ругайте, пожалуйста, – давясь от неловкости, попросил Кинтель.
Александр Михайлович жизнерадостно сообщил:
– А я уже отругал! За то, что вокруг простой ситуации нагородил столько сложностей… Ладно, пошли, добры молодцы… – Одной рукой ухватил он за плечо сына, другой – Кинтеля. Пришлось шагать.
Кинтель сбивчиво проговорил:
– Сань, ты книгу возьми, положи в сумку…
Здесь-то Санькин отец и сказал, что не надо.
…Конечно, профессор Денисов понимал, что Даня Рафалов чувствует себя неуютно. И потому бодро заговорил с сыном:
– Ты почему косолапишь, друг любезный?
– Он в эти дни второй раз ногу подворачивает, – излишне ворчливо объяснил Кинтель. – Врачу надо показать.
– Не надо, уже все в порядке! – Салазкин запрыгал на одной ноге, а другой, подвернутой, весело заболтал. – Пап, ты почему так неожиданно приехал? Я даже не поверил…
– Что поделаешь? В соседней усадьбе трое студентов слегли, какая-то непонятная болезнь… «картофельный синдром». Мои подопечные зароптали. А я что должен? Позвонил начальству: говорю, что за каждого отвечаю. Картошка – дело важное, а люди дороже…
– У нас из-за этого сегодня тоже шум в школе был, – поделился Кинтель. – Хотели семиклассников послать. А ребята уперлись…
– Туда специальную комиссию посылать надо, а не ребят, – сказал Александр Михайлович.
Так подошли они к дому Кинтеля. Профессор предупредил:
– Только из квартиры книгу не выноси. Договорились? А то сам видишь, какие нынче времена и нравы… А потом принесете ее вдвоем с Саней. Двое – это гарантия.
Кинтель неловко кивнул. И глянул исподлобья на Салазкина: «Ты сказал отцу, почему я не хочу к вам заходить?» И Салазкин так же – взглядом – ответил: «Да. Я все сказал. А как иначе-то? Не обижайся…»
Кинтель не обижался. Он радовался, несмотря на все, что случилось в школе… А может, и хорошо, что случилось? Теперь больше ясности, больше прочности. И отец Салазкина вроде бы даже как союзник…
Первое число на обороте снимка было 18 18/15. Кинтель нашел восемнадцатую страницу, отсчитал сверху восемнадцатую строку. Начал считать буквы… Выпало на большую букву «К». Речь в строке шла про «велiкого Князя Iоанна Васiльевiча». При чем он тут, в «Морском уставе»? Ладно, потом разберемся… 23 10/18… Двадцать третья страница была с голландским текстом. Счет попал на «W». У Кинтеля стукнуло сердце. «W» – значит «вест». Намек на какие-то координаты!.. 35 4/10… Опять большое «W»!..
Но так не бывает! В обозначениях компасных румбов «вест» и «вест» не могут стоять рядом! Если «норд» с «нордом» или «зюйд» с «зюйдом» – это бывает: например, NNO или SSW. А два «веста» или «оста» всегда разделены другими буквами… С первой минуты – путаница…
«А ты не ударяйся в панику с самого-то начала! Выпиши сперва все буквы, потом будешь разбираться!»
Снимок был размером с открытку. Числа покрывали всю обратную сторону. В строчке их было шесть или семь, а всех строк полтора десятка. Значит, около сотни букв…
А запятые и точки, если на них выпадает счет в книге, надо учитывать? Нет, конечно! Вот они, сами по себе, готовенькие, стоят между цифрами!..
Потом под счет попали на голландской странице две скобки. Их, наверно, надо. Тем более, что сперва левая скобка, потом правая – что-то заключают в себе… Пока не понятно, что именно… На клетчатом листке, куда Кинтель выписывает букву за буквой, получается сплошная абракадабра…
Может, вообще все это ерунда? Может, нет никакого шифра? Или разгадка совсем не в «Морском уставе»?
Кинтель жалобно и с досадой оглянулся на прапрабабушку. Резная рама чуть мерцала остатками позолоты. Текла Войцеховна смотрела из полутьмы слегка насмешливо. «Что-то вы, сударь мой, слишком рано отступаете…»
Ладно, поедем дальше… Выпала старинная буква «ять». И снова никакого смысла… Хорошо хоть, что все числа различимые. Острый грифель оставил на гладком картоне четкие следы, и даже там, где стерся графит и где запись попадает на буквы и виньетки с рекламой фотомастерской А.О. Молохова, все равно можно разобрать число. Поднесешь снимок ближе к свечке, повернешь так, чтобы свет падал сбоку, и вся цифирь выступает, будто смазали специальным проявителем… А свечка слабо потрескивает, и в окне черно, и тишина в доме, только что-то шуршит по углам и словно кто-то тихонько дышит за спиной. Уж не прапрабабушка ли?..
Если тряхнуть головой, мигом исчезнет вся таинственность. Услышишь, как за окном, на недалеком пустыре, бренчит гитара или как мурлыкает на кухне динамик. Или как во дворе соседка Клава Зырянова, Витькина мать, ругает мужа… Но нет, не надо ничего прогонять. Может, в этом сумраке, при одиночной свечке как раз и придет разгадка?
Вот и последнее число: 710 2/1. Получилось «и». А потом еще стоит восклицательный знак… Но что он означает? Словно вскрик на непонятном языке. На совершенно неизвестном! Потому что на листке оказалось вот что:
К W W т м с
ъ N о ъ ы а
о Иi О (-Н)
в. л и с. Ш ъ
S о ъ а у к
О т М к ш и
в л н с
а у ъ ъ
Б л с Л о ъ
п ю ъ п д
в Ъ н й ы м
н ш е в е
к й о а Ъ
о к п т
с р г в и ъ
т о о н з
д а у а
в ф т
Н й и п м и
а д и о н!
Кинтель охватил ладонями колючий затылок. Буквы словно танцевали в желтом свете неяркого огонька. Насмешливо так… И сквозь бессмыслицу сквозил какой-то намек. Неуловимый. Буквы дразнили: а вот догадайся, тряхни нас как надо, и мы встанем по порядку… Это, наверно, только казалось. Как ни крути – сплошная чепуха… Просто зло берет на Никиту Таирова!
А может, и правда «Морской устав» ни при чем?.. Но не зря же выпали два «W» и одно «N». «Вест» и «норд». Осколки каких-то координат или направлений! А если…
Но короткую, чуть живую ниточку догадки оборвал телефонный звон. Резкий, оглушительный в этой тишине!
Кинтель дернулся, схватил трубку старого черного аппарата, который стоял за подсвечником.
Звонила Алка Баранова.
– Кинтель! Привет! Диана велела всех, у кого телефоны, обзвонить, что в совхоз не поедем. Чтобы завтра зря не тащились спозаранку.
Кинтель плюнул в сердцах. Про совхоз он уже и забыл. Сказал разозленно:
– Я и так не собирался! Ишак я, что ли?.. Трезвонишь среди ночи!
– Ты что! Какая ночь, девять часов! Или ты спать ложишься, как в детсадике?
Кинтель взглянул на часы. Фарфоровый старинный циферблат смутно светился слева от портрета. В самом деле: пять минут десятого! А казалось, полночи прошло!..
Он шумно вздохнул в трубку. Алка сказала:
– Ты в эти дни какой-то… как мешком ушибленный. То смотришь в пустоту, то с Дианой лаешься…
– Возраст такой, созревание начинается, – огрызнулся Кинтель. С Алкой можно было не церемониться.
– Дурак! Сколько ни созревай, все равно не поумнеешь.
– Все сказала? Тогда бай-бай…
Он брякнул трубку на рогатые хлипкие рычажки. Всё. Прежнего настроения уже не вернуть. Включил свет, задул свечу, помусоленными пальцами сжал дымный фитилек… бумага с бессмысленной россыпью букв ярко белела на краю стола. Кинтель обиженно посмотрел на нее, пошел на кухню. Пальцами похватал со сковородки холодную картошку. Потом решил: надо все же разогреть, включил газ. Глотнул воды из-под крана.
По радио диктор читал последние известия. Ничего нового. Главари провалившегося путча сидели в тюрьме с романтическим названием «Матросская тишина». Какой-то банковский деятель клялся, что нового повышения цен не будет (скорее всего, врал). Президенты совещались об экономическом договоре. А в республиках стреляли. Стреляли в Карабахе, в Армении, в Азербайджане, в Молдавии, в Южной Осетии, в Грузии… Где не стреляли, там митинговали… В Югославии тоже шла пальба. Сербы в хорватов, хорваты в сербов… Какого черта не живется людям? Прямо руки у всех чешутся, тянутся к «калашниковым»…
Все всегда ищут врагов. Чтобы очередями по ним… Поставить на обрыв – и тысячу за тысячей. Представить всерьез такое убийство невозможно. Когда видишь на экране, как убивают одного, это страшно. Потому что понимаешь: был человек – и нет его. А когда тысячи… Те, кто стрелял, наверно, уже ни о чем не думали, привыкли. Палили, как… по кустам или по забору… А ведь каждый был живой… И среди них – Никита Таиров. Тот, кто оставил цифирь-загадку. Для него, для Кинтеля.
А может, вовсе и не для Кинтеля?
И нечего соваться в чужую тайну!..
Но у тайны такая природа: требует разгадки! Уже просто потому, что она, эта тайна, есть на свете…
Кинтель вернулся в комнату. Взял «Устав». Рассеянно открыл заднюю корочку – там, где выцветшие чернила сообщали, что книга эта не чья-нибудь, а «корабельного мастера Василiя Алексеева, сына Селянинова, дворянина города Зупцова…».
Какие корабли строил он, «сын Селянинов»? Почему оказался в заштатном Зубцове? И что за город такой? Может, все же была там корабельная верфь? Волга все-таки… Если была, то наверняка это отмечено в городском гербе. Может, там кораблик, вроде как на гербе Преображенска?
Кинтель растворил дверцы рассохшегося книжного шкафа, в котором дед хранил самые-самые свои редкости. С нижней полки вытащил альбом «Гербы городовъ, губернiй, областей и посадовъ Россiйской имперiи». Знаменитый и редкий теперь гербовник, который в конце прошлого века «составилъ П.П. фонъ Винклеръ». Дед этой книгой ужасно дорожил и гордился. Вроде как профессор Денисов «Морским уставом».
Герб Зубцова в гербовнике нашелся. Оказалось, что «Высочайше утвержденъ 10-го Октября 1780 года. Тверской губернiи. УЪздный». Рисунки были не цветные, но в объяснении значилось: «В красномъ полЪ золотая стена со старинными зубцами».
Стена была похожа на частый гребень. И фон – такой же, как стена, только перевернутый. Словно два гребня – светлый и темный – вошли друг в друга, образовав нехитрый рисунок герба. Никакого кораблика, только зубцы между зубцами… Между…
Опять что-то завертелось в мозгах. Будто очнулась там щекочущая мошка… Строчки на фотографии, они… тоже как бы зубчиками! Нижние числа не прямо под верхними, а под промежутками! И если… их поставить в эти промежутки? Ну-ка…
Тут уже не до свечи, не до игры в кладоискателей. Скорее!.. Что выходит?
Твердый знак в соответствии со старой орфографией прилипает к первой букве «К»!.. Затем чуть заметный промежуток – наверно, раздел между словами… «N» аккуратненько, как по заказу, вписывается между двумя «W»!
«К WNW…»
К вест-норд-весту!
А дальше?.. Что это? Неужели получается? Ой-ей-ей…
Къ WNW отъ мыса
Св. Илiи ос. (Ш-нъ).
SO отъ Макушки
валунъ съ
Б плюсъ Л подъ
внешней выем
кой копать
строго внизъ
два фута.
Найди и помни!
– Ура! – Кинтель неуклюже встал на голову и поболтал ногами при весьма неодобрительном взгляде прапрабабушки.
Впрочем, скоро радость поулеглась. Письмо – вот оно, да многое остается непонятным. Где этот мыс Святого Ильи? Что за остров Ш-н? Может, Шикотан, который рядом с Японией? Нет, с какой стати мальчик Никита стал бы что-то зарывать в такой несусветной дали!
Да и как бы он туда добрался…
Девочка Оля, для которой писалось письмо (вернее, тогда уже девушка), про остров Ш-н, разумеется, знала. Где его найти и как туда попасть.
Кинтель взглянул на снимок. Прапрабабушка смотрела прямо перед собой. Она была очень серьезна. А Никита в своей полуулыбке хранил загадку. Словно говорил: «Думаешь, прочитал письмо – и все решено? Клады так легко в руки не даются…»
Но Кинтель не ощутил обиды. Радость возвратилась к нему. Ведь что ни говори, а полдела было сделано! Полтайны раскрыто!
И когда наконец вернулся дед, Кинтель гордо поделился с ним своим открытием.
Дед обрадовался. Уселся на диван, листал и разглядывал (не без зависти) «Устав», слушал возбужденный рассказ Кинтеля. Покачивал головой, говорил: «Смотри-ка ты, надо же! Кто бы мог подумать!.. А мама, наверно, так и не прочитала. До того ли было в те годы! Да и книга к тому времени, скорее всего, потерялась…»
– Само собой, что не прочитала, – вздохнул Кинтель. И присел рядом с дедом. – А то бы, наверно, вырыла, что зарыто… Интересно, что за остров «Ша-эн»?
Дед отодвинулся, глянул на Кинтеля сбоку:
– Ох ты, дитятко… Неужели думаешь, будто это всерьез! Да играли они, вот и все. А это письмо – просто память о детской игре.
– Но ведь что-то же было, наверно, зарыто!
– Боже мой, ну какая-нибудь игрушка или детский талисман. Скажем, пробка от графина или красивая пуговица… Закопал Никита где-нибудь под яблоней в дачном саду. В том месте, которое у них двоих называлось мысом Святого Ильи. Бывает ведь такое в детстве, когда выдумывают свои острова и города, карты неведомых земель рисуют…
«Так, скорее всего, и было, – подумал Кинтель. – Разве найдешь теперь ту лужайку под яблоней? И дач-то нет уже давным-давно…»
Стало грустно и задумчиво. Еще немного, и включится в голове та скрипичная музыка… Но вдруг Кинтеля осенило:
– Толич! А может, они играли не с самодельной, а с нашей картой? Вот с этой! – Он кивком показал на стену. На блеклую и потрепанную карту 1814 года.
– Возможно. Только это ведь ничего не меняет…
Лишь сейчас Кинтель понял наконец, что за недавним возбуждением деда кроется не только интерес к открытию. Еще что-то. Какая-то озабоченность. Сейчас это стало заметнее.
– Неприятности опять, что ли?
– Да нет, наоборот… приятности. Не знаю только, как это для тебя. Видишь ли…
Кинтель всерьез встревожился. Дед сделался нерешительным, неловким, съеженным даже.
– Что случилось-то? Говори давай!
– Скажу, скажу. Никуда не денешься… Видишь ли, думали мы с Варварой, думали… и порешили наконец…
– Расписаться, что ли?! – весело спросил Кинтель.
– Ну… вроде бы, – выдохнул дед. – Оно, конечно, если со стороны смотреть, то может показаться смешно. На старости лет…
– Да ладно тебе! – сказал Кинтель. – Вы оба еще это… вполне…
Дед несмело засмеялся, толкнул Кинтеля локтем:
– Значит, не возражаешь?
– Не-а… если меня не прогоните.
– Да Бог с тобой… У нее, кстати, тоже двухкомнатная квартира, можно будет сообразить с обменом, расшириться…
– По-моему, и здесь хорошо, – беззаботно отозвался Кинтель. – Мне своего угла за шкафом вполне хватает…
Дед опять засмеялся и толкнул внука с неловкой игривостью. А Кинтель не понимал его смущения. Давно было понятно, что к тому все идет. Тетя Варя появлялась у них все чаще, хозяйничала, готовила иногда обеды и ужины… Ужины!
Кинтель с воем бросился на кухню. Только теперь сообразил, откуда запах гари.
На сковородке дымилась превратившаяся в угольки картошка.
Появился дед. Сказал с удовольствием:
– Который раз за эти дни… Что это доказывает? Что женский глаз в доме необходим.
– Я тебе яичницу сделаю на ужин, – виновато пообещал Кинтель.
После ужина Кинтель, шипя от нетерпения и боли в ногтях, отколупнул на карте кнопки. Унес карту в комнату, где за шкафом стоял его залатанный диван. Взял у деда лупу. Включил на столе лампу. И начал водить стеклом над россыпями крошечных букв. По всем побережьям. Не найдется ли где-нибудь мыс Святого Ильи? И не даст ли это открытие в руки еще одну ниточку разгадки?
Мыс не находился. А глаза стали слипаться. И Кинтель, не споря с дремотой, лег щекой на карту. От старой бумаги пахло почему-то сухой травой… будто траву скосили на лужайке среди яблонь, и она теперь на жарком солнце превращается в сено.
По скошенной траве, разгребая ее босыми ногами, брели девочка и мальчик. Держались за руки. Это были, видимо, Оля (будущая прабабушка Кинтеля) и Никита Таиров. Но в то же время – девочка-скрипачка и Салазкин. Только Салазкин был не в клетчатой рубашке, а в белой матросской блузе с косым синим галстуком, а девочка – в стареньком коричневом платье вроде нынешней школьной формы… Они знали, что Кинтель смотрит на них, но не обращали внимания. Они искали мыс Святого Ильи.
– Вот он… – Девочка показала на кочку, устланную скошенным клевером. И кочка сразу выросла, превратилась во взгорок, за которым чувствовался обрыв. За обрывом туманно синело, клубилось, как дым, неласковое море.
Девочка и мальчик поднялись на взгорок, встали спиной к морю, к Кинтелю лицом. Покачнулись.
«Осторожно!» – хотел крикнуть им Кинтель. И в этот миг между ним и ребятами выросли из травы пятнистые дядьки в касках. Как манекены. Прижали к плечам приклады, навели на тех двоих стволы. Мальчик и девочка не испугались. Словно знали заранее, что всё так и будет. Неторопливо обняли друг друга за плечи, как перед фотоаппаратом… Сбоку от солдатской шеренги встал офицер – с бледным лицом, в старинном мундире с эполетами. Это был, без сомнения, командир фрегата «Рафаил» Стройников. Он в тишине поднял большую прямую саблю (видимо, не успел еще сдать туркам).
«Стойте! – беззвучно закричал Кинтель. – Не стреляйте! Они же не виноваты!»
«К сожалению, виноваты, – так же неслышно (только губы шевельнулись) возразил Стройников. – Они не поехали на картошку…»
«Вы что, офонарели?! Разве за это стреляют?! Перестаньте!»
«Я не могу. У меня приказ».
«Это незаконный приказ! Я… отменяю! Есть Декларация детских прав!..»
«Да? В таком случае сыграй отбой…»
Кинтель ощутил в ладони гладкий металл трубы. Поднес ее к губам. И…
«Я же не знаю, как играть! Меня не учили, чтобы отбой! Про это в песне…»
«Вот видишь, – грустно сказал Стройников (а на сабле горела солнечная искра). – Оказывается, сигнал отбоя тоже бывает нужен. А ты не захотел. Я бессилен что-то сделать…»
Вот, значит, как! Заманили в ловушку! Заставили искать мыс Святого Ильи, а сигналу не научили!
«Постойте! Тогда лучше я!.. Меня!.. Ведь это я виноват, а они-то ни при чем!..» И Кинтель хотел побежать к Никите и Оле, чтобы встать вместо них на обрыве. Но густое сено оплело ему ноги – не двинешься… Но должно же прийти какое-то спасение!
Может быть, вон оттуда, где стена?
Горячая от солнца кирпичная стена крепости вставала слева от Кинтеля. Очень высокая, с длинными и частыми, как у гребня, зубцами. Среди зубцов появились мальчишки-трубачи. Одетые как средневековые пажи, в плащах-крылатках, с длинными фанфарами. Дружно, по команде, подняли к небу сверкающие раструбы. Сигнал (тоже неслышный, но ощутимый нервами) разошелся над скошенной травой. Но солдаты разом сделали полуоборот, вскинули стволы, и те беззвучно затряслись, выплевывая клочки синего дыма. И трубачи стали медленно падать со стены, и за каждым летел трепещущий разноцветный плащ.
Стройников повернул к Кинтелю бледное лицо и опять шевельнул губами:
«Я не виноват».
Кинтель, давясь плачем, бросил в солдат свою трубу. Потому что это была не труба, а граната. Взрыв метнулся тихим желтым пламенем, солдаты попадали и затерялись в траве. А Стройников бросил саблю и сгорбленно пошел прочь.
Девочка и мальчик бежали с обрыва к упавшим трубачам. Кинтель с трудом побежал туда же.
Мальчишки лежали на скошенной, сладко пахнущей траве. Но они были ненастоящие. Вроде тех алебастровых и отлитых из бетона горнистов, которых раньше ставили в скверах и пионерских лагерях, а потом посшибали.
А один был бронзовый, как настоящий памятник. Весь потемневший, с пятнами зеленой окиси на спине. Он лежал вниз лицом, и металлические пальцы плотно сжали трубу. Одно плечо было натерто, словно его кто-то старался отчистить, и на желтом сплаве замер солнечный зайчик…
Кинтель виновато посмотрел на девочку и мальчика: что же теперь делать? А они молчали. Мальчик задумчиво наматывал на палец матросский галстук. Девочка подняла из травы коричневую блестящую скрипку, вскинула к подбородку и заиграла. Ту самую мелодию.
Почти сразу все это исчезло, скошенная трава, трубачи, мальчик и девочка. Но мелодия осталась. Она приходила со стороны сквозь многослойную дремоту. И наконец разорвала пелену. Кинтель поднял голову.
Музыка доносилась из другой комнаты, от телевизора.
Кинтель сразу подумал: вдруг показывают концерт юных скрипачей и там выступает она! И назовут имя!..
Но на экране под знакомую музыку проплывали пейзажи с колокольнями и березами.
Дед сидел перед телевизором, оглянулся на Кинтеля:
– Сейчас передачу покажут: «Куда ведут нити заговора». Про Янаева и всю компанию. Будешь смотреть?
– Да ну их всех…
– Тогда ложись. Поздно уже.
– Угу…
СНОВА О ФРЕГАТЕ «РАФАИЛ»
Ночью стал стучать по стеклу крупный дождь. И видно, сильно похолодало. Кинтель спал с распахнутой форточкой и зябко ежился под одеялом, просыпался даже. Но подниматься и закрывать форточку было лень.
Утром светило солнце, но уже по-осеннему, сквозь низкие клочковатые облака.
Дед ушел рано, и Кинтель остался со своими заботами: о супе, который надо варить на обед, об уроках, которые (будь они неладны!) надо готовить. Хотя бы письменный по русскому. А то Диана возликует, вкатывая в журнал «гуся»…
Вчера весь вечер мысли были заняты одним: расшифровкой письма и мысом Святого Ильи. А сегодня пошли по более широкому кругу. Про все, что было накануне. И Кинтель вспомнил, что так и не спросил Салазкина: кто он, этот стремительный мотоциклист, перед которым спасовала даже завуч?
Салазкин оказался легок на помине. Побрякал звонком и появился на пороге. В мятых школьных брюках и в свитере, к которому прилипли сухие травинки. Малость растрепанный.
– Извини, что так рано…
– Какое там рано! Десятый час! – Кинтель крепко обрадовался Салазкину. Втащил его за рукав, веселым толчком усадил на свою постель.
А тот рассказывал:
– Я еще раньше хотел, подошел к дому, а потом думаю: неудобно в такой ранний час… А в переулке здешние ребята на тележке катались. Ну, на багажной, как у носильщиков. С горки по асфальту. Я подошел, говорю: «Можно с вами покататься?» Они сперва удивились, наверно, подумали: откуда такой нахальный? Потом один говорит: «За рейс двадцать копеек». Я согласился. «Пожалуйста», – говорю. А тут подскочил твой сосед Витя: «Это дружок Кинтеля, чего вы…» Ну, мы и стали кататься вместе… А один раз прямо в бурьян!
Было просто здорово, что Салазкин такой безбоязненный! И «достоевские», значит, поняли, что не так уж прост и беспомощен этот вежливый пацаненок из «Дворянского гнезда». Конечно! Он же недавно еще и Витьку кинул носом в траву!.. А как держался в кабинете у Зинаиды! Не дрогнул…
– Санки! (У Кинтеля это имя выскочило само собой, и Салазкин не удивился.) Слушай, а кто этот Вострецов? Так примчался…
Салазкин сказал с ноткой удовольствия:
– Это мой давний друг. Уже больше года знакомы… Ну, не только мой, там целая компания у него на Калужской. Вроде отряда… Я потому и галстук ношу. А ты думал, что из-за школы?
– Что за компания?
Кинтель ощутил укол ревности. Но Салазкин этого не понял.
– Раньше был большой отряд. Назывался сперва «Эспада», потом еще по-всякому. В походы ходили, кино снимали. Под парусами плавали… Ну а потом их из подвала выгнали, в котором они занимались. Отдали подвал какому-то кооперативу. Отряд, конечно, меньше сделался, но весь не рассыпался, стали у Корнеича собираться. То есть у Вострецова… Когда я с ними познакомился, так все уже и было… Но мы живучие!
Это веселое «мы живучие» не очень-то понравилось Кинтелю. Ревность снова царапнула его. Оказывается, Салазкин – совсем не беззащитное дитя, есть у него друзья и заступники. И значит, проживет он спокойненько в случае чего и без Кинтеля…
А Салазкин сказал как о деле само собой решенном:
– Я тебя с ними познакомлю, конечно.
«Больно надо», – огрызнулся Кинтель. Но про себя. Не хватало еще, чтобы Салазкин догадался о его мыслях. И Кинтель сказал со снисходительным уважением:
– Он, этот Корнеич, вчера… будто снег на голову. Как это удалось-то?
– Главная удача, что он оказался дома! А дальше – просто. Как услышал пароль – сразу в седло…
– Какой пароль?
– «Добрый день»! Кто не знает, тот не поймет, а наши все знают. Как услышишь это – бросай все и на помощь!
«Наши…» – опять обидчиво отозвалось в Кинтеле. А Салазкин объяснил весело и бесхитростно:
– Раньше был пароль «Майский день». А потом решили, что это слишком обращает на себя внимание, и переделали…
– А почему «Майский день»? – стараясь не говорить хмуро, спросил Кинтель.
– По-английски «мэйдэй». Международный сигнал бедствия. Вот если где-нибудь гибнет корабль, то по радио… – И Салазкин замолчал.
Кинтель насупился, отвернулся к окну. Тень «Адмирала Нахимова» прошла по комнате…
Салазкин проговорил тихо:
– Прости меня, пожалуйста. Я напомнил, да?
Ну кто еще мог бы так сказать, кроме Салазкина? Виновато и откровенно, с настоящей боязнью, что обидел… Хмурая ревность Кинтеля пропала в один миг. Он сел рядом с Салазкиным. Вполголоса признался:
– А я ведь прочитал… то, что на фотографии.
Салазкин не удивился. Вздохнул, потрогал сквозь брючину родинку-горошину. Проговорил полушепотом:
– Я был почти уверен… Я потому и вертелся у твоего дома с восьми часов. От любопытства. Я ужасно вот такой… нетерпеливый… Даня, а что там?
Кинтель взял со стола листок с расшифровкой…
Они с полчаса обсуждали всякие варианты: игра это была у Никиты с Олей или не игра? Сопели над старой картой: вдруг все-таки отыщется среди тысяч бисерных названий мыс Святого Ильи?.. Потом Салазкин завздыхал, засобирался домой.
– Уроков такое безбожное количество…
– Скажи, а можно, сегодня еще «Устав» побудет у меня? Я вчера колдовал над цифирью, а почитать его даже не успел.
– Оставь, конечно!
– А ты… пока никому не говори, что тут у меня расшифровалось. Даже там… на Калужской… – И Кинтель замер в ревнивом ожидании.
Но Салазкин откликнулся с веселым пониманием:
– Разумеется! Даже папе не скажу, хотя он уже любопытствовал.
– Да папе-то можно! – Кинтелю опять стало радостно. – Санки, а правда ты Зырянова каким-то приемом крутанул?
– Ой, да это просто! Это хоть кто сумеет, если показать…
– А меня… можешь опрокинуть?
Салазкин посмотрел на щербатые половицы:
– Здесь, пожалуй, не надо. Твердо…
– А нога уже не болит?
– Что ты! Я и забыл!
– А я… пожалуй, сегодня буду болеть. И в школу не пойду! – вдруг решил Кинтель. – Ночью из форточки дуло, и теперь у меня горло… кха-кха… Буду валяться и читать «Устав».
– Ты самостоятельный, – с уважением сказал Салазкин. – Мне бы за такое дело попало…
– И мне может. Но я заранее позвоню деду.
Он и в самом деле позвонил, когда Салазкин ушел.
– Толич, я это… совсем простыл. В горле дерет, как теркой, и, кажется, температура.
– Не пудри старому деду мозги. Хочешь полентяйничать! Правда ведь?
– Ну… правда. Наполовину. А горло тоже… кха… Ну могу я устроить себе разгрузочный день?
– На второй-то неделе учебного года!
– А потому что вчера у меня… был стресс, вот!
– Лодырь, – печально подвел итог дед. – Шут с тобой. Но тогда сиди дома, на улицу не суйся.
Кинтель улегся с книжкой на постель. Открыл «Устав» в самом начале. Старый шрифт – не помеха. Сколько уже Кинтель прочитал книжек, напечатанных до революции! Того же толстенного Гоголя…
Скрипучий переплет норовил закрыться. Книжка топорщила листы. Кинтель придерживал ее, как живое существо…
Господи, неужели этой книжке двести семьдесят лет?.. Напечатали ее, когда не было на свете даже Ивана Гаврилова, давнего предка Кинтеля… И может быть, в самом деле держал ее в руках Петр Великий? А уж капитаны его кораблей – точно держали. Обветренные, в треуголках и ботфортах, с тяжелыми шпагами на портупеях… И можно об этом думать без напряженной виноватости, потому что другое время – задолго до истории с «Рафаилом»…
Предисловие, где рассказывалось о древнем русском флоте, Кинтель прочитал полностью. Интересно было, хотя язык такой, что прямо… ну как церковная служба: «Усмотрено место к Корабельному строению угодное на реке Воронеже, под городом того ж имени. Призваны из Голландии мастера, и в 1696 году начали в России дело…»
Дальше было тоже любопытно: как давать присягу на верность Его Величеству Петру Первому, на какие эскадры делится флот, какие бывают во флоте командиры: «Генерал-Адмирал. Адмирал от синего флага. Адмирал от красного флага. Вице-Адмирал. Шаутбейнахты. Капитаны-командоры…»
Но постепенно Кинтель утомился и стал перелистывать сразу по нескольку страниц, читать наугад… Потом вздремнул. Разбудила его тетя Варя, которая открыла дверь своим ключом.
Она была маленькая, подвижная, энергичная. С остреньким носом, быстрыми черными глазами и волосяным шариком на макушке. Уж-жасно строгая.
– Ты чего это, друг ситный, разлегся, в школу не собираешься?
– А потому что катар дыхательных путей, Толич велел дома сидеть.
– Веником бы тебя по одному месту, враз никакого катара не стало бы…
– А веником нельзя. Декларация прав ребенка есть. Ра-ти-фи-ци-рованная.
– «Декларация»!.. Картошку-то хоть купили, мужики?
Хорошо, что Кинтель не занялся обедом. Тетя Варя лихо, с победным громом кастрюльных крышек, принялась готовить сама. И что-то бодро напевала на кухне.
Кинтель громко спросил в открытую дверь:
– Когда поженитесь-то, наконец, по-нормальному?
– Это что еще за разговоры!
– Да ладно тебе! Дед признался!..
– Скоро, моя радость, скоро! И вот уж тогда-то я за тебя возьмусь…
– Ладно! – разрешил Кинтель. – Только без веников!
Тетя Варя ушла, оставив кучу наставлений насчет продуктов, талонов и хозяйственных дел. Кинтель еще повалялся, с аппетитом пообедал, посмотрел «Гардемарины, вперед!», третью серию. Подумал, что готовить уроки, заданные на сегодня, уже не имеет смысла. Улегся опять с «Уставом». Открыл наугад. На двести девяностой странице. И надо же ведь, попало вот что!
«В случае бою должен капитан или командующий кораблем не только сам мужественно против неприятеля биться, но и людей тому словами, а паче дая образ собою побуждать, дабы мужественно бились до последней возможности, и не должны корабля неприятелю отдать, ни в каком случае, под потерянием живота и чести».
…Капитан второго ранга и кавалер военных орденов Семен Михайлович Стройников «Устав», конечно, знал. Понимал, чем кончится для него сдача фрегата. «Потерянием живота и чести». Не лучше ли было потерять «живот» чуть раньше, зато честь оставить незамаранной? Или надеялся, что суд его пощадит?
Так и случилось, адмирал Грейг смягчил приговор (наверняка с ведома царя), сохранил бывшему капитану жизнь… Но какая это жизнь – потом! Когда сломали над головой шпагу, когда вечный стыд и каторга в крепости, а потом в рядовых матросах, и даже детей нельзя иметь. По крайней мере, законных…
А может, все-таки жизнь?
Может быть, Стройников не жалел о содеянном? Решил, что всякое существование на белом свете лучше безвременной гибели? Или дело не в этом? Знал, может быть, такое, чего не ведали другие?..
А что, если он считал, что не нарушил «Устава»?.. Тут вот какое-то еще «Толкование» мелким шрифтом.
«Однако, ежели следующие нужды случатся, тогда за подписанием консилиума от всех обер и ундер офицеров для сохранения людей можно корабль отдать…»
Конечно же! Ведь положение было безвыходное! И Стройников поступил, как велено Петром!
«1. Ежели так пробит будет, что помпами одолеть лекажи или течи невозможно.
2. Ежели пороху и амуниции весма ничего нестанет. Однакож ежели оная издержана прямо, а не на ветер стреляно для нарочной истраты.
3. Ежели в обоих вышеписанных нуждах никакой мели близко не случится, гдеб корабль простреля мочна на мель опустить…»
Кинтель перечитал еще раз – в слабой надежде, что пропустил что-то или неточно понял… Нет, все точно. Не было оправдания командиру «Рафаила». Потому что не был фрегат безнадежно пробит, наоборот, новенький совсем. И пороху – полные запасы.
У Кинтеля упало сердце. Словно не для Стройникова, а для него, Даньки Рафалова, написан был приговор военно-морского суда за то, что «Рафаил» спустил флаг, когда мог драться с врагами!
Но много ли выстрелов успел бы сделать фрегат под перекрестными залпами линейных громад? Все равно он был обречен!..
Затрезвонил на столе деда телефон.
– Данила! Ну как твое горло?
– В форме. Отлежался, откашлялся… Тетя Варя приходила, наварила сразу на три дня. Хорошо, когда хозяйка в доме…
– Во-во… – смущенно подтвердил дед. – А я сего-дня опять задержусь, в семь часов совещание. В Лесном поселке инфекционное отделение открывают, а с кадрами полный кавардак…
– А сейчас? – осторожно спросил Кинтель. – Ты очень занят?
– Ну… сижу, списки перетряхиваю…
– Толич, я спросить хочу… Помнишь «Рафаил»? Может, капитан Стройников был не так уж виноват?
Дед помолчал. Не удивился вопросу. Сказал мед-ленно:
– Чтобы понять, надо знать, о чем он думал тогда. А кто это расскажет?.. Почему ты вдруг вспомнил?
– В «Уставе» одно место нашел. Вот послушай… – И Кинтель прочитал статью «Устава» и толкование к ней.
Дед выслушал терпеливо. Проговорил сочувственно:
– Ну что ж, ты сам видишь, нет здесь оправдания для Семена Михайловича.
– Но ведь сказано: для сохранения людей можно корабль «отдать»!
– Не при таком случае, сам видишь.
– Но это тоже безнадежный случай!
– Если бы он дрался до последней крайности, а уж после спустил флаг, может, и нашли бы смягчающие обстоятельства…
– А зачем драка без пользы?! Никакой же надежды на победу…
– Драка, чтобы принести вред врагу, – как-то официально ответил дед.
– И всех людей загубить. Живых…
– Людей загубить, а достоинство флага отстоять, – все так же сухо отозвался дед. – Как написано на памятнике командиру «Меркурия» – «потомству в пример»… Это же война, дорогой мой, у нее свои законы. Там людей жалеть некогда…
– Значит, ты тоже считаешь, что нет ему оправдания, – покоряясь неизбежному, проговорил в трубку Кинтель.
Дед, кажется, усмехнулся:
– Это не я так считаю. Так счел его величество государь-император Николай Первый. И члены суда. А потом – историки и писатели. Кое-кто отзывался вроде бы с сочувствием, но не оправдывал ни один…
– А ты… тоже не оправдываешь?
Дед молчал довольно долго. Не то сердито, не то озадаченно. Потом отозвался с раздражением:
– А я как могу судить? Я здесь лицо заинтересованное, необъективное. Как и ты…
– Почему?
– Вот те на! Ты не понял, что ли? – В голосе Толича проскользнула опять грустная усмешка. – Если бы Стройников взорвал фрегат, не было бы ни тебя, ни меня…
Елки-палки! А ведь в самом деле!
Дед еще о чем-то спросил, Кинтель машинально ответил и положил трубку.
 До сих пор Кинтелю не приходила в голову эта простая мысль. Он существует на свете благодаря тому, что капитан Стройников опустил на своем фрегате флаг! Иначе взрывом крюйт-камеры разнесло бы на куски всех, кто был на «Рафаиле». В том числе и квартирмейстера Ивана Гаврилова. А когда раньше срока умирает человек, это не только его гибель. Гибнут дети, которые могли от него родиться и не родились. И значит – внуки, правнуки. Целая ветвь рода человеческого! Такое рассуждение Кинтель встречал в каких-то книжках, но до этой минуты оно не связывалось в сознании с его собственной судьбой.
До сих пор Кинтелю не приходила в голову эта простая мысль. Он существует на свете благодаря тому, что капитан Стройников опустил на своем фрегате флаг! Иначе взрывом крюйт-камеры разнесло бы на куски всех, кто был на «Рафаиле». В том числе и квартирмейстера Ивана Гаврилова. А когда раньше срока умирает человек, это не только его гибель. Гибнут дети, которые могли от него родиться и не родились. И значит – внуки, правнуки. Целая ветвь рода человеческого! Такое рассуждение Кинтель встречал в каких-то книжках, но до этой минуты оно не связывалось в сознании с его собственной судьбой.
А может, связывалось, только безотчетно? Иначе почему так часто вспоминался «Рафаил»?
Но… тогда что же выходит? Он, Данька Рафалов по прозвищу Кинтель, живет на свете благодаря трусости и предательству?
«Я же ни при чем!.. И дед ни при чем!.. И даже Иван Гаврилов был не виноват, не он ведь приказал спустить флаг!»
«А может, и виноват! Стройников писал в рапорте, что матросы не захотели взрывать корабль…»
«Он писал, чтобы оправдаться перед царем! Сваливал свою трусость на других!»
«Сваливал? Боевой офицер, дворянин, воспитанный на законах чести! Не раз глядевший смерти в лицо…»
«Все равно он виноват больше всех!»
«Виноват… в чем? В том, что ты теперь сидишь вот тут живой, здоровый (и даже горло не болит) и рассуждаешь о его поступке? Легко тебе… А вот не было бы тебя совсем…»
«Не было бы совсем?»
Сколько ни напрягайся, а представить это нельзя. Кинтель много раз – по ночам, когда не спится и думается о всяком – пытался осознать: как это, если его совсем не будет? Такое все равно невозможно. И когда дед однажды рассказал о разных учениях про переселение вечных душ, Кинтель воспринял это как само собой разумеющееся… Но в каком виде и как жила раньше и как будет жить потом его душа – покрыто тайной. А вот зачем он, Кинтель, сейчас на Земле? Какой в этом смысл? А может, никакого смысла? В такое тоже не верится. Потому что порой, когда задумываешься о вечности и бесконечности, накатывается чувство, как… ну как звездный космос. И хочется вдохнуть в себя эту громадность, и кажется, что вот-вот откроется какая-то тайна. Может, самая главная во всем мире…
И сейчас Кинтель опять думал про это, сидя на дедовом столе и отколупывая от старого канделябра подтеки стеарина. Думал долго, пока не начался тонкий звон в ушах. Тогда Кинтель встряхнулся. Прыгнул со стола, включил телевизор – наугад, не помня, что в программе. На экране зевала симпатичная рекламная овчарка биржи «Алиса». Потом дикторша предложила посмотреть передачу о творчестве режиссера Вадима Абдрашитова. Кинтель нацелился переключить канал, но тут появился кинокадр: в ночном море тонул громадный лайнер. Освещенный иллюминацией, он медленно погружался в черноту, метались, кричали, прыгали за борт люди, а огни сияли, не желая расставаться с недавним праздником… А диктор что-то говорил о новом фильме «Армавир», который чиновники конечно же не хотели пускать на экраны…
А Кинтель замер, съежившись на стуле. Что это за день сегодня! Все одно к одному…
Лайнер погибал. Гибли пассажиры. Наверняка так же, как тогда, в августе восемьдесят шестого…
Кинтель старался не думать лишний раз о катастрофе. Потому что, если представляешь такое, то, значит, соглашаешься до конца, что она была. И не просто была, а имеет отношение к тебе. Как «Рафаил»… И получается, что отказываешься от своей тайны, от последней надежды.
Кадр сменился, режиссер что-то оживленно говорил зрителям. Кинтель убрал до отказа громкость. Подошел к столу, подержал руку на телефоне. Позвонил деду:
– Толич… Еще не началось совещание?
– Нет пока… Что случилось?
– Ничего. Так, вспомнил… Толич, когда человек умирает, дают какой-нибудь документ?
– Ну-ну… дают, конечно. Свидетельство о смерти… Что у тебя за похоронный интерес? – Дед явно забеспокоился.
– Толич, а про маму такое свидетельство есть?
– А, вот оно что… – слегка отчужденно отозвался дед. – Нет, мы не получали. Когда человек гибнет с судном и его не находят, он считается пропавшим без вести. По крайней мере, какое-то время… Ну, потом-то, наверно, дают бумагу. Родственникам… А кто должен был получать? Она же одна жила…
– Ну да. Никому никакого дела… – вырвалось у Кинтеля.
– Даня, – осторожно сказал Виктор Анатольевич. – Чего это ты сегодня… такой? Может, правда заболел?
Кинтель тряхнул головой:
– Все нормально. Просто подумалось… Кино идет про морскую катастрофу, вот и вспомнил.
– Не смотрел бы чего не надо…
– Ага, я переключил… – Деда не следовало волновать зря, опять за сердце будет держаться. – Ладно, пока. Совещайся там…
Кинтель не успел снова погрузиться в печальные мысли. Едва положил трубку, как аппарат затрясся от звонка.
Звонила Алка Баранова.
– Кинтель! Ты почему в школе не был?
– Это… кха… О-эр-зэ, или катар… Дед не пустил. Он же у меня врач.
– А тебя Диана пол-урока склоняла. Какой ты такой-сякой… Что ты ей вчера наговорил?
– Да ну ее! Она меня еще с детсадовских времен помнит! Я ее при одной встрече дебилкой обозвал. По младенческой наивности… А вчера опять сцепились.
– Имей в виду, ты нажил смертельного врага…
– Видал я этого врага знаешь где… А с чего это уж так-то – «смертельного»?
– Потому что ты задел у нее больные струны. Когда говорил, что нельзя предавать детей… Она же замуж собирается, а у нее от первого брака семилетний сын. И она его сплавляет в интернат, чтобы с новым супругом жить не тужить…
«Вот оно что!» Кинтель чуть не похвастался, что будущего мужа Дианы обозвал проходимцем. Но Алку следовало держать в строгости. И он сурово сказал:
– Собираешь всякие сплетни.
– Ни капельки не сплетни! Это все девчонки знают!
– Я-то не девчонка! Чего ты мне бабью информацию на уши вешаешь?
– Ты невозможный тип, – надменно сообщила Баранова.
– Потому-то ты, шашлычок мой, и влюбилась в меня с детсада? – Он так дразнил ее иногда.
– Че-во-о-о! Ой, мамочки! Чучело колючее, обормот! Да я лучше в щетку влюблюсь, которой рыжие башмаки чистят!
– Для тебя это самая пара. – И Кинтель положил трубку.
Но телефон тут же затрясся опять.
– Чего тебе еще? – гаркнул в микрофон Кинтель.
И услышал робкое:
– Извини… Я думал, что…
– Салазкин? – ахнул Кинтель. – Не обижайся. Я думал, это снова одна дура звонит, из нашего класса.
Салазкин обрадованно засмеялся. Кинтель спросил:
– Ты откуда сигналишь?
– От дома…
– Разве у вас есть телефон?
– Я ведь не «из», а «от». Нам еще не поставили, но у подъезда есть автомат… А как твое горло? Не болит?
– Да ты что! Я же просто сачковал! Чтобы «Устав» почитать на досуге.
– Да, кстати… Я сегодня все думал о том письме, про мыс Святого Ильи. А потом вот что вспомнил…
– А чего ты по телефону-то! Давай приходи! – Кинтель представил, как хорошо будет сейчас увидеть Салазкина.
– А можно? Я бегу!
ПАРОХОД «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Он примчался через пять минут. Весело запыхавшийся и немного виноватый.
– Здравствуй… Но у меня, к сожалению, только негативная информация. У нас дома «Географический энциклопедический словарь», там все названия. Но мыса Святого Ильи там нет…
– Ну, нет так нет. – Сейчас письмо Никиты Таирова волновало Кинтеля гораздо меньше, чем вчера. – Ты сядь и отдышись. А то будто за тобой племя ирокезов гналось…
Салазкин послушно засмеялся. Сбросил у порога кроссовки, прошел в комнату, присел на стул. Вздохнул:
– Там, в словаре, есть только горы Святого Ильи. В Кордильерах…
– Далековато, – сказал Кинтель. – Если уж искать, то поближе… Тебе дома не попадет за то, что пошел ко мне?
– Еще ведь не поздно.
Было около семи, в окно сквозь ветки светило совсем низкое оранжевое солнце.
– А я почти весь день «Устав» читал. Но целиком его не осилить. Это уж, наверно, только историки могут…
– Папа говорит, что там есть очень любопытные места. Даже перекликаются с современностью. Например, про борьбу с бюрократами…
– Давай ты сегодня книгу отнесешь домой. А то у отца небось на душе кошки скребут…
– Да ничего подобного!
– Ну, все равно пора возвращать. Я тебя провожу.
– И обязательно зайдем к нам!
– Вот уж фигушки!
Салазкин, глядя в пол, тихо сказал:
– Папа очень просил зайти. И мама…
– Ну вот! На кой это…
Не поднимая головы, Салазкин глянул сквозь волосы:
– Но ведь нельзя же так… Надо же как-то, чтобы все по-хорошему. Раз уж мы… познакомились…
«И надо сказать профессору спасибо за книгу, – подумал Кинтель. – А то свинство получается…»
– Ладно… Только учти: я на минутку…
Салазкин радостно подскочил:
– Да ты не бойся, маме сейчас не до тебя! И не до меня! Потому что такое семейное потрясение: Соня и Зоя в Москве разом замуж собрались. Они же все вместе делают, одинаково! И даже обоих женихов зовут Сергеями! Мама в трансе…
– Потому что оба Сергеи? – усмехнулся Кинтель.
– Вообще… Все четверо студенты, жить-то где? В общежитии? Масса проблем…
Профессора Денисова не оказалось дома. А с матерью Салазкина встреча получилась (к великому облегчению Кинтеля) без всяких лишних сложностей. Та прямо у двери быстро взяла закаменевшего Кинтеля за плечи, наклонилась:
– Даня! Вот и славно, что пришел. Я знаю, ты на меня тогда обиделся. Ну и правильно обиделся! Только ты меня пойми, я за Санчика так дрожу. Столько всего кругом, каждый день сообщения о всяких жутких случаях… С дочками-то меньше забот было, они всегда друг с другом. А с этим постоянно всякие истории…
– Это с ними сейчас истории, – весело напомнил Салазкин. – Я-то жениться пока не собираюсь…
– Ох, не жизнь, а кошмар… – Мать Салазкина смешно, как бабушка, всплеснула руками.
От нее слегка пахло духами и кремом и еще чем-то хорошим таким, домашним. Как давным-давно, в почти забытые времена, пахли в шкафу мамины платья. Мама уехала, а платья почему-то остались. И Кинтель, крошечный совсем, когда оставался один, открывал шкаф, зарывался в платья лицом и вспоминал. И почему-то очень боялся, что кто-нибудь увидит его в этот момент…
Он проговорил, глядя в плетеный половик:
– Я понимаю, конечно… Район незнакомый, люди тут всякие… Каждая мать за сына боится.
Ему очень хотелось, чтобы мама Салазкина поверила, что он понимает и не обижается. И она, кажется, поверила, по лицу видно. Тогда Кинтель сказал с облегчением:
– Вы передайте Александру Михайловичу большое спасибо за книгу. Я пойду, до свидания…
– Куда?! – хором сказали Салазкин и мать. И она добавила решительно: – Так в гости не приходят, без чая не отпущу! Тем более у нас на работе сегодня конфеты давали по заказу. «Кошкин дом» называются, вы, мальчики, таких и не видели…
Вот этого Кинтель боялся больше всего! Чаепития и всякого светского общения. И вдруг обрадовано вспомнил:
– Ой, да я же телевизор не выключил! Звук убавил до отказа и забыл! Вот как полыхнет! Я побегу!..
– Я с тобой! Провожу! – подхватил Салазкин.
– Только недолго! – всполошилась мать.
– Мы еще погуляем потом! – решительно заявил Салазкин.
– На ночь глядя?.. Тогда возьмите Ричарда! Ему тоже гулять надо.
Через минуту они мчались по освещенной закатом улице Достоевского. Салазкин крикнул на бегу:
– Ничего не будет! Черно-белые загораются очень редко!
– Кто его знает? Он один раз уже дымил!..
А спущенный с поводка Ричард был счастлив. Он мчался рядом и дурашливо хватал то Салазкина, то Кинтеля за штанины.
Когда ворвались в квартиру, старенький «Фотон» мирно и бесшумно мерцал экраном. Кинтель с облегчением повалился на тахту. Салазкин бухнулся в скрипучее кресло. Ричард обошел квартиру, обнюхал мебель и выжидательно уселся у дверей.
– Фу-у, – выдохнул Кинтель. – А я уж думал, полыхает наш памятник архитектуры… Знаешь, Санки, этому дому двести лет.
– С ума сойти! Привидений здесь нет?
– Домовой, говорят, есть. У соседей на первом этаже…
Ричард у дверей тихонько поскулил, напомнил о себе…
– Не нагулялся, – сказал Салазкин. – Может, выключим телевизор и побродим?
– Ага… Сейчас, отдышусь маленько…
На экране шла программа Российского ТВ. Опять (который раз!) показывали горящие танки, потом митинг, потом – как снимают краном с постамента памятник Дзержинскому.
Салазкин тихо проговорил:
– А Павлика Морозова тоже сняли. И бросили у забора…
Кинтель сел:
– Когда? Он же совсем недавно стоял, помнишь?
– Да… А сегодня у нас было всего два урока, и я поехал на Калужскую, к Корнеичу. Надо было про одно дело спросить… А сад-то с памятником как раз на полпути. Обратного трамвая долго не было, я пошел пешком. Когда проходил мимо сада, глянул вдоль аллеи, а памятника нет. Постамент пустой… Я подошел, оглянулся, а потом вижу, он в сорняках…
– Ну что за сволочи, – шепотом выговорил Кинтель. – Скидывали бы памятники, которые себе ставили. То есть взрослым. А пацанов-то чего трогать…
– Мне… как-то не по себе стало. Знаешь, Даня, будто его… расстреляли и бросили…
«И наверно, из того окна это видно», – подумал Кинтель. Он встал. Попросил нерешительно:
– Может, съездим посмотрим? Это ведь недалеко…
Зачем такое нужно, он не смог бы объяснить. Но Салазкин и не спрашивал.
– Конечно! Пошли.
Им повезло: «двадцатка» подкатила к остановке как по заказу. И в вагоне было свободно, никто не заругался, что едут с собакой. Когда подъехали к саду, уже начинали густеть сумерки. Постамент, где раньше стоял щуплый непокорный мальчишка, был пуст.
– Пойдем, – шепотом сказал Салазкин. И повел Кинтеля сквозь лопухи. Листья громко шуршали по одежде. Ричард шастал в окрестных кустах.
Сквер был отгорожен от внутренних дворов квартала ветхим забором. Вдоль забора тянулась полоса частого кустарника, за ней стоял высокий бурьян. В ней и лежал сброшенный с постамента Павлик.
Было еще не совсем темно, можно разглядеть…
Он лежал лицом вниз. Теперь, на земле, видно было, что фигура крупнее детской, ростом со взрослого мужчину (это на постаменте она казалась маленькой). Но все равно было понятно, что это мальчик. По-детски лохматились на затылке волосы, тонкие щиколотки босых ног беззащитно высовывались из потрепанных штанов. Ступни по-прежнему упирались в квадратную площадку. Из нее с другой стороны торчали четыре штыря.
Бронзовые мальчики падают не меняя позы. И кулаки опущенных вдоль тела рук были, как и раньше, упрямо сжаты.
Несколько желтых, светящихся в сумерках листьев лежали на черной бронзе.
– Может быть, его лопухами закидать? – нерешительно предложил Кинтель. Он опять чувствовал себя так, будто в чем-то виноват.
– Давай, – согласился Салазкин.
Лопухи были вялые, мягкие, как тряпки. Их понадобилось много, рвали долго, вдоль всего забора. Укрыли…
– Все равно это не выход, – прошептал Салазкин. – Уж тогда лучше закопать бы… раз он никому не нужен.
– Где? Здесь не дадут… Набегут, заголосят: что делаете, кто разрешил?! Да и копать сколько…
– И как-то жалко закапывать. Будто живого хоронить… Лучше уж вот что! Опустить в озеро! Пусть стоит на дне, не падает… И солнце там сквозь воду светит… Надо приехать в темноте на грузовой машине, потом его на шлюпку – и на середину озера, где глубина…
– А где взять машину-то? И шлюпку…
– Это не проблема. Корнеич достанет. А вот если кран понадобится, это сложнее. Бронза, она ведь ужасно тяжелая.
– Может, не очень. Памятники обычно пустые внутри, – возразил Кинтель, по-прежнему чувствуя себя виноватым. – Наверно, получится и без крана, если ребят собрать. С нашего квартала можно пацанов пятнадцать организовать.
– И у нас почти столько же, – отозвался Салазкин.
Ревнивая досада опять зашевелилась в Кинтеле.
– Это на Калужской, что ли? У Корнеича?
– Да! Там очень дружные люди.
«Подумаешь! Чего тогда вокруг меня крутишься?» Но обида была какая-то беспомощная, и у Кинтеля вырвалось:
– Рассказал бы хоть, что за люди! Что за Корнеич?
– Да, конечно! – звонко отозвался Салазкин. Будто ждал этого. – Пошли…
Они позвали Ричарда, выбрались через заросли на аллею. Но пошли не туда, где трамвай, а в другую сторону: где калитка и та самая скамейка. Кинтель – машинально, по привычке. А Салазкин решил, видимо, что так надо. Он сказал:
– Корнеич, это… в общем, в детстве он был в отряде, который назывался «Эспада». Не такой пионерский отряд, как в школе, а сам по себе. Они там много чего делали. Фильмы снимали, яхты строили сами, в походы на них ходили. Фехтованием занимались… А главное, всегда были друг за дружку… Ну, потому что там всё добровольно, никто ведь в эту «Эспаду» не загонял насильно, как в школьную дружину… И был он там до десятого класса. А потом стал поступать в архитектурный институт, но не поступил, скоро его забрали в армию. В Афганистан…
Они шли медленно, листья шуршали под ногами. Ричард присмирел и послушно шагал между хозяином и его новым другом. Салазкин сказал сбивчиво:
– А там он… в общем, насмотрелся на всякое. Он обычно разговорчивый, но про это говорить не любит… И когда приехал… Знаешь, говорят, такое было со многими: все из рук валится, ничего в жизни не получается, каждый день мысли про то, что было. Какая там кровь, сколько людей погибло. И наших, и афганцев… Ну, он тогда тоже пил отчаянно…
– Почему «тоже»? – дернулся Кинтель.
Салазкин глянул чуть испуганно:
– Ну… я же говорю, так у многих было…
«Дурак», – сказал себе Кинтель. И спросил хмуро:
– Сейчас-то завязал?
– Да! Его выручил товарищ по отряду, он постарше был. Он археолог. Взял с собой в экспедицию, в Херсонес, это под Севастополем. Потом устроил работать в мастерские при краеведческом музее – у Корнеича руки-то золотые… Познакомил его с редакцией «Молодежной смены». А потом говорит: «Ты же капитан, Данила, собирай-ка ребят снова…»
– Как это – капитан?
– Это не по-военному, а такое звание было в «Эспаде»… Только «Эспады» тогда уже не было, их к тому времени из помещения выгнали, яхты сделались старые, гнили на пристани… И вот этот друг, Сергей Каховский его зовут, говорит: «Собрал бы ты ребят, столько хорошего народа ходит без дела…» Ну, у Корнеича старое в душе зашевелилось… Он сам так говорит – «старое зашевелилось»… Созвал с разных улиц ребят, выпросили они пустой подвал у начальства, отремонтировали два парусника. Снова получился отряд. Уже не «Эспада», а новый. Но все равно хороший. И Корнеич во все эти дела влез с головой… Только это все было, когда я еще его не знал. А когда познакомились, отряду в то время опять не везло…
– Почему?
– Потому что подвал отобрали, он какому-то кооперативу понадобился. У кооператива деньги, а у Корнеича что? Он и так ползарплаты на отряд выкладывал, но разве на аренду этого хватит? А еще яхты совсем развалились. А чтобы новые делать, тоже деньги нужны. И стройматериал. И помещение…
Салазкин говорил с непривычной деловитостью. Видать, эти дела давно заботили его.
– Да и Корнеичу труднее. Он теперь на заочном учится, а еще дела в газете, в комиссии Детфонда…
– Он что, так и кидается по всякому сигналу «Добрый день»? – спросил Кинтель. Потому что из рассказа было уже в основном ясно, какой человек Даниил Вострецов, Корнеич.
– На всякий не успеть, – вздохнул Салазкин. – Он ведь и так рвется на части. В прошлом году к тому же сын родился у них с Таней. Таня – это жена его, тоже из «Эспады»… И такая была история! Она только из роддома, а его – в больницу. Обострение с ногой… Ты ведь, наверно, и не заметил, что у него протез вместо левой ноги?..
– Да?! А на мотике гоняет как рокер…
– Он еще и не такое может… Всяким приемам учил. И фехтованию. У него до армии первый разряд по шпаге был…
– А ногу… там, в Афгане, да?
– Да… Он сам про это неохотно вспоминает, но ребята все равно знают. Ему ее раздробило осколками, а он все равно отстреливался. Прикрывал отход… Его потом вытащили без сознания. Из развалин.
«А зачем ты мне такие подробности рассказываешь? Будто все без оглядки выкладываешь!» Это опять шевельнулась непонятная обида и подозрительность. Кинтель проговорил, набычившись:
– Наверно, Корнеич твой не обрадовался бы, если бы узнал, что ты… вот так про него все излагаешь постороннему.
– Ну почему же?! У него от ребят секретов нет.
– Так это же от своих ребят…
И тогда Салазкин сказал:
– Даня… Корнеич спрашивал: может быть, ты зайдешь к нему? Вместе со мной…
– Зачем?
– Ну… ты же интересуешься всем, что про море… Помнишь, на теплоходе? А у нас тоже… Может быть, наберем фанеры к весне, будем строить шхуну.
– Без меня, что ли, не справитесь? – буркнул Кинтель.
Помолчали. Только листья швырк-швырк под ногами.
Салазкин вполголоса спросил:
– Ты на что-то обиделся, да?
«Господи, да что это со мной? Будто не с Салазкиным, а с Дианой говорю…»
Кинтель сказал быстро и нарочито бодро:
– Нет, что ты! Просто… перепады настроения. Бывают в переходном возрасте.
Салазкина успокоило это скрытое извинение. Он потрепал по загривку Ричарда.
Они подошли к скамейке. Дом за изгородью, на улице П. Морозова, светился окнами. И то окно светилось. Кинтель зацепился за него глазами, попросил:
– Давай посидим чуть-чуть.
Салазкин послушно сел. Ричард положил ему морду на колени. Кинтель тоже сел. Окно было теплым, розовато-желтым. Салазкин деликатно молчал, как молчат рядом с чужой тайной.
Чтобы Салазкину не показалось, будто здесь что-то особенное, Кинтель спросил:
– А те старые яхты… их теперь уже никак не починить?
– Легче построить новые. Потому что обшивка вся прогнила, рыхлая такая. Стукнешь пяткой – и насквозь. Сразу целое кораблекрушение… – И Салазкин виновато притих: спохватился, что сказал ненужное слово.
Тогда, откинувшись на спинку скамьи, Кинтель ровно спросил:
– Ты ведь слышал про пароход «Адмирал Нахимов»?
– Да… ты же говорил недавно. Я понимаю…
– Про него много писали.
– Да, – приободрился Салазкин. – Еще и недавно в «Комсомолке» статья была. Кто-то считает, что это не случайная гибель, а заговор. Чтобы какие-то документы уничтожить…
– Я не про то… – тихо возразил Кинтель.
Зачем он об этом? Чтобы такой вот откровенностью доказать Салазкину, что нет никакой обиды? Или… надежда гаснет, если долго прячешь ее в себе, не поделишься ни с кем?
А с кем можно поделиться, кроме Салазкина? Даже с дедом нельзя…
– Мать погибла на «Нахимове», – сказал он одними губами, не отрывая глаз от окна. – Так они говорят…
И тоже еле слышно Салазкин спросил:
– Кто «они»?
– Все… Отец, дед. Мол, поплыла с кем-то отдыхать, и вот… Она тогда с нами давно уже не жила и со мной не виделась. По-моему, ко мне ее специально не пускали, а мне говорили «далеко уехала». А потом я узнал, что она… сильно пила… Санки, это я только тебе… Ты никому…
– Я клянусь. – Салазкин проговорил это без всякой торжественности, вполголоса. И ясно сразу – это он железно.
– А потом сказали: утонула… А в прошлом году, как раз после теплохода, я иду по улице и вижу: навстречу женщина… Я… маму плохо помню, фотоснимок только один сохранился, и на нем она совсем молодая. И к тому же у меня память на лица плохая. Но тут я… как будто меня примагнитило. Лицо такое – вроде и знакомое, и… ну как будто долго болела она. А может, и от этого… ну, если пила, а потом лечилась… А тут к ней какая-то тетка подходит, окликает: «Надежда Яковлевна…» – Кинтель кашлянул, замолчал.
– Так твою маму зовут, да? – шепотом спросил Салазкин. И Кинтеля накрыло теплом от этого «зовут», а не «звали»…
– Я подумал: может, они все нарочно мне врут… про «Нахимова». Чтобы я не вспоминал и не встречался… А она тоже… наверно, решила: «Раз я такая, зачем я ему?» То есть мне…
– Она там живет? – Салазкин тоже посмотрел на окно.
– Да… Одна. Я тогда за ней пошел незаметно, а потом про нее у здешних девчонок выведал… Знаешь, никто и не видел ее пьяной. Только всегда одинокая и будто больная… Она сюда прошлой весной переехала, квартиру обменяла… Говорят, машинисткой работает…
– Даня… А может, пойти к ней и выяснить?
«Ты с ума сошел?! А если это не она? Сейчас-то хоть надежда есть…»
Салазкин понял. Виновато посопел.
Кинтель сказал:
– Мне ведь ничего от нее не надо. Только знать, что она есть… А когда вырасту, там видно будет. Может… я ее к себе возьму… Может, она меня не совсем позабыла.
Салазкин оттолкнул Ричарда, сел к Кинтелю вплотную. Плечо к плечу. Подышал тихонько, потом очень серьезно посоветовал:
– Пошли ей открытку.
– Ты что?!
– Напиши не про себя, а так. Ну, поздравление с каким-нибудь праздником. Просто чтобы она знала, что ты ее помнишь.
– А если… – Он заставил сказать себе самое плохое: – Если я… ошибаюсь?
– Ты не подписывайся. Просто: «Мама, я тебя поздравляю…» Если что не так, ну и ладно. Она решит, что кто-то ошибся.
– Я… не знаю. Я боюсь, Санки…
– Ты подумай. Это можно ведь и не сейчас. А… когда решишь.
– Ага. Я подумаю…
По светящейся шторе скользнула тень: кто-то прошел там по комнате. Кинтель подождал, потом поднял глаза выше дома. Над крышей, у антенны, переливалась белая звезда. Яркая такая, живая. Потом рядом проклюнулась еще одна.
А если глянуть совсем вверх, то вон их уже сколько блестит среди еще не облетевших листьев…
Часть вторая. «ТРЕМОЛИНО»
ФОНАРЬ И КОМПАС
В апреле прошлого года Саню Денисова прогнали с уроков. За родителями. Факт невероятный. До того дня Денисов был среди третьеклассников самым вежливым и никогда не нарушал дисциплину. Скорее всего, именно поэтому – от неожиданности – его «дикая выходка» повергла Юлию Геннадьевну в особое негодование.
– Марш домой! И без отца или матери не являйся!
Саня не испугался. Торжество справедливой победы еще звенело в нем, и он ответил с несвойственной ему дерзостью:
– Но вы должны понимать, что все нормальные родители сейчас на работе.
Юлия Геннадьевна сказала, что это ее не касается. Сама проводила его до раздевалки и велела тете Кате выдать «этому грубияну» куртку. Саня пожал плечами и ушел из школы.
Идти домой было бессмысленно. Поехать в университет к отцу? Саню там знают и помогут отыскать профессора Денисова. Но не бросит же папа лекции, чтобы немедленно мчаться для разбора школьного скандала!
Прогуливать так прогуливать! Саня побренчал в кармане мелочью и с хмурой решительностью отправился на автобусную остановку. Он поедет в магазин «Буратино», где есть комната компьютерных игр. А дальше будет видно.
День был серый, влажный. Автобус долго не приходил. Саня поеживался и топтался у бетонного фонарного столба, оклеенного объявлениями. Казалось, все население Краснодзержинска охватила неудержимая «охота к перемене мест». Масса объявлений была про обмен квартир. Кто-то хотел за две маленькие получить большую, кто-то, наоборот, – за трехкомнатную просил двухи однокомнатную. Кому-то хотелось переехать в Краснодзержинск из Севастополя (наверно, ненормальный). Какой-то наивный человек предлагал поменяться на районный город Туринск…
Но менялись не только квартирами. Предлагали французские духи за детские колготки, венгерскую двуспальную кровать («в хор. сост.») за мотоцикл любой марки («можно подерж.»). Интересно, кто отдаст мотоцикл даже за самую мягкую и роскошную кровать? Разве что инвалид какой-нибудь… За «библиотеку с классиками» просили цветной телевизор, а за баню на дачном огороде – японский телефон с электронной памятью…
Зябкий ветер трепал на объявлениях бахрому из язычков с телефонными номерами. Почти у всех бумажек была такая бахрома. И лишь один листок – без нее. И к тому же – не белый, а розовый. Саня зацепился за него взглядом. И…
«Продается старинный американский компас с японской шхуны. А также старинный морской фонарь оттуда же. Спросить в любое время. Ул. Кирова, д. 3, кв. 26».
Это было… ну как ветерок из тропиков среди запахов промозглой улицы. Или как если бы между озабоченных скучных прохожих прошагал человек в ослепительно белой форме с якорями и золотыми нашивками… Саня мигнул, прочитал еще раз. Ему, с давних дошкольничьих лет воспитанному на книжках и кино про паруса, объявление показалось не просто чудом. Еще и старинной загадкой, тихим голосом, похожим на зов в страну Приключений…
Саня постоял, зажмурившись. А когда решил прочесть о компасе и фонаре снова, увидел рядом дядьку. Молодого, с клочковатыми темно-медными волосами, с густыми веснушками, проступающими сквозь словно пыльный загар. Дядька этот вынул из кармана просторной куртки блокнот и ручку, стал деловито записывать адрес.
Не сдержался Саня, протяжно и шумно вздохнул. Клочкасто-рыжий незнакомец глянул на него сверху вниз, Саня – навстречу. Глаза в глаза. Тихо и с грустной завистью Саня спросил:
– Будете покупать, да?
Незнакомец ответил по-деловому:
– Небось цену заломят несусветную. Надо посмотреть.
– А вы… сейчас пойдете смотреть?
Незнакомец взглянул на часы и опять на Саню:
– Да, пожалуй…
Саня внутренне зажмурился и еще больше набрался храбрости:
– Простите, пожалуйста. Вы не могли бы взять меня с собой?
У незнакомца были ярко-синие, с резким блеском глаза.
– Интересуешься? – с сочувствием спросил он.
– Естественно, – вздохнул Саня. – Раз прошусь…
– Но это ведь далеко, улица Кирова…
– Я знаю. Недалеко от университета, где папа работает. На «восьмерке» без пересадки.
Незнакомец наклонил набок голову. С любопытством.
– Дитя мое, а папа и мама не говорили тебе, что не следует на улицах знакомиться с непонятно какими взрослыми? Да еще отправляться с ними неизвестно куда…
Саня внутренне вздрогнул. Папа и мама про такое говорили. И в школе говорили. И по телевизору. Потому что бывают взрослые мерзавцы, которые заманивают детей и делают с ними всякие гадости и даже губят до смерти. Страх и сомнение подсказывали: извинись-ка, Санечка, и давай на попятную… Хотя лицо незнакомца – некрасивое, но симпатичное – вызывало доверие… Но мало ли что! Преступники иногда бывают очень обаятельные… Да, но разве всякие гады и мучители интересуются корабельной стариной?.. Саня нашелся:
– Но ведь это не вы меня куда-то заманиваете, а я сам попросился.
– Логично. – Незнакомец кивнул медной головой. – Ну что ж… А дома не хватятся, где ты?
– У меня еще два часа до той поры, когда мама станет звонить и спрашивать, пришел ли я из школы…
Тут, как бы разбивая последние сомнения, подкатил автобус – полупустая «восьмерка».
– Ну поехали, искатель приключений…
Они сели на заднее сиденье. Саня – у окошка. Он стеснялся и поэтому смотрел на улицу, хотя были там серость и скука.
Попутчик сказал:
– Меня зовут Даниил Корнеевич. Вострецов. А тебя?
– А меня… Александр Александрович, – неловко, исключительно из-за смущения, пошутил Саня. – Денисов.
Даниил Корнеевич кивнул:
– Очень приятно. А скажи, Александр Александрович, почему ты не на уроках. Вроде бы самый разгар школьного расписания…
– Выгнали, – безбоязненно сказал Саня.
– Не похож ты на человека, которого выгоняют из школы…
– Это впервые в жизни.
– Да? А что послужило причиной столь кардинальной педагогической меры? Если не секрет, конечно…
Уважительный тон вызвал у Сани ответное доверие.
– Ничуть не секрет. Я дал ему по зубам!.. Вернее, хотел по зубам, а попал по носу, и он разбился. Нос… Ну и что?! Они изводили меня три года подряд! Целой кучей на одного! Потешались как вздумается. Дразнили… знаете как? Маринованный Сверчок…
– Глупость какая, – печально отозвался Даниил Корнеевич. – Бессмыслица.
– Конечно! Ну и… есть же предел терпению!.. Я позвал его в закуток у раздевалки и там… Вы знаете, это ужасно, когда кровь капает с лица, и я бы ни за что его больше не ударил. Тем более, что он заплакал… И тут Юлия Геннадьевна…
– Понятно… Александр Александрович.
– Саня я… – виновато сказал он.
– Ага… А что, Саня, тебя толкнуло-то? Столько терпел и вдруг…
Саня потрогал сквозь штанину кнопку-родинку. Глядя себе в колени, признался:
– Книгу прочитал. «Одиссея капитана Блада»… Мне кажется, человек не имеет морального права читать такие книги, а потом трусить…
Даниил Корнеевич потер щеки с чуть заметной медной щетинкой.
– Однако ты, наверно, и раньше читал героические книжки…
– Разумеется. Но раньше я не ощущал такой взаимосвязи.
– М-да… А теперь, значит, осознал. И сразу неприятности. Слушай, но это же несправедливо! Ты защищал свое достоинство, и тебя же сделали виноватым! А с уроков выгонять вообще запрещено.
Саня шевельнул плечами: такова, мол, наша действительность.
– Знаешь что? Морской антиквариат подождет. Давай-ка поедем в твою школу и расставим нужные акценты. У меня есть полномочия…
– Не стоит! Папа сходит и сам… расставит.
– Не боишься папы?
– Ни в малейшей мере, – сказал Саня слегка надменно. – Папа всегда вникает в суть дела.
Папа вникал. И если даже Саня оказывался виноват, дело кончалось беседой, не более. Лишь единственный раз в жизни, когда Саня решил, что курево укрепляет мужской характер, и попался на первой попытке, папа позабыл о современной педагогике, стал сдергивать с себя чахлый клеенчатый поясок. Саня перепугался тогда не столько за себя, сколько за отца: до какого же состояния он, Санька, довел кошмарным поступком папу, если тот пошел на т а к о е д е л о! И во время суетливой и неумелой воспитательной процедуры он жалобно просил: «Папочка, ты только, пожалуйста, не волнуйся…»
Короче говоря, случай был совершенно нехарактерный для семейства Денисовых.
В 26-й квартире, в доме номер 3 на улице Кирова им открыла дверь нестарая, но рыхлая тетка в мохнатом длинном халате. Узнала, зачем пришли, слегка удивилась:
– Да-а? А я и не ждала… Это зять привез с Владивостока, говорит: напиши, может, найдутся любители… Сам-то он опять укатил, язви его…
Она явно настроена была подробно изложить свое мнение о непутевом зяте, однако Вострецов сухо сказал:
– Позвольте посмотреть вещи.
Тетушка вынесла в прихожую и поставила на два табурета фонарь и компас.
Фонарь был ростом Сане чуть не до пояса. Пузатый, с шаровидным стеклом. Его металлические части отливали тусклой медью, как волосы Вострецова. А компас формой и размерами походил на небольшую кастрюлю.
Саня придержал дыхание: настоящие, с корабля.
Но Даниил Корнеевич сказал пренебрежительно:
– Н-да… А написано, что старинные… Ну и сколько за этот… товар?
– Вообще-то я не знаю. Он говорил, что шестьсот…
– Че-во? – искренне изумился Даниил Корнеевич. – За этот ширпотреб?
– Зять говорил, вещи… эти, как его… эк-зо-тические.
– Ну-ну, – хмыкнул Даниил Корнеевич. – Фонарь сделан в Ленинграде в шестьдесят третьем году, вот клеймо, сами смотрите… А компас гэдээровский, фирмы «Тельтов», тоже шестидесятых годов. Дрянной, кстати, прибор, наши не в пример лучше, его и даром не надо. Фонарь, пожалуй, взял бы. За тридцатку…
– Да вы чё, молодые люди!
– Ну, извините за беспокойство. Пойдем, Саня…
Лифта не было, а квартира на четвертом этаже. Когда спустились до второго, хозяйка заголосила сверху:
– Эй, мужчина! Покупатель! Ну обождите, может, сговоримся! Ну чё уж тридцатка-то, это разве деньги? Кило говядины на рынке!..
Сговорились за полсотни.
Даниил Корнеевич, сдержанно довольный, вынес фонарь из подъезда. Саня шел рядом, поглядывая.
– Ни старины, ни экзотики особой, но красив, черт побери, – говорил Даниил Корнеевич. – Почистить, лампочку поставить вместо ржавой горелки, повесить в углу – создаст колорит…
– Значит, вы любитель, – заметил Саня, пряча зависть.
– Да и ты тоже. Разве не так?.. А хочешь посмотреть кое-что поинтереснее этого? Я недалеко живу, на Калужской.
Саня хотел. Но прежние сомнения опять зашевелились в нем. Однако их разбила новая встреча. На улице подбежали двое мальчишек. Один – лет двенадцати, другой – вроде Сани.
– Корнеич! У-у-у… Где раздобыл?
Вострецов сообщил, что где взяли фонарь – тайна, которую он так просто не откроет. И добавил, что неприлично уделять такое внимание неодушевленному фонарю и не замечать человека, который идет с ним, с Корнеичем, рядом.
Старший мальчик – высокий, кудлатый, без шапки – сказал:
– Нет, мы сразу обратили внимание. Человек – откуда и зачем?
– Это Саня, – сообщил Даниил Корнеевич.
– Привет, Саня. А я Дим. – И высокий протянул узкую прочную ладонь. Спокойно так, по-деловому.
– А я Виталик… – Это маленький, круглолицый, с полными радости глазами тоже качнулся к Сане.
– По прозвищу Не Бойся Грома, – уточнил Даниил Корнеевич.
– Ага! – весело сказал Виталик.
Даниил Корнеевич объяснил ребятам:
– Мы добывали фонарь вместе с Саней. Он тоже интересуется морскими делами. А еще он ищет политическое убежище, ибо изгнан из школы за то, что, отстаивая права личности, слегка деформировал противнику форштевень…
– Ну так пошли, – сказал Дим. – Давай фо-нарь…
Виталик Не Бойся Грома, прыгая впереди, сообщил:
– Там еще Костик, Андрюшка и Маринка пришла. Но Таня послала Маринку на молочную кухню, потому что Ромка орет с голоду, как маячная сирена.
Даниил Корнеевич жил в такой же блочной пятиэтажке, как та, где купили фонарь. На верхнем этаже.
Саня попал в комнату, где, кроме обычной обшарпанной мебели, была масса удивительных вещей. В одном углу, у широкого окна, стояла тумбочка с корабельным компасом («Нактоуз!» – вспомнил название Саня). В другом щетинился большущий рогатый штурвал со сверкающей латунной ступицей. Две стены – в сигнальных разноцветных флагах, морских картах и фотографиях с парусниками. Еще одна – с некрашеными самодельными полками. На полках, перед книгами, – заморские раковины, кораблики, обломки кораллов и обкатанные прибоем камни.
На подоконнике, занимая почти половину окна, стояла модель с двумя отогнутыми назад мачтами, с треугольными парусами и высокой узорчатой кормой…
Саня ощутил, что он как бы растворяется среди всех этих волнующих душу признаков морской жизни. Или наоборот, впитывает эту комнату с ее чудесами в себя. И с ее людьми!
Кроме пришедших, в комнате оказались еще двое мальчишек. Один – смуглый и молчаливо-деловитый – устроился с ногами на тахте и заплетал конец толстого лохматого троса. Другой – коротко стриженный, с носом-клювиком, совсем еще небольшой (наверно, первоклассник) – сидел на корточках перед высоким барабаном и задумчиво что-то выстукивал на нем. Барабан был лаково-черный, с голубым якорем на бо-ку, с блестящими обручами и витыми желтыми шнурами. О него терся боком и горбил спину худой серый котенок.
Саню встретили без лишнего любопытства. Узнали, как зовут, протянули руки, назвали себя (Андрюша и Костик) и дальше относились как к своему. И не было тут никакого притворства.
– Чаю с сушками хочешь? – спросил Костик-барабанщик. – Только они твердые, зубы не поломай…
– Нет, спасибо, – прошептал Саня, оглядываясь.
Никто не обратил внимания, как он ходит вдоль полок и стен, разглядывая диковины. Только Даниил Корнеевич иногда тихим голосом давал объяснения. Например, что круглые корабельные часы отданы ему знакомым штурманом с ледокола «Гектор», а розовая раковина – подарок одного друга, он привез ее с Кубы…
Котенок Беня (полное имя – Бенедетто) тоже признал Саню за своего. Когда тот наклонился, чтобы погладить, Беня по рукаву ловко забрался на Санино плечо. Так, с мурлыкающим Беней у щеки, Саня и ходил дальше по комнате, которая именовалась таверной «Сундук Билли Бонса»…
Потом пришла девочка Марина – с большой сумкой, где звякала молочная посуда. Поглядела на Саню, принесла ему из прихожей шлепанцы:
– Возьми, а то от окошка дует на полу… Я на кухню пойду, к Тане, она там замаялась…
В соседней комнате иногда коротко и громко вопил младенец (как потом выяснилось, шестимесячный сын Корнеича). Виталик Не Бойся Грома, Костик и Андрюшка стали обсуждать, куда повесить фонарь. При этом шикали на чересчур громкого Виталика: «Тише ты, опять Ромка проснется». Ромка проснулся и снова радостно взревел за стеной. Появилась Маринка, брякнула в небольшой надраенный колокол, висевший на дверном косяке.
– Таня говорит: если голодные, чистите картошку сами, нам некогда. Дим, давай наряд на кухню…
– Ага… – Дим прошелся по всем глазами. – Я, Костик и Саня…
Это было полным признанием! Как бы зачислением в экипаж для кругосветного плавания или посвящением в рыцари! И Саня преисполнился тихого восторга и благодарности, позабыв про время… Зато помнил Даниил Корнеевич.
– Сане, братцы, домой пора. А то будет великий шум и поиск… Ты ведь еще придешь, верно?
– Да… – выдохнул Саня. И с сожалением снял с плеча Беню, отдал Костику.
– Приходи, – сказал Костик.
На автобусной остановке случилась новая неожиданность. Там стоял профессор Денисов. И что было делать? Не прятаться же было!
– Папа…
– Ба! Ты откуда здесь?
– Я… Мы то есть… – Саня оглянулся на Даниила Корнеевича, который провожал его.
– Давай-ка, дружище, выкладывай папе все как есть, – посоветовал тот.
– Да, конечно… Во-первых, меня выставили с уроков…
И Саня изложил события.
– А потом мы познакомились, читая объявления на столбе, – перебил его Даниил Корнеевич. – У нас нашлись общие интересы в области маринистики, и я пригласил Саню в гости.
– Весьма вам благодарен, – произнес профессор Денисов довольно сдержанно. И обратился к сыну: – Не исключено, что ты прав в оценке своего боевого поведения. Кстати, очень для меня неожиданного… Однако перспектива объяснения с Юлией Геннадьевной меня все-таки не радует.
– Но это твой отцовский долг, – бодро заявил Саня. Он почуял, что в глубине души папа доволен его отвагой.
– Не спорю. Но не забывай и о своем долге. В частности, он состоит в следующем: когда тебя снова попрут из школы, не болтайся нигде, а сразу иди домой. И не стремись к уличным знакомствам. Не всегда тебе повезет встретить такого человека, как… – Он посмотрел на Даниила Корнеевича вопросительно и выжидательно.
Тот светски наклонил клочкастую голову:
– Вострецов. Работник краеведческого музея и корреспондент «Молодежной смены»…
– Весьма рад. Профессор Денисов, завкафедрой зарубежной истории…
– Ого! – резво обрадовался Даниил Корнеевич. – Так это ваша статья о раскопках неизвестного города на Южном Урале? В «Голосе науки»!
– Читали? – слегка оттаял папа. – Чрезвычайно приятно…
– Да! И еще очерк в «Музейной хронике». О библиотеке потомков генерал-адмирала Апраксина. Крайне интересный материал.
Папа начал потихоньку расцветать.
– Кстати! – вспомнил Даниил Корнеевич. – У нас, по-моему, есть общий знакомый. Сергей Каховский. Он был аспирантом при вашей кафедре.
– Как же, как же! Отлично помню! Куратором его был не я, но по византийской теме наши интересы соприкасались, и мы… Да! А где он сейчас? В Москве?
– Он перевелся в Севастополь, поближе к любимому Херсонесу…
Эта встреча Вострецова с отцом во многом упростила дальнейшие события. Мама не стала охать, почему ребенок повадился каждый день ездить неизвестно куда и к кому. После папиного рассказа согласилась:
– Если у него не сложились отношения в школе, может быть, найдет друзей хотя бы на стороне…
А в школе отношения действительно «не сложились». Теперь и с Юлией Геннадьевной. Перед майскими праздниками она сказала:
– Конечно, пионерская организация уже не такая, как раньше, но мы, я думаю, все равно должны создать в классе отряд. Кто хочет стать пионером?
Хотели не все. Примерно половина. Это Юлию Геннадьевну раздосадовало. И, глядя на Денисова, она произнесла:
– Но уж драчунов-то, которые даже не догадались попросить прощения, думаю, принимать в любом случае не следует.
А Саня вовсе и не поднимал руку! Вернее, поднял, но только чтобы поправить волосы.
– Вы ошиблись, я не напрашиваюсь.
А красный галстук он все равно получил. В строю, на пирсе водной станции клуба «Металлист». Был праздник, и под барабанную дробь Костика на мачту подняли оранжевый, с белым солнцем и синим корабликом флаг, и Саня Денисов пообещал быть верным морскому отряду. Название отряда было вышито на галстуке золотыми буквами по краю алого синтетического шелка.
Увидев Денисова в пионерском галстуке, Юлия Геннадьевна подняла крик. И хотела даже собственными руками галстук «этого самозванца» снять. Саня выскочил из класса. Недалеко от школы был телефон-автомат.
– Корнеич! Добрый день…
Вострецов примчался через десять минут. Больше Саню не трогали. Ни из-за галстука, ни вообще. Хотя, казалось бы, причин даже прибавилось. Саня ходил теперь на уроки в отрядной форме – в синих шортах с флотским ремнем и оранжевой рубашке с нашивками и с якорями на погончиках. Одно удовольствие поцепляться за шевроны и погончики Маринованного Сверчка. Однако не цеплялись… Впрочем, был уже самый конец учебного года.
Дни тогда наступили уже совсем летние, и отряд наконец спустил на воду свою легонькую фанерную шхуну.
Старое было суденышко, но все еще быстрое. И Саня задохнулся от восторга, когда шхуна, лихо накренившись, набрала ход и тихонько зазвенела от скорости.
– Шверт поет, – заметил сидевший у руля Корнеич.
Саня уже знал, что шверт – это стальной тонкий плавник, его выдвигают из днища судна. Вот этот звонкий металлический лист и вибрировал, рассекая воду.
– С точки зрения гидродинамики это, наверно, не очень здорово, – сказал Корнеич. – Но зато какая музыка для души, а! – И глянул на Саню. – Вот потому и название такое. У шхуны и у отряда.
…С той поры прошло уже ой-ей-ей сколько времени. Ревучий Ромка стал спокойным двухлетним карапузом и начал ходить в ясли. Тощий котенок Беня вымахал в упитанного тигра Бенедетто – грозу окрестных котов. Саня познал радости парусных плаваний и премудрости корабельной оснастки. И среди людей из таверны «Сундук Билли Бонса» было ему хорошо как нигде. Первые две недели он звал Вострецова по имени-отчеству, а потом стал называть, как и все, Корнеичем…
Чего, казалось бы, еще желать в жизни? Есть любимое дело, защита от недругов, есть надежные товарищи… Но среди них – действительно надежных, действительно замечательных – пока не было такого, кто стал бы самым-самым. А мечтой по такому другу томится, наверно, всякий человек. Или, по крайней мере, многие… И все-таки странная это штука – человеческое сердце. Разве поймешь, по каким законам рождаются в нем привязанности. Почему больше, чем к кому-то в отряде, потянуло Саню Денисова к хмурому и колючему Дане Рафалову? Сперва год назад, на теплоходе, а потом здесь, после переезда и новой встречи. Разве объяснишь?..
Да и не объяснять надо было теперь, а для полного спокойствия души соединить их вместе: Кинтеля и маленький отряд с трепещущим, как флаг на ветру, именем «Тремолино».
ДЖОЗЕФ КОНРАД И МУЗЫКА
Кинтель и дед увязывали книги в пачки.
– Эту не надо, – сказал Кинтель, – она не наша, мне Корнеич дал почитать.
– О! Джозеф Конрад!.. Ну и как? Читал?
– Естественно, – отозвался Кинтель тоном Салазкина.
– Многие считают, что Конрад устарел…
– Только не «Зеркало морей»! Она вообще… как целая морская энциклопедия. И вот еще, смотри… – Кинтель открыл начало последней главы, ее название. «Тремолино».
– Выходит, ваша компания называется так в честь Джозефа Конрада?
– Ну, не в честь, а… по созвучию. Он тут пишет про двухмачтовую баланселлу с латинскими парусами, очень быструю. Она даже дрожала от скорости. А у Корнеича и у ребят была двухмачтовая яхта. Типа бермудской шхуны. Тоже очень легкая на ходу. Сперва ее хотели окрестить «Мушкетером», а когда испытали, дали название как у Конрада…
– Я, по правде говоря, забыл, что оно означает.
– Это по-итальянски. От слова «тремоло». Значит «дрожащий», «трепещущий». А «тремолино» – это уменьшительное. Вроде как «трепещущий малыш». Трепещущий не от страха, а от скорости. И от радости, что такая скорость…
– Весьма поэтично, – откликнулся дед, но уже с ноткой озабоченности. – Давай-ка, однако, поторапливаться. А то явится Варвара Дмитриевна, и оба мы будем дрожать и трепетать, когда она увидит такой кавардак.
– Мне-то что, – хмыкнул Кинтель. – Это ты трепещи. На то ты и есть молодой муж… – Он со смехом увернулся от подзатыльника, но запнулся за книжную стопку и растянулся на полу. Встал, кряхтя и потирая бока.
– Рукоприкладство в ответ на критику. Я травмирован и работать не могу… Толич, мне пора к ребятам, мы там карту рисуем… Ой, чуть не забыл! Можно я возьму туда на недельку твой альбом со старинными картами? И вот эту, со стены…
– Еще чего!
– Ну, То-олич! Нам надо кое-что срисовать, чтобы… чтобы получилось как в старину. Шрифты скопировать и обозначения…
– Что, у вашего Корнеича мало морских карт?
– Они современные, а старых нету…
– Потащишь куда-то такую редкость! Эта карта не покидала дом больше ста семидесяти лет.
– Все равно ведь придется скоро покинуть… Толич, не жадничай. Санькин отец не побоялся «Устав» мне дать, а ты…
– А я вредный… Ладно, шут с тобой, только сперва увяжешь все книги.
– Да я и так уже опаздываю!.. Я потом все один упакую, не волнуйся!
– Когда это потом… – проворчал дед.
– А куда спешить? Переездом пока и не пахнет…
Дед и тетя Варя расписались в ЗАГСе в середине октября. Тихо, скромно, без всякой свадьбы. И сразу стали решать вопрос о совместной жизни. Здешнюю квартиру и двухкомнатную тети Варину решено было поменять на трехкомнатное жилье. На Кинтеля по этому поводу нашло однажды грустно-подозрительное настроение, и он, надувшись, сказал деду:
– Я вам небось там и не нужен буду…
– Дурень, – ответил дед. И прибавил с какой-то виноватостью: – Комнату себе выберешь лучше прежней.
– Ну уж, «лучше». Небось потолки низкие. И вообще… Толич, тебе не жаль отсюда уезжать? Ты ведь здесь родился.
– А что поделаешь, – насупился дед. – Все равно к весне дом снесут. Сам знаешь…
О том, что дом должны снести, говорили давно, однако Кинтелю не верилось. Уже один за другим стали уезжать на новые квартиры жильцы первого этажа, но все равно казалось, что с домом ничего не случится. С таким привычным, с таким прочным… Кинтель так и сказал.
– Никакой он не прочный, – вздохнул дед. – Стропила все сгнили. И сырость в стенах. Говорят, ремонт себя не окупит. К тому же по генеральному плану здесь должна пройти улица – от моста до нового театра.
– Да театра-то еще нету! Его сто лет не построят! А дом развалить у всех руки чешутся!
Дед сказал, что разваливается вся страна, кто тут будет думать о каком-то старом доме.
Кинтель не считал, что страна совсем уж разваливается. Конечно, жизнь делалась все дороже и голоднее, даже ходили слухи про карточки на хлеб. И главное, люди повсюду посходили с ума. Однажды в таверне «Сундук Билли Бонса» маленький, всегда насупленный пацан по прозвищу Муреныш смотрел, как на экране лупят из минометов не то грузины по осетинам, не то азербайджанцы по армянам, потом плюнул, вытер ладонью брызги со штанов и произнес:
– Вовсе мозги проквасили. Взрослые называются…
Но пальба, стотысячные митинги и таможенные споры были где-то далеко, в других республиках или на окраинах России. А Преображенск время от времени лишь потряхивало забастовками: то встанут автобусы, то прекратят работу парикмахерские. Три дня, на радость ученикам, бастовали и педагоги. Требовали добавки к зарплате. Дружно так! В школе, где учился Кинтель, не поддержал забастовщиков лишь Геннадий Романович. Высказался почти как Муреныш:
– У вас что, вовсе мозги прокисли? Ребятишки-то при чем, их кто учить будет?
«Штрейкбрехера» заклеймили на стачечном комитете и постановили, чтобы убирался из школы. Геночка плюнул на «эту бабью ассамблею» и ушел. Говорят, подался в кооператив…
Но в общем-то жизнь была не такая, чтобы ударяться в панику. И главное – дружно жил и не думал разваливаться маленький отряд «Тремолино».
Нельзя сказать, что Кинтель прижился в «Тремолино» сразу. Сперва он ходил на Калужскую только ради Салазкина, чтобы не обидеть его. Кинтель понимал, что винить надо лишь себя, для отчужденности не было никаких причин. Он видел, что ребята отличные: как раз такие, каких он хотел записать в экипаж, когда мечтал о своем пароходе. И Кинтеля они встретили хорошо и спокойно, как давнего знакомого. Но были они в своем «Тремолино» как-то уж чересчур завязаны друг на друга. Одна семья, где все понимают каждого с полуслова. Они знали свои корни: историю прежних отрядов, из которых вырос «Тремолино», судьбы тех, кто был в этих отрядах раньше.
Иногда Корнеич пускал на разболтанном видике кассету с записью старых отрядных кинохроник и самодельного фильма «Три мушкетера». И весь народ смотрел это как про самих себя, хотя на экране сражались на рапирах, шли через пенные гребни на фанерных яхтах, шагали через лесную чащу и лупили палочками по коже высоких черных барабанов мальчишки семидесятых и восьмидесятых годов. Барабанщики «Эспады», «Мушкетера», «Синего краба» и, наконец уж, «Тремолино»…
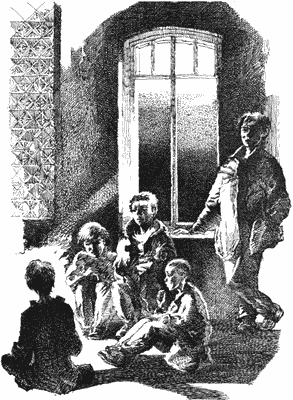 Была на этой пленке и песня о трубаче. Ее пел в окружении пацанов худой смуглый паренек с тонкой полоской усиков на нервной губе. Длинноволосый, с продолговатыми, какими-то «марсианскими» глазами. Тот, кто придумал эту песню.
Была на этой пленке и песня о трубаче. Ее пел в окружении пацанов худой смуглый паренек с тонкой полоской усиков на нервной губе. Длинноволосый, с продолговатыми, какими-то «марсианскими» глазами. Тот, кто придумал эту песню.
– Гена Медведев… Кузнечик… – шепотом говорили ребята. И с печалью.
Но даже эта песня не приближала Кинтеля к «Тремолино». Это была их песня, это был их Кузнечик. Их печаль оттого, что Кузнечик навсегда остался в прокаленной афганской земле…
Единственное, что связывало Кинтеля с отрядом, был Салазкин. Но он, оказавшись здесь, как бы растворялся среди обитателей «Сундука Билли Бонса», а Кинтель оказывался в сторонке.
Впрочем, внешне все выглядело нормально. И когда проводили занятия по парусной оснастке (а такое случалось), и когда обсуждали проект новой шхуны с бермудскими парусами, Кинтель не чувствовал себя совсем уж новичком: кое в чем он разбирался. Но если собирались просто так, «на огонек», он держался в уголке или ускользал на кухню, чтобы помочь Тане, жене Корнеича. Та принимала его помощь с благодарностью. И кажется, вообще понимала Кинтеля лучше других. Однажды сказала:
– Ну, Данечка, быть тебе корабельным поваром. Даже Маринка годится тебе лишь в младшие поварята.
И Кинтель мгновенно почуял: она хочет помочь ему. Дело в том, что каждый вносил в «Тремолино» что-то свое. Или какое-то умение, или черту характера, или даже какую-то необходимость особой заботы (как, например, Муреныш с его домашней неустроенностью). Эти способности, черточки, горести и радости как раз и создавали тот сплав настроений, который был воздухом «Тремолино». Был в этом сплаве и несильный, но чистый голосок Салазкина, когда один из старших мальчишек, Юрик Завалишин, брал гитару, и все пели песни, которых Кинтель раньше никогда не слышал (кроме «Трубача»).
Кинтель петь не умел и стеснялся. Это ему легко прощали, как остальным прощали всякие другие недостатки: например, излишнюю дурашливость Витальки Не Бойся Грома или стремление маленького Костика то и дело постукивать в барабан, с которым он был неразлучен.
У Кинтеля не было ничего, что могло бы добавить экипажу «Тремолино» новых красок. Его легко взяли в компанию, но так же легко – он чувствовал это – могли обойтись и без него. Потому что не принимать же всерьез умение готовить макароны с жареным луком.
«Может, это потому, что я здесь тринадцатый, несчастливый?» – грустно усмехался про себя Кинтель.
Кроме него, ребят в «Тремолино» была ровно дюжина. Одиннадцать мальчишек и деловитая Маринка – отрядный «лекарь, пекарь и аптекарь». У Маринки был брат Андрюшка, на год младше. Бесстрашное создание с остреньким смуглым лицом и глазами, вечно жаждущими справедливости. Он лез отстаивать эту справедливость на улице, в своем дворе, в школе. Недели не проходило, чтобы Корнеич не кидался вытаскивать его из очередной истории. А еще были Сержик Алданов и Паша Краузе – самые «ветераны» отряда и неразлучные друзья, шестиклассник Игорь Гоголев (по прозвищу И-го-го), сочинявший стихи не хуже, чем Глеб Ярцев в классе Кинтеля, и тихий, немного похожий на Салазкина Сенечка Раух. И девятилетний неприкаянный Илька Мурзаев – Муреныш, – живший больше у Корнеича, чем дома. Он был одновременно и ласковый, и упрямо-самостоятельный. Большеглазый, чернявый, нестриженый…
Именно благодаря Муренышу кончилось в отряде скрытое отчуждение Кинтеля.
Однажды Муреныш взгромоздил у стеллажа самодельную стремянку и полез к верхней полке. Что ему там понадобилось, неизвестно, он ведь никогда не объяснял. Потянул с полки увесистую подшивку журнала «Морской флот», не удержал, не удержался сам. Муреныша поймали еще в середине полета. Но книги, которые посыпались за ним, поймать не смогли.
А следом за книгами со звоном упал на половицы помятый, но блестящий пионерский горн.
Кинтель отпустил невредимого Муреныша и поднял трубу. Поправил загнувшийся край внешнего венчика. Горн был с мундштуком. С таким же, как на той фанфаре, которую дали однажды Кинтелю в «гусарском» оркестре.
Виталик Не Бойся Грома радостно подскочил:
– Ой, я и не знал, что у нас труба есть! Откуда?
– Да разве ж я помню, – недовольно отозвался Корнеич, он перепугался за Муреныша. – Кажется, от давних киносъемок осталась, кто-то герольда на рыцарском турнире изображал… По правде-то у нас горнистов почти не было. Лишь в самом начале были. А в «Мушкетере» и в «Синем крабе» уже ни одного. Только барабанщики.
Все привычно глянули на знакомую фотографию. И Кинтель. Снимок был большущий, пятьдесят на шестьдесят, в раме и под стеклом. На фотографии – десятилетний Данилка Вострецов в парадной форме барабанщиков «Эспады»: с плетеным капроновым аксельбантом на рубашке, в лихо заломленном берете, в белой портупее. Слегка взъерошенный ветром и собственной радостью, он сиял веснушчатым лицом и от души лупил в барабан, растопырив колючие локти и расставив среди подорожника и клевера щедро украшенные синяками ноги в съехавших гольфах.
Кинтель стеснялся смотреть на эту фотографию и не раз думал: как Корнеич сам-то смотрит со спокойной душой? На себя, стоящего на двух ногах. Ведь одной-то ноги теперь нет! Вот этой, левой, с белым квадратным пластырем под коленкой. Она выросла и была раздроблена миной в Афгане, и ее отрезали ниже колена, и теперь там скрипучий протез. Кто не знает, сразу и не заметит, но ведь Корнеичу-то сколько мук…
Однако и Корнеич, и другие всегда смотрели на снимок без боязни и неловкости. И сейчас тоже. Но Кинтелю вдруг показалось, что они прочитают его мысли, и он отвел глаза. И чтобы скрыть смущение, спросил:
– А почему их не было, горнистов-то?
– Да так как-то… – Корнеич развел руками. – В барабан стучать – дело нехитрое, а для трубы способности нужны, чтобы играть чисто, а не дудеть, как на школьном сборе…
Кинтель не удержался, тронул мундштук губами, и языком толкнул в него сгусток воздуха. Тонкий металл чутко отозвался, притих словно в ожидании.
– Умеешь, да? – подскочил Не Бойся Грома.
– Не-а… я так просто…
– А все-таки? – сказал Корнеич.
– Да нет же… Я только один раз в руках фанфару держал, в оркестре. Попробовал однажды…
– Ну попробуй еще разок, – с пониманием и с каким-то нетерпением попросил Корнеич.
Кинтель послушался. Как и в том случае, в клубе, звук получился чистый, высокий и с переливчатым дрожанием, которое называется «тремоло». Тогда Кинтель, словно испугавшись, что могут остановить, проиграл те четыре ноты, что и в прошлый раз, три года назад. Проснулась в нем память этих звуков. И они запели так, что отозвались оконные стекла и колыхнулись паруса модели… И влетела в комнату Таня:
– Вы что, люди! Ромка только что заснул!
Кинтель чуть не провалился. Но Корнеич сказал:
– Подожди. Ромку полковым оркестром не разбудишь, а мы тут горниста нашли… Быть тебе, Данила, трубачом, первым в истории «Тремолино»… Если, конечно, согласен.
– Да я же ничего не умею! Только вот это, что сейчас! И то случайно получается…
– Достаточно и этого для начала. Готовый сигнал. Потом научишься. Главное тут – сама идея и почин…
Кинтель увидел глаза Салазкина – и радостные, и просящие: «Не отказывайся!» И ощутил, как вырастает связь: «тремоло» и «Тремолино». Кинтель и отряд…
То ли по случайности так вышло, то ли был в этом особый смысл – в тот вечер Маринка сказала:
– Дань, давай я на твоем галстуке название вышью, наше. Все равно школьные дружины рассыпаются. А мы живем…
В «Тремолино» никто, даже старшие, с галстуками не расставались. В этих алых треугольниках здесь видели особый смысл. Кинтель знал давнюю историю, когда в середине семидесятых для первой шхуны не хватило парусины и бушпритные паруса сшили из красного синтетического шелка. Тогда еще можно было найти в магазинах и недорого купить такую материю. Кливера эти стали знамениты на всем Орловском озере. Командир «Эспады» Саша Медведев, старший брат Генки Кузнечика, однажды в разговоре с корреспондентом «Молодежной смены» рассказал:
– Недавно опять на улице шпана к нашим ребятам прискреблась, хотели галстуки посрывать. А для «Эспады» галстуки – это не часть школьной формы, без которой завуч не пускает на уроки. Это символ алого треугольного паруса, кливера. Именно такие паруса помогают идти круто к ветру… Ну и вломили наши мальчики этим пиратам…
Интервью с командиром «Эспады» было напечатано. А через день в отряд явился бойкий молодой человек в отутюженном костюме с комсомольским значком. И предъявил претензии. Мол, что это за новые пионерские законы и правила вы пропагандируете! Во все времена считалось, что красный галстук – символ единства трех поколений, а вы тут со своей трактовкой! Есть разработанная символика!..
Разговаривал он чересчур самоуверенно, а кандидат физических наук Александр Медведев чиновников недолюбливал. И сказал комсомольскому деятелю, куда тот должен идти вместе с разработанной символикой. После этого у «Эспады» и у Саши начались очередные неприятности, отряд который уже раз поперли из помещения, но ребята держались. А три алых кливера сделали своей эмблемой. Навсегда…
После случая с трубой Кинтель осмелел и пару раз напоминал, что Данькой и Данилой звать его не стоит. Лучше привычным именем-прозвищем. И скоро стал здесь, как и везде, Кинтелем. Для всех, кроме Салазкина. Тот по-прежнему звал его Даней. А больше никто. Но и Саню Денисова никто не называл «Санки» или «Салазкин». Это было как бы право одного Кинтеля…
Конечно, звание трубача было чем-то вроде почетной должности. Звание-название. Потому что, если по правде, – зачем он нужен, горн-то, в двухкомнатной квартире, где собирается экипаж «Тремолино». Маленький Костик – тот хоть подыгрывает гитаре на своем барабане, когда Юрик Завалишин начинает вступление к песне. А Кинтелю даже потренироваться негде – ведь не будешь трубить в комнате…
И все же Кинтель обрадовался, когда Маринка подарила ему нарукавный значок трубача (хотя и хихикал над собой: «Как третьеклассник, которому дали первое пионерское поручение»). На ромбике из вишневого бархата Маринка вышила золотистыми нитками круто изогнутую, старинного вида трубу, обметала материю такой же золотистой каемкой.
– На. Пришьешь на форменную рубашку.
– У меня же ее нету, рубашки-то…
Корнеич сказал:
– К весне будем всем новую форму справлять. Пора приводить экипаж в порядок. – И добавил: – Кстати, наши музейные мастерские с одним кооперативом законтачили, «Орбита» называется. Эти парни пообещали мне подбросить несколько листов фанеры-шестерки. Просто так. «Мы, – говорят, – в детстве тоже о парусах мечтали». Есть среди преображенских бизнесменов совсем даже порядочные люди… Так что, если отыщем к весне какой-нибудь сарай, можно будет закладывать корпус новой шхуны…
– Можно и прямо на берегу, на базе! – весело сунулся Не Бойся Грома.
Он не боялся трудностей. И вообще был отважной личностью, несмотря на внешнюю дурашливость. Свое прозвище он получил за то, что в позапрошлом году без лишних слов укротил и заставил полюбить себя громадного пса Грома, который охранял водную станцию. Вообще-то Гром был добродушной псиной, но на посторонних гавкал устрашающе. Загавкал и на Витальку, когда тот появился на берегу первый раз. Виталька без лишних слов подошел к зверю, обнял за шею, потрепал по лохматому боку. И Гром замахал хвостом, лизнул храброго пацана в подбородок…
Услышав предложение Витальки о строительстве под открытым небом, все заговорили, заспорили. А Кинтель осторожно затолкал нашивку во внутренний карман.
…Но однажды горн все-таки пригодился. Во время похода.
Впрочем, был это даже не поход, а воскресная лесная прогулка. На электричке доехали до станции Белый Камень, потом прошагали километра три и вышли на берег Орловского озера.
Справа, в далекой дымке темнел еле заметный город. По берегам щетинился синий лес, в котором мелькали последние проблески не успевшей облететь листвы. День стоял безоблачный, озеро среди берез и елей синело резко и чисто. На лужайках в жухлой опавшей листве и хвое виднелись последние мелкие цветы – робкие, бледно-желтые и белые.
– Завтра уже Покров, снег должен бы выпасть, а тут тепло такое, – сказала Маринка и почему-то вздохнула. – Ну ладно, костер все равно нужен. Мальчишки, идите за хворостом.
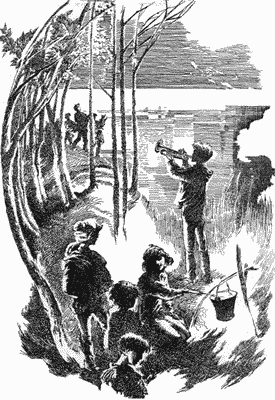 Кинтель, Салазкин и трудолюбивый Муреныш притащили охапки сучьев раньше других. Развели огонек, подвесили над ним ведерко с ледяной озерной водой. Вода уже нагрелась, а другие ребята все не показывались из чащи. Корнеич забеспокоился:
Кинтель, Салазкин и трудолюбивый Муреныш притащили охапки сучьев раньше других. Развели огонек, подвесили над ним ведерко с ледяной озерной водой. Вода уже нагрелась, а другие ребята все не показывались из чащи. Корнеич забеспокоился:
– Кинтель, а ну-ка, потруби…
И Кинтель достал горн, который перед походом, стесняясь, почти украдкой, сунул в рюкзак. Заволновался почему-то, но чисто и протяжно выдал на весь лес четыре ноты.
И побежали из-за деревьев, заспешили к огню послушные сигналу матросы экипажа «Тремолино».
– Что случилось?!
– Тревога, да?!
– Тревога оттого, что вы бродите где-то целый час, – притворно нахмурился Корнеич. – Хватит уже, вон сколько дров…
Дальше было все как бывает в таких походах. Посидели у огня, угостились обжигающим дымным чаем, вспомнили кое-какие песни. В том числе и «Трубача». Паша Краузе вдруг сказал:
– Вчера заспорил с одним парнем в нашем классе, он из скаутского отряда, из «Былины». Говорит: «Ваши песни – все какие-то агрессивные, к вечной борьбе зовут. «Нам коней горячить, догоняя врага…» Какого врага-то?» А я ему говорю: «Зато это наши песни…»
– В общем-то скаутский мальчик прав, – задумчиво согласился Корнеич. – Песни эти действительно из прошлых лет, из семидесятых. Тогда «Эспаде» и другим таким же отрядам воевать приходилось направо и налево. И школьное начальство нас поедом ело, и горкомовские чины. И местная шпана в трогательном союзе с ними… В чем-то тогда было даже лучше, чем сейчас. По крайней мере, знали, кто друг, кто враг… А сейчас большой враг разбежался на сотни маленьких. Будто крупный зверь превратился в сотню мышат. Кусают за пятки. Причем ядовито…
– Они бы лучше помалкивали, эти былинщики, – сказала Маринка. – «Синего краба» нашего сами на каждом сборе поют…
– А в общем-то они хорошие ребята, – заметил Сержик Алданов. – Никогда ни на кого не лезут. За первоклассников тогда заступились вместе с нами…
Корнеич вспомнил:
– Их руководитель мне звонил в начале сентября, приглашал: подавайтесь в нашу организацию. У скаутов, говорит, и материальная база, и возможность заграничных поездок…
– А ты? – дернулся у Корнеича под боком Костик-барабанщик.
– А я говорю: у нас двадцать лет своей истории, она не хуже скаутской. Чего же мы будем ради заграничных поездок от всего своего отказываться… У вас, говорю, и барабаны другого цвета, а Костик свой барабан ни на какой другой никогда не променяет. А мы куда же без Костика?..
– То-то же, – сказал Костик. И устроился поудобнее.
– А он что, этот их руководитель? – поинтересовался Дим.
– А этот скаут-мастер… с ехидцей, хотя и вежливо: «Что ж, верность принципам достойна уважения. Даже если это верность организации имени Владимира Ильича…»
– Давно уже нет этого имени у пионерской организации, – сказала Маринка. – Проснулись…
– Сейчас на пионеров каждый, кому не лень, бочку катит, – вмешался Дим. – На кавээнах здоровые обалдуи обрядятся в шортики, салютуют и кривляются… Будто раньше в отрядах только и делали, что маршировали да песни про Ленина разучивали…
Корнеич ногой-протезом поправил тлеющие сучья, привалился спиной к сосне. Объяснил с досадой:
– Все уже позабыли, что были разные отряды. Одними классные руководительницы командовали, по минпросовским планам, другие за свою самостоятельность воевали. В хороший отряд ребята шли для того, чтобы товарищей найти, чтобы локоть к локтю… Помню, как я сам в пионеры вступал. Хором говорили заученные слова: «Я, такой-то, вступая в ряды пионерской организации имени Ленина…» Я об этом имени, что ли, думал тогда? О Павлушке Снегиреве думал, который слева от меня стоял, и о Васильке Рыбалкине, который справа… А был у нас Димка Соломин, так он чуть все торжество в школе не нарушил, когда его принимали. Должна была ему какая-то девчонка галстук повязывать, а он заупрямился. И к Сереге Каховскому: «Повяжи мне ты. Потому что ты мой друг…» Тот потом рассказывал, что у него аж горло перехватило…
Дим деликатно спросил:
– А он, Сергей Евгеньевич-то, пишет что-нибудь?
– Пишет. Обещал в севастопольском «Военторге» якоря и пуговицы для нашей новой формы раздобыть… Кстати, я помню, как в те дни Серега сцепился со своим дядюшкой. Тот все укорял его за стремление влезать во всякие свары. А Серега ему: «Вы же всегда на Ленина ссылаетесь. А разве Ленин учил в углу отсиживаться?» Дядюшка и усох… Для нас Ленин был тогда вот таким оружием. В случае чего можно было сказать классным дамам и завучам: «Говорите, что Ленин учил смелости и честности, а от нас чего требуете? Чтобы не пикали и не высовывались!..» Потому что никто ведь не знал тогда ни о концлагерях еще в девятнадцатом году, ни о том, как расстреливали казаков целыми станицами, как священников уничтожали… И был для всех Ленин не человеком, а вроде как символ для отдания почестей. Салютнули и пошли, а чувств никаких… Чувства были, когда наши барабанщики начинали играть наш сигнал – «марш-атаку»…
– А правда, что Ленина скоро в земле похоронят? – вдруг спросил Муреныш.
– Может, и похоронят, – вздохнул Корнеич. – Правильно было бы. А то чего хорошего? Умер человек, а на него чуть не семьдесят лет все глазеют, как в музее… Судить можно по-всякому, а лежать в земле каждый имеет право.
Маринка сказала полушепотом:
– Бабушка говорит, что душа не может успокоиться, пока человека не похоронили…
– А душа, она по правде есть? – полусонно спросил Костик.
– А как же! – храбро заявил Не Бойся Грома. И вдруг смутился, засопел.
Сержик Алданов опять вспомнил про скаутов:
– К ним теперь каждую неделю священник ходит, занятия ведет по религии…
– Ну и что такого?.. – тихо отозвался поэт Игорь Гоголев (который И-го-го).
– Да ничего, – сказал Алданов. – Только у них эти занятия обязательные. А разве можно такое в обязательном порядке?
Корнеич проговорил со вздохом:
– Если нам тоже священника звать, то какого? Пришлось бы и православного, и лютеранского, и раввина. И муллу, наверно… да, Муреныш?
Тот не удивился вопросу:
– Мамка и отец неверующие. А бабушка верит в Аллаха и меня учила…
– Вот видите, – сказал Корнеич.
Вечный рисовальщик Сенечка Раух, черкая в своем блокноте угольком, сказал тихонько, но уверенно:
– Главный Бог у всех религий все равно один…
Корнеич поднялся:
– Пусть он нам и поможет. Осень протерпеть да зиму продержаться. А весной заложить новый корабль… Солнце садится, ребята.
В конце сентября по чьему-то умному указу время передвинули еще на час назад по сравнению с привычным, и теперь закат начинался совсем рано. Помидорного цвета солнце среди стволов опускалось в озеро, раскатало по воде огненную дорожку.
– А ну-ка, народ, встали, – серьезно сказал Корнеич. И все быстро, привычно выстроились на лужайке в шеренгу. Корнеич попросил: – Ну, трубач, давай прощальный сигнал.
И Кинтель, ощутив холодок волнения, снова проиграл свои четыре ноты. А остальные стояли, подняв над правым плечом сжатый кулак, – это был давний салют независимых отрядов. Так «Тремолино» проводил в этот вечер солнце…
С той поры прошло еще три недели. Наступили осенние каникулы. В «Тремолино» увлеклись новым делом. Вернее, забытым старым. Решили нарисовать на нескольких листах фантастическую морскую карту и возродить давнюю игру с корабельными боями и путешествиями. Крошечные и очень аккуратные модельки парусников для такой игры хранились у Корнеича на отдельной полке. Десятка два. Эти кораблики в свое время смастерили мальчишки «Эспады», «Мушкетера» и «Синего краба».
Рисовать умели не все. Работали в основном Сенечка Раух, Салазкин, Дим и сам Корнеич. Остальные больше давали советы и были, как говорится, на подхвате. Из Кинтеля художник был как из слона балерина. Но зато Кинтель притащил в «Сундук Билли Бонса» альбом с копиями средневековых портуланов и старую карту полушарий, за что удостоился всяческого одобрения.
В тот вечер засиделись до девяти часов. Кинтель возвращался домой один: Салазкин отбывал дома карантин после ангины.
Падал редкий щекочущий снежок, уютно светились фонари, и Кинтель решил пару автобусных перегонов пройти пешком. Хорошо было и спокойно, спешить не надо, деду Кинтель позвонил, что немного задержится, не волнуйся, Толич. И шагал теперь, отдувая от лица снежинки…
Хорошее настроение испортила встреча с отцом. Тот вышел из дежурного гастронома на Садовой. При свете витрины отец и Кинтель узнали друг друга.
– Привет, Данилище…
– Здравствуй, – неохотно сказал Кинтель.
– Гуляешь?
«Ну, начинается пустословие!»
– А чего не гулять? Это у вас, у взрослых, праздник Великого Октября отменили, а у нас все равно каникулы.
– Вот и заглянул бы хоть разок в каникулы к отцу…
Кинтель пожал плечами:
– Ты же на работе целый день.
– Ладно отговариваться-то, – добродушно пожурил его Валерий Викторович. – К Лизавете-то, к мачехе бывшей, заходишь небось, а меня вовсе позабыл.
– Я не к ней, а к Регишке… А у вас в общежитии вахтерша такая… Один раз я сунулся, а она сразу: «Куда прешь!»
Отец и тетя Лиза разошлись еще в конце сентября. Возиться с разменом отец не захотел, оставил квартиру бывшей жене и ее дочке. Родное СМУ-11 дало ему комнату в общежитии. Обещали подыскать потом и постоянное жилье, хотя бы в коммуналке. Ценили специалиста.
Кинтель и отец пошли вдоль освещенных магазинов. Насчет вахтерши отец сказал:
– Ты, наверно, не объяснил ей, к кому идешь. Иначе бы сразу пустила, меня там уважают.
Кинтель промолчал. Потому что про вахтершу он соврал, в общежитие никогда не заглядывал.
Отец вдруг предложил:
– Слушай, а может, переедешь ко мне, а? Комната большая. А если вдвоем будем, глядишь, и однокомнатную выделят, предприятие скоро дом сдает.
Кинтель сказал прямо:
– Для того я тебе и нужен?
– Ну зачем ты так? Я же по-хорошему…
Уже иначе, тихо, Кинтель спросил:
– А для чего я тебе тогда?
– Ну… сын же ты. Почему не пожить с отцом? Да и мне одному как-то… паршиво порой.
– Зачем разводился-то?..
– «Зачем»… Так просто не скажешь, жизнь штука сложная.
– Сам ты себе сложности придумываешь… А от деда я не пойду. Чего ради? Я с ним с самого младенчества…
– Ну и что же, что с младенчества?.. Я с ним тоже с младенчества, а теперь он про меня и слышать не хочет.
– Почему же, – примирительно сказал Кинтель. – Он часто вспоминает. Переживал тогда, как вы там с тетей Лизой…
– Подумаешь, «переживал»! – внезапно ожесточился отец. – Проку-то от его сентиментальности… А тебя он, думаешь, почему пригрел? Потому что ты у него за домработницу!
– Не говори чего не надо-то, – пренебрежительно отозвался Кинтель.
– А ты от правды не отмахивайся. Поразмысли и сам поймешь… Ты вот меня поддел, будто я тебя ради квартиры зову. Ну и что? Стали бы вместе жить, а потом квартира тебе досталась бы… У меня, между прочим, предынфарктное состояние было…
– Ну ты даешь!
– А чего, трезво смотреть надо… Деду, между прочим, именно благодаря тебе новая-то квартира светит, поскольку дом на снос. А иначе бы: получите, Виктор Анатольевич, комнату, поскольку вы одиночка, и будьте довольны…
– Неправда! По закону должны дать равнозначную площадь!
– Ха! Где они законы-то наши?.. А когда отец с Варварой съедутся, будешь ты им нужен как драный лапоть на трюмо.
Эти слова ощутимо кольнули Кинтеля. Потому что отец словно угадал его недавнюю тревогу. Правда, тревога та была минутная, полушутливая, но все-таки… И Кинтель опять разозлился:
– А если ты снова женишься, я вам буду нужен как что?
– Я? Женюсь?! Трижды одну глупость не делают.
Кинтель помолчал и вдруг спросил:
– Папа… А как узнали, что мама погибла?
– Что?.. – Отец малость растерялся. – Ну, как… Списки же были. Всех пассажиров. Тех, кто спасся, и тех… кого потом нашли… И кого не нашли… Я вплотную-то этим не занимался, мы ведь не жили уже тогда вместе…
– А она… точно погибла?
Отец глянул быстро, но без сочувствия:
– А что ты думаешь? Может, просто следы замела? Зачем?
– А иди ты… знаешь куда! – взвинтился Кинтель.
– Ну, ты!.. С отцом все же разговариваешь!
– А я на разговор и не просился, ты сам… Ладно, я пошел, вон автобус…
– Постой! Ну давай поговорим по-человечески!
– Мне домой надо! – И Кинтель побежал к остановке.
…Слова отца, что деду Кинтель нужен был ради выгоды, хотелось наглухо забыть. Потому что чепуха это! Но все же сочился эдакий яд сомнения. Домой Кинтель пришел хмурый.
Дед и тетя Варя увязывали последние пачки.
– Ну, явился работничек! – ворчливо обрадовалась тетя Варя. – Хоть к концу дела. А то мы без тебя умаялись.
– А чего маяться, – сварливо сказал Кинтель. – Еще и квартира никакая не светит, а вы шмотки упаковываете.
Дед разъяснил добродушно:
– Во-первых, кое-что светит. Во-вторых, всегда лучше делать хлопотливую работу заранее…
– Вы ее, работу, всегда отыщете, – буркнул Кинтель.
– Что-то отрок не в духе, – нерешительно заметил дед. И сообщил: – Регина звонила тебе, спрашивала, пойдешь ли с ней завтра в кино. Вроде бы ты обещал…
– Только ей я еще и нужен, – проговорил Кинтель и почувствовал, как заскребло в горле.
Дед и тетя Варя переглянулись. Тетя Варя спросила:
– Ужинать будешь? Пойдем, я на кухне все тебе поставлю.
– Сам управлюсь, – тихо сказал Кинтель.
ГЕРОИ И НЕ ГЕРОИ
Ветер менялся постоянно. Это затрудняло маневрирование обеих эскадр в узкостях Лимонного архипелага. Угадать изменения ветра было немыслимо. Они зависели не от законов природы, а от волчка. Его крутил Муреныш. Нравилось Муренышу быть в должности ВВВ – Владыки Всех Ветров. Хотя, по правде, владычества здесь не было, все зависело от того, каким краем упадет волчок на карту Семи морей и Нетихого океана. Картонный кружок, надетый на спичку, был восьмигранный, на каждой грани – название компасного румба. Лег волчок на карту «норд-вестом», значит, и ветер с северо-запада. Упал «зюйдом» – значит, с горячего побережья Сэндландии дует южный, с запахом раскаленного песка «Дракон пустыни»…
Играли семеро: Кинтель, Салазкин, Паша Краузе, Дим, Андрюшка Локтев, Не Бойся Грома и Муреныш. Все, кроме Муреныша, были капитанами кораблей или даже соединений.
Корнеич сидел тут же, но не играл. В углу, у журнального столика с лампой сочинял для газеты статью о том, как паршиво организованы в Преображенске зимние каникулы: на главной площади у елки – разгул шпаны, ребятам опасно соваться; в кино – сплошной американский мордобой; половина катков не работает…
Ромку отправили в гости к тетушке – старшей сестре Корнеича, тете Юле, – это было очень кстати. А то двухлетний флибустьер имел обыкновение врываться в комнату и громить все эскадры, не разбирая, где флот адмирала Розенбаркера, а где корабли славного Диего де Нострапустры… Серого разбойника Бенедетто, который тоже не прочь был поиграть корабликами, заперли на кухне. Таня, правда, это не позволяла, но сейчас ее не было дома: готовилась в институте к сессии заочников. И морское сражение разгоралось без помех, наполняя комнату невидимым дымом канонады и боевым азартом…
За бригом «Арамис», которым командовал Салазкин, гнались Виталькин фрегат «Афродита» и трехдечный линейный корабль Паши Краузе «Три Адмирала». Вот-вот прижмут к отмели плоского острова Черная Поясница. Но тут Муреныш принес Салазкину удачу: волчок показал, что задул спасительный зюйд-ост. «Арамис» увалился до фордевинда и лихо ринулся в узкую протоку Кишка Крокодила, которая разрезала остров надвое. «Афродита» и «Три Адмирала» с величайшей досадой прекратили погоню: сунуться за «Арамисом» не позволяла малая глубина Кишки.
Ловкий маневр Салазкина позволил не только спасти бриг, но и вообще изменил ход сражения. У подветренного берега Черной Поясницы Кинтель на сорока-пушечной «Оранжевой Звезде» отбивался от могучего линейного «Гаргантюа», на котором воевал Дим. Виталик на «Красотке» спешил «Звезде» на помощь, но не успевал. «Арамис» вырвался из протоки и первым же залпом сделал в «Гаргантюа» дыру ниже ватерлинии. Тот осел на левый борт и два хода подряд не мог вести огонь…
Артиллерией всех кораблей распоряжался Андрюшка. Еще он командовал шхуной «Флейта», но ее к тому времени утопили, и Андрюшка весь отдался «огненной потехе»: азартно швырял на кожу гулкого барабана разноцветный кубик. Три грани кубика – белые, это значит промах. Одна желтая – попадание в надводную часть. Одна коричневая – повреждение рангоута и такелажа. А самая грозная – голубая: пробоина в подводной части. Вода хлещет, матросы кидаются к помпам, капитан орет: «Спокойно! Паникеров вышвырну за борт! Заткните дыру коком, он самый толстый!»
Извечное стремление Андрюшки к справедливости исключало всякую возможность, что он станет подыгрывать той или иной стороне.
…Пока «Гаргантюа» чинился, беспомощно обезветрив паруса, подоспела «Красотка», и под боевые вопли капитана Не Бойся Грома три судна пустили несчастный линкор в пучину Нетихого океана.
– Будем лежать на дне, трам-пам-пам, – печально мурлыкал Дим, – в синей прохладной мгле, трам-пам-пам… – Потом сказал: – Тебе повезло, Санечка, с зюйд-остом. А то оказался бы как бриг «Меркурий» перед «Селемие» и «Реал-беем».
– Ну и оказался бы! – храбро заявил Салазкин. – Может, и отбился бы!.. И Корнеич в мой герб пожаловал бы рисунок пистолета. Как Николай Первый офицерам «Меркурия».
Корнеич уже не сидел над статьей. Он стоял над расстеленной на полу картой и задумчиво тер щетинистый подбородок.
– Здесь не очень-то похоже на ситуацию с «Меркурием»…
– Потому что перед «Меркурием» было открытое море, свобода маневра, – тоном знатока заметил Не Бойся Грома.
– Не в этом даже дело… – Корнеич, скрипнув ногой, сел на корточки. – Тут надо учитывать все сопутствующие обстоятельства. Может, Николай и не стал бы так возвеличивать подвиг «Меркурия», если бы не другие события. Нужно было в тот момент особо подчеркнуть, что есть на Черном море русские герои. Чтобы затушевать другие случаи, негероические…
– «Рафаил», да? – тихо спросил Кинтель. Не хотелось ему об этом, неуютно стало, но удержаться не смог.
– Да… – вздохнул Корнеич. – И кстати, сдача «Рафаила» спасла, скорее всего, от неприятностей командиров брига «Орфей» и фрегата «Штандарт». Конечно, можно по-всякому судить их поведение, но как ни крути, а «Меркурий» они бросили. Умчались от турок благодаря хорошей скорости, а Казарского оставили на разгром… А потом, услышав канонаду, приспустили флаги: прощай, дорогой товарищ. Думали, что конец… Царь, видать, решил с ними не разбираться, чтобы не раздувать скандал, хватило и Стройникова…
Судя по всему, Корнеич хорошо знал этот случай. Да и другие были не новички в морской истории. Только Муреныш хлопал глазами.
Дим возразил:
– Все равно «Орфей» и «Штандарт» ничем не помогли бы «Меркурию». У турков же целый флот был, одних линейных кораблей шесть вымпелов. Никакой пользы от такого боя…
– Ну да, – хмыкнул Корнеич. – Их рассуждения были признаны здравыми. Товарища бросить – это все-таки не флаг спустить. Можно сохранить видимость приличия. А вот капитана Стройникова не простили. И офицеров его. Трусы, говорят…
Что-то похожее на рассуждения деда было в тоне Корнеича. И Кинтель спросил с надеждой:
– А может, и не трусы, а… совсем другое здесь?
Корнеич внимательно посмотрел на Кинтеля. Словно догадывался о чем-то! (А ведь он ни о чем не знал, и ребята не знали, даже Салазкин.)
– Думаю, что было другое, – понимающе сказал Корнеич. По-мальчишечьи потер подбородок о колено, повертел в пальцах бриг «Арамис», поставил на карту. – Думаю, там, на «Рафаиле», столкнулись две правды…
– Разве так бывает, что две? – придирчиво спросил Андрюшка.
– Порой случается… С одной стороны присяга, честь флага и достоинство военного моряка. А с другой – заповедь Божья: «Не убий…» Мне кажется, Стройников ужаснулся, когда понял, что своим приказом к бою он просто-напросто убьет две с лишним сотни человек. Причем это ради одной идеи, потому что на исход войны тот бой, конечно, никак не влиял… Стройников не за себя испугался… Ведь после плена матросы могли вернуться, служить дальше, потом прийти в свои деревни, жить, землю пахать, детей растить… А он все это должен был зачеркнуть одной командой… Конечно, высокая доблесть – взорвать себя, не сдаться врагу. Но мне кажется, Стройников счел, что есть еще более высокая доблесть. Пожертвовать своим именем, честью, шпагой, свободой, чтобы спасти других. По-моему, он знал, на что идет… И сколько матросских жен и детишек потом в сельских церквях за него свечки ставили…
«И я должен…» – толкнулось в Кинтеле. Но он проговорил со стыдливым упрямством:
– А чего же он, Стройников-то, в рапорте все на матросов свалил? Будто они не захотели воевать до смерти…
– Может, и правда кто-то не захотел, зароптал. Живые люди ведь… А суд не стал это подтверждать. Царю не понравилось бы, что на одном корабле столько трусов… А может, Стройников, когда все было позади, испугался уже за себя, решил таким образом оправдаться. У всякой человеческой твердости есть предел, и когда спадает напряжение, может насупить слабость… Бывает такое…
Он замолчал, и ребята тоже молчали. Со скрытой неловкостью. Потому что почуяли: говорил Корнеич не только про давние морские бои. Еще и про свою войну.
И может, чтобы сбить напряжение, Паша Краузе кашлянул и вспомнил:
– Вот у декабристов тоже… Я читал недавно. Вроде все были храбрые, с Наполеоном воевали, а после восстания… в общем, некоторые и на допросах раскалывались, и друг на друга…
Корнеич, словно встряхнувшись, заступился за декабристов:
– Но потом, в тюрьме и в ссылке, ни один не упрекал другого. Хватило совести и чести…
А Кинтелю было хорошо, тепло так от этого, что здесь его спасли наконец от вины за «Рафаил». Корнеич спас. Конечно, никто не снимет официальных обвинений с капитана Стройникова, но теперь за него можно заступиться. Потому что в самом деле – сколько свечек было поставлено в память о нем!..
А разговор о декабристах показался Кинтелю тоже не случайным. Так бывает часто: одно как по заказу увязывается с другим. Кинтель весело поделился с друзьями:
– А в нашем доме тоже декабрист жил. Лейтенант Вишневский, из гвардейского экипажа. Мне дед рассказывал недавно…
Этот разговор с дедом случился накануне Нового года.
В декабре квартирные дела начали разворачиваться на удивление бойко. Уже нашлись желающие обменять свое трехкомнатное жилье на квартиру тети Вари и на новую однокомнатную, которую получит дед. И он должен был ее вот-вот получить, да в последние дни какие-то проходимцы устроили «поганую волокиту» с ордером. Ссылались то на предстоящую приватизацию жилья, то на неясности с законами.
– Ждут, когда я им «на лапу» положу! – негодовал дед. – Черта с два! Не дождутся, паразиты!.. Превратили СССР в СНГ, а кавардак остался прежний, что в Союзе, что в Содружестве… Тоже мне «содружество»! Две республики выясняют отношения с помощью ракет и тяжелой артиллерии, а остальные ничего не могут сделать…
– Тебя бы туда, ты навел бы там порядок, – ворчала тетя Варя.
– Меня там только и не хватало… Внутренние войска и те из Карабаха драпают.
– Тогда сиди, не воюй.
Но дед остывал не сразу и минут пять еще ругал и политиков, превративших страну черт знает во что, и чиновников, из-за которых Новый год придется встречать на прежнем месте, среди собранных заранее узлов, коробок с имуществом и увязанных в пачки книг.
– Ну и встретим! – не унывала тетя Варя. – И не такое бывало! А уж в новом году с новыми силами – переезд!
Несмотря на дикие цены, она купила на рынке килограмм говядины и полкило свинины, сделала фарш, раскатала тесто и усадила Кинтеля и деда лепить пельмени.
Пельмени Кинтель любил. Но сейчас веселому тети Вариному напору подчинился насупленно. Порой ему казалось, что тетя Варя командует им чересчур энергично и придирчиво. Будто он сам не знает, какие дела ему делать! До недавнего времени был хозяином в доме пуще деда, а теперь… Нет-нет да и вспоминался ему ноябрьский разговор с отцом. И думал Кинтель: «Если здесь такое, то на новом месте еще хуже начнется… А может, это нарочно? Чтобы я сам запросился к отцу…»
Впрочем, на этот раз Кинтель дулся лишь минуту. В новогоднем вечере всегда есть какой-то намек на сказочность, и не хотелось разбивать это настроение.
Готовые пельмени тетя Варя вынесла на мороз, а из дровяника притащила елочку. Славную, разлапистую.
– Вот! Утром какой-то пьяница у гастронома продавал.
Дед заворчал. Он считал, что можно обойтись искусственной елкой, незачем губить природу.
– Так все равно уже срублена! Пускай будет у нас! – весело спорила тетя Варя. – Я с детства люблю, как елкой пахнет… Вы наряжайте, а я еще пробегусь по магазинам…
Кинтель тоже любил новогодний запах елки. Не сравнить с искусственной. И елочные игрушки любил. Среди них было несколько старинных: стеклянный полумесяц с потертой позолотой, картонный домик, в который раньше вставляли свечку, пять шаров с картинками, ватный лягушонок. Может быть, их вешали на рождественские елки еще Оля Чернышева и Никита Таиров.
Кинтель вдруг подумал, что этим игрушкам потом, на новой квартире, будет неуютно, непривычно. И портрету прапрабабушки. И старой карте. Она ведь всегда висела здесь.
– Жалко… – вздохнул Кинтель.
– Что? – насторожился дед. Он осторожно вешал на елку розовый шар.
– Вообще… Плохо, что ли, нам тут жилось? Не тесно вроде…
– Все познается в сравнении. Поживешь на новом месте, обратно не захочешь…
– Обратно и не получится, разломают… Ну зачем разрушать-то? Крепкий еще дом. Можно было бы в нем какие-нибудь мастерские сделать. Или библиотеку. Вон детская библиотека на Первомайской в какой конуре…
– Я говорил в исполкоме. Чего, говорю, спешите-то? Ломать – не строить. А они все то же: генеральный план, магистраль от реки до театра… Не убедил. Говорят, сохраняются только памятники истории и архитектуры.
– А у нас, что ли, не памятник? Двести лет!
– И про то говорил. Мало того, вспомнил даже, что здесь одно время декабрист Вишневский жил. Управлял горными заводами в сороковых годах…
– Правда?! – подскочил Кинтель.
– Были такие слухи…
– А ты мне никогда не рассказывал!
– Я думал, ты знаешь… Да и чего рассказывать-то? Документами это не подтверждается. Может быть, просто легенда. Хотя мама говорила, что карта наша именно от него осталась…
– Ну, Толич, ты даешь… – обиделся Кинтель. – Ни разу ни словечка!.. Ну-ка, рассказывай.
– Ох и вреден ты стал… Ладно. Федор Гаврилович Вишневский. Как все тогдашние офицеры флота Российского, окончил Морской корпус. Под командой капитана Лазарева ходил вокруг света на фрегате «Крейсер». На том самом, где был тогда и… – Дед вдруг замялся. Чертыхнулся шепотом, будто не может надеть петельку шара на колючую ветку.
– Где был тогда и Павел Степанович Нахимов, будущий адмирал, – ровным голосом закончил Кинтель. – Толич, ты по правде думаешь, будто при имени Нахимова меня колотит нервная дрожь? Хватит уж… Одно дело пароход, а другое адмирал…
– Так мне старому… – с досадливым удовольствием сказал дед. – Хорошо. Поехали дальше… К моменту восстания было лейтенанту Вишневскому двадцать четыре года. Как сей офицер оказался среди заговорщиков, непонятно, в Тайном обществе он не состоял. Однако же восставших поддержал, отказался присягать Николаю, роту свою, что была в составе матросского гвардейского экипажа, вывел на Сенатскую площадь… Но тем и кончилось. Постояли на площади, увидели, что дело провалилось, и пошли обратно… А ночью голубчика взяли, как и многих… Ну, в разряд главных бунтовщиков Вишневский не попал. На допросах он упорством и доблестью, видимо, не блистал, утверждал, что старался удерживать своих матросов от активных действий. Что еще говорил, не знаю. Читал только, что Николай отмечал где-то: мол, показания Вишневского довольно любопытны… До суда помотали его по разным крепостям, потом сослали солдатом на Кавказ, через несколько лет он выслужился в мичмана, побыл еще на флоте, ушел в отставку. После того и сделался чиновником в Управлении горных заводов… Но я не уверен, что здесь жил именно он. Возможно, что его брат или даже однофамилец…
– Что ж это он из моряков-то ушел?.. – недовольно заметил Кинтель.
– Может, по службе продвижения не давали или здоровье подвело… А возможно, и не был он сильно привязан к морской жизни… Другой декабрист-моряк, Завалишин, отзывался о нем в своих записках весьма нелестно. И вроде бы капитан Лазарев на «Крейсере» тоже не очень-то Вишневского любил…
– Подумаешь. Мало ли кого начальство не любит, – буркнул Кинтель. Ему стало обидно за Вишневского.
– И один из Бестужевых, Павел, по-моему, тоже писал о нем не слишком хорошо. Что Федор Гаврилович был человек неглупый и добрый, но все время роптал на свою судьбу, а это недостойно сильной натуры… В общем, как видишь, тоже не герой…
– Почему «тоже»? – напрягся Кинтель.
Дед покосился через плечо:
– Ну, я имел в виду капитан-лейтенанта Стройникова. О котором ты часто думаешь.
– С чего ты взял, что часто? Больно мне надо о нем думать!
Виктор Анатольевич сделал вид, что поверил:
– Ну и ладно… Попробуй-ка лампочки включить, горят ли…
Лампочки среди пахучих веток сказочно загорелись. Но досада у Кинтеля не прошла, он проворчал:
– А чего ты на них бочку-то катишь? И на Стройникова, и на Вишневского. Будто они самые последние гады…
– Я?! Что ты, мой милый… Я им в судьи не гожусь, потому как сам далеко не герой. Если бы ты знал, сколько у меня на совести совсем даже не храбрых поступков…
Кинтель поморщился. Такие фразы прорывались у Толича и раньше – в грустные минуты. Нечасто, правда… Пришлось теперь заступаться за деда перед дедом же:
– Это хоть у кого есть на совести. А есть и другое! Ты же сам рассказывал, как с парашютом прыгал, когда в санитарной авиации служил.
– Ну прыгал. Один раз… Куда не прыгнешь, если приспичит… Это было совсем не романтично и чертовски страшно. А главное – зря…
– Зря?! Ты не говорил… Больной все равно умер, да?
– Если бы так, это имело бы, по крайней мере, оттенок благородной трагедии. А тут сплошной водевиль. Парень украдкой перебрал казенного спирта и маялся с перепою, а друзья на базе решили, что кончается, дали радиограмму…
Кинтель сказал с хмурым ехидством:
– Бывает, что и с перепою помирают. Или тогда помогать не надо? Потому что тоже не герой?
– Экий ты сегодня… Может, у тебя двойка за полугодие? Или со своим Салазкиным поругался?
– Мы с ним никогда не ругаемся. А дневник я тебе вчера на подпись давал… Ты скажи лучше: если в человеке ничего героического, значит, он вроде как и неполноценный, да?
– Во-он ты о чем… Это вопрос многоплановый. Поставленный, так сказать, самой российской историей.
– Почему?
– Такая наша жизнь. Даже песня была в недавние времена: «Когда прикажет страна быть героем, у нас героем становится любой…» А не хочешь подвиги совершать, мы тебя… Вот и шло деление: или ты герой, или дезертир и враг народа… А те, кого еще не определили, кто он есть, жили смирненько и ждали, как оно повернется. Потому что вроде бы не люди, а так… единицы населения. С ними чего церемониться? Можно и за проволоку, и стрелять тысячами не жалко… Впрочем, и с героями не церемонились…
– Я же не про советские времена, а про те, что раньше!
– А корни-то куда уходят? В это самое раньше… Его величество Николай Павлович разве не так поступал?.. «Ах, ты не хочешь, сукин сын, быть героем? Так мы тебя им сделаем! Солдатскую шинель на плечи – и на Кавказ ша-агом марш… А то и в крепость. Для обретения правильности мыслей… А другие величества? Тот же Петр Великий…
– Ну, Петр-то, он все-таки по правде великий был! Флот построил. И вообще он думал не о себе, а о стране!
– А Николай Первый? Думаешь, он за себя переживал? Тоже за Великую Россию! За такую, как он ее себе мыслил. Чтобы всюду порядок, все ходили по струночке, а другие государства нас боялись и чтили… По сути дела, он сам был раб этой системы.
– Ты скажешь! Царь и раб…
– Раб своих убеждений… Кстати, по дурацкой нашей традиции его изображают этаким безмозглым и бессердечным фельдфебелем. А это был умный человек. Бюрократов и проходимцев-чиновников не терпел. Отличался честностью… Например, был такой случай во время Крымской войны. Изобретатели предложили вести разведку с воздушных шаров, а он запретил: неблагородно подглядывать за противником с воздуха…
– Ну и дурак, – буркнул Кинтель. – Англичане тогда вон сколько военных хитростей применяли…
– Дурак, говоришь? Это как посмотреть. Рыцарство и дурость смешивали во многие времена… Кстати, не чужд он был и вполне человеческим чувствам. Ребятишек любил. В Морском кадетском корпусе была резервная рота, мальчишки лет девяти, и его величество весьма жаловал их отеческим вниманием. Иногда звал в гости и прямо во дворце устраивал с ними ребячью возню. Императрица войдет в покои, а ее муженек с пацанами катается по ковру, и все орут от веселья…
– Подумаешь, Гитлер тоже, говорят, любил с детишками поиграть…
– Тьфу на тебя. Ты на все найдешь ответ.
– А если он, Николай, такой хороший был, зачем декабристов повесил?
– Я разве говорю, что он был хороший? Но он был тоже человек. А пятерых декабристов повесили по решению суда. С точки зрения тогдашних законов (да и нынешних, кстати) это было вполне обоснованно. Они с оружием в руках пытались свергнуть существующий строй… И на кой черт Каховскому на площади надо было убивать генерала Милорадовича, героя войны с Наполеоном… Кстати, нашим августовским «героям», что сидят в «Матросской тишине», тоже «вышка» грозит, хотя и царя у нас нет, и по сравнению с декабристами они мокрые суслики… Но это все хотя бы по суду. А сколько миллионов, считая с семнадцатого года, угробили без всяких судов и следствий! Николай – невинная овечка на фоне наших «социалистических завоеваний»…
Кинтель вновь представил желтый обрыв над морем, неторопливый стук пулеметов. И люди ложатся, как бумажные солдатики. И пропадают за кромкой… Никита Таиров падает – не врангелевский поручик, а мальчик в белой блузе с матросским воротником… А девочка Оля бежит к нему сквозь колючие сорняки, беззвучно кричит, а колючки рвут ее платье.
Странно, что Кинтель об этой девочке вовсе не думает как о своей будущей прабабушке. Наверно, потому, что никогда он ее не видел, она умерла задолго до рождения Кинтеля. Он даже представить ее взрослую не может отчетливо. А девочку Олю видит как живую. Как маленькую скрипачку… И тихая знакомая музыка – та, от которой всегда теплела душа, – пришла к Кинтелю.
Было уже полутемно. Елочные лампочки, послушные переключателю, ритмично мерцали, кидали на стены разноцветные отблески. Искрились остатки позолоты на раме портрета, на фарфоровом циферблате, на дверных ручках. Ручки эти – старинные, на широких пластинах, с фигурными шишечками, были закрашены той же краской, что и дверь. Только середина их, вытертая ладонями, всегда блестела чистой медью. Однажды Кинтель предложил деду отвинтить ручки, отскрести от краски, пусть сияют, как медяшки на корабле! Но дед недовольно сказал, что их закрасила его мама много лет назад и потом отвинчивать не позволяла. Потому что есть вроде бы такая примета: беспокоить и свинчивать ручки с дверей – это к пожару и другим несчастьям. Кинтель хотел было возразить, что прабабушки давно нет, а приметы – это пережиток, но не решился…
В первых числах января дед получил ордер, и дело с обменом опять закрутилось. Переезд ожидался в середине месяца. Вот уедут Рафаловы, и останется в доме лишь одна семья – Зыряновых. Но и она сидит на чемоданах. К февралю дом опустеет совсем. Разве что тень бывшего морского лейтенанта Вишневского будет ночами бродить по холодным комнатам.
…Услышав о декабристе, Корнеич насторожился:
– Постой, постой. В музее, по-моему, ничего об этом не известно… Если такой факт подтвердится, это меняет дело. Можно было бы дом-то и отстоять.
– Да декабрист-то незнаменитый, – виновато сказал Кинтель. – Говорят, не герой вовсе.
– Герой – не герой! Все равно история…
Паша Краузе – человек спокойный, но решительный – предложил:
– А давайте, как освободится дом, въедем явочным порядком. И будет у «Тремолино» двухэтажная резиденция.
Корнеич думал о чем-то, терзал пальцами подбородок. Отозвался рассеянно:
– Ага, въедем, а потом придут натренированные мальчики в сером, с дубинками. Они такие операции любят: и риска никакого, и плюс в отчете… Кстати! – Он глянул на Кинтеля и Салазкина. – К ним в управление подался наш общий знакомый! Следователь Глебов! Помните?
– И очки не помешали? – весело удивился Салазкин.
– В контору же, в штаб. Видимо, для укрепления юридической платформы. Я с ними разбирался недавно по поручению редакции. Они шумно навестили один кооператив, якобы для проверки, не имея на то оснований…
– А Диана ушла в спецшколу для слаборазвитых, – сообщил Кинтель. – Сказала на прощанье: «Что здесь, что там – одинаковые дебилы, но там хоть зарплата повыше…»
– Скатертью дорога, – отозвался Корнеич. – А что ты еще знаешь о Вишневском?
Кинтель пересказал, что слышал от деда.
– В одной комнате можно было бы морской музей сделать… – задумчиво проговорил Паша Краузе. – А внизу мастерские…
– Тише, – с шутливым испугом, но наполовину серьезно попросил Корнеич. – У меня мелькнул проблеск идеи. И надежды. Но пока ни слова об этом, чтобы не сглазить…
Ни слова так ни слова. И заговорили о прежнем. Кинтель сказал неловко:
– Если бы у Стройникова тоже был хоть проблеск надежды, он бы ни за что не сдался.
– В том-то и дело! – резко откликнулся Корнеич. – А у него не было никакого просвета… Кстати, ни в одной цивилизованной стране сдачу в плен при безвыходных обстоятельствах не считают преступлением. Потому что жизнь человеческая – не мелочь для размена… А у нас даже в мирное время… В восемьдесят первом году в шведских шхерах села на мель советская подлодка «У-137». Видать, вела разведку и напоролась. А недавно в «Известиях» один офицер признался, что у них был приказ: закупорить люк и взорвать лодку вместе с людьми, если шведы попытаются взять ее. А там пятьдесят шесть человек… Хорошо, что у шведов хватило ума не соваться.
– Решили, что себе дороже, – с зевком сказал Паша Краузе. – На лодке-то, говорят, были атомные торпеды.
Любивший точность Андрюшка напомнил:
– Но ведь потом в «Известиях» была и другая статья, там написано, что все это неправильно…
– А потом была и третья. И четвертая, – вздохнул Корнеич. – Одни настаивают, другие опровергают… А не бывает дыма без огня…
Вмешался Дим, произнес скучным голосом:
– Вот как начнут Черноморский флот делить, хватит тут и дыма, и огня… Одни под жёлто-блакитные флаги захотят, другие под андреевские…
– Каховский звонил из Севастополя, – отозвался Корнеич. – Говорит, город митингует. Нельзя, мол, флот Украине отдавать, и город тоже…
– Ну правда нельзя! – подскочил Не Бойся Грома. – Это же все русское! Нахимовское… Жалко же…
– Жалко, что и говорить, – согласился Корнеич. – Особенно город. Даже в голове не укладывается. Севастополь – и вдруг будет заграница… А флот… Если всерьез разбираться, он, такой громадный, ни Украине, ни России не нужен. С кем воевать-то сейчас? Конечно, военные найдут кучу причин, чтобы такую армаду содержать, да на это же столько миллиардов надо… Все равно кончится распродажей или резкой на металл… Лишь бы в самом деле крови перед этим не было. Найдутся ведь умники и здесь, тоже закричат: ничего не отдадим, костьми ляжем, не сдадимся!
Все помолчали, словно какую-то виновность почуяли.
Паша Краузе так же спокойно, как обо всем прочем, только потише, спросил:
– Корнеич, а в Афгане сдавались?
– Всякое бывало… Стволы направят в пузо – куда денешься…
– Но ты же… – сказал Паша совсем негромко, – не сдался тогда…
Корнеич не нахмурился, не показал, что говорить об этом не стоит. Но легкая неохота скользнула в голосе:
– Да я уж объяснял ведь: надо было дать ребятам отойти подальше. К тому же была какая-то надежда… – Корнеич посмотрел на Кинтеля. – Как у брига «Меркурий». Хоть маленькая, но была. Вот она и оправдалась. В обоих случаях… Надежда – вообще великое дело. Иногда небывалые чудеса сбываются…
Кинтелю показалось, что Корнеич говорит не о себе. И не о «Меркурии». А о нем, о Кинтеле. Словно прочитал его тайную и давнюю надежду на чудо. Но откуда Корнеич мог знать? Тайну эту ведал лишь Салазкин, а он человек железный.
Кстати, именно по совету Салазкина Кинтель написал в конце декабря открытку. И опустил ее в ящик номер 12 в крайнем подъезде дома на улице П. Морозова. На открытке было: «Мама, поздравляю тебя с Новым годом». Подпись поставить Кинтель не посмел, а слова написал печатными буквами. И после этого за все каникулы не решался пойти в сквер с поваленным памятником, поглядеть на знакомое окно.
…Кстати, похищать и прятать памятник не пришлось. В те же сентябрьские дни, когда Кинтель и Салазкин вновь пришли на разведку, статуи в сорняках не оказалось. Наверно, увезли на переплавку.
ПУСТОЙ ДОМ
Тетя Варя всю жизнь работала медсестрой. Сперва обыкновенной, потом старшей, потом сестрой-хозяйкой. Она была невысокая, сухонькая, быстрая, с решительным нравом. Казалось, ее с рождения запрограммировали на преодоление жизненных трудностей. С дедом они были знакомы со школьных или даже с дошкольных времен (как Алка Баранова и Кинтель). Была ли между ними когда-то жаркая любовь, Кинтель не знал. Но то, что два дружных пожилых человека решились сойтись и жить вместе, чтобы не коротать век вдовой и бобылем, Кинтелю было понятно. Тем более, что тетя Варя ему нравилась. Он всегда покорялся ее веселому напору. И даже безропотно сносил от нее всякие процедуры и уколы, когда схватил однажды жестокую ангину.
И все-таки, все-таки… Что-то последнее время было не так. Засел в глубине души колючий шарик досады. И порой хотелось огрызнуться или хлопнуть дверью. Может, правда – переходный возраст? Или догадка, что в общем-то он, Кинтель, нужен тете Варе далеко не в первую очередь (или даже совсем не нужен). А прежде всего нужен ей Толич.
Впрочем, Кинтель сдерживался…
Переехали в конце января. Новая квартира была в пяти кварталах от прежней, в девятиэтажном корпусе на улице Титова. На шестом этаже. Трехкомнатная, с телефоном. Одну комнату Кинтелю выделили в полное распоряжение. И оказалась она гораздо больше той, в которой он обитал раньше. Живи да радуйся.
Но Кинтель не радовался. Раздражал его невысокий потолок, узкие (ненастоящие какие-то) подоконники, постоянный шум улицы за непривычно широким окном. Все чужое…
Чтобы не порвать с прошлым окончательно, Кинтель постарался собрать в своей комнате побольше привычных вещей. Хмуро, не спрашивая деда, повесил над своим столом старую карту полушарий, а над постелью – портрет прапрабабушки. Толич не спорил, вздыхал только.
Первые ночи на новом месте Кинтель почти не спал. Мешал рокот моторов, мешали чьи-то шаги вверху, над потолком. Казалось, что и снизу, и даже из-за стен слышны чужие голоса…
Кинтель жаловался Салазкину:
– Понимаешь, как-то жутко даже делается, когда представишь: над тобой люди, а над ними еще, а над теми снова… И внизу тоже. И по сторонам… Какое-то многоклеточное пространство, у меня голова пухнет.
Салазкину, который с рождения жил в многоэтажных громадах, такие чувства не были знакомы. Но он сочувственно кивал.
Впрочем, с Салазкиным Кинтель теперь виделся реже. После зимних каникул семиклассники стали учиться в первую смену, а пятиклассники остались во вторую. Так что можно было встречаться по вечерам, на короткое время, или в выходные. Чаще всего встречались у Корнеича. «Тремолино» собирался там в среду и в воскресенье. Чаще было неудобно: у Корнеича и Тани и без этого дел невпроворот: и работа, и семейные заботы, и учеба. Только Муреныш там дневал и ночевал…
В среду сбегались вечером, на часок, а в выходной бывало, что и на полдня: строили планы на лето, мечтали о новой шхуне, раскидывали на полу громадную карту для игры… Но были и учебные занятия: по устройству судна, по морским узлам, по сигналам, по маневрированию парусников. И тут Корнеич спрашивал строго. Даже с Муреныша и маленького Костика…
В новой квартире хватало забот: каждый день надо было что-то прибивать, переставлять, налаживать. Больше времени стало уходить и на другие дела. С продуктами в январе сделалось совсем паршиво, даже на хлеб ввели талоны. И конечно, всюду очереди. Торчишь перед булочной на морозе среди скандальных теток три часа ради двух батонов… Да что там хлеб, если даже соль по талонам! И цены совершенно взбесились. Называлось «либерализация», то есть «освобождение»… На фиг она нужна такая свобода! Правда, зарплату людям тоже повысили. Но толку-то… Дед однажды принес аж целую тыщу. Двумя бумажками по пятьсот рублей. Похвастался ими перед Кинтелем. Но тут же добавил, что раньше на такие деньги семья могла тянуть полгода, а теперь куда их? Только… Да и то не годятся, потому что бумага жесткая…
В очередях говорили, что правительство совсем спятило, и на кой черт надо было в августе строить баррикады и защищать демократов. Кое-кто, однако, за правительство заступался (больше мужики): мол, президент и министры сами хлеб не сеют, и, если семьдесят с лишним лет коммунисты доводили матушку Россию до ручки, чего теперь искать виноватых. Ладно, что хоть нет пока стрельбы, как в Карабахе и Цхинвали…
А в школе уроков стали задавать столько, что, если все готовить, суток не хватит. Особенно старалась учительница, пришедшая вместо Дианы. Умная тетка, рассказывала интересно и не орала зря, но замучила сочинениями. Кончилось тем, что семиклассники создали стачечный комитет во главе с Артемом Решетило. Комитет потребовал: сократить домашние задания так, чтобы тратилось на них не больше часа. Потому что домой приходишь после двух, а в три уже сумерки, голова гудит, и тянет в сон от такой жизни. А кое у кого дома еще и батареи не работают. Попробуй попиши, когда руки стынут… Педсовет, конечно, в крик:
– Если хотите бастовать, а не учиться, скатертью дорога! Нынче никого насильно не держат!
Семиклассники в ответ:
– А вы не бастовали, да? Сами затянули программу, а теперь на нашем горбу…
Учителя сдали позиции. А домашние сочинения с перепугу отменили совсем…
Как ни занят был каждый день Кинтель, а все же выпадали и свободные часы. И куда деваться? Салазкин в школе, Корнеичу надоедать неловко. И от такой неприкаянности да еще от печали по старому гнезду начал Кинтель захаживать на родную улицу Достоевского. Там пацаны залили на пустыре каток и соорудили изрядных размеров ледяную горку. Побалдеешь в шумной компании, разомнешься – и легче на сердце.
А иногда пробирались в старый дом. Он стоял теперь пустой и темный. Последнее семейство, с Витькой Зыряновым, выехало почти сразу за Рафаловыми. Окна были заколочены, но никто дом, конечно, не охранял: откуда у ЖКО ставка для сторожа?
Во всех квартирах в свое время были поставлены батареи, но печки сохранились. В кухне на первом этаже ребята облюбовали маленькую плиту. У нее-то и собиралась иногда «достоевская» компания. Разожгут дрова, сядут у раскрытой дверцы на чурбаках, грызут семечки, травят анекдоты. Хорошо у огонька, хотя порой и грустно почему-то…
Джула сказал однажды:
– Ты, Кинтель, как уехал, дак чаще прежнего бывать с нами стал.
– Ностальгия…
– Чего? – удивился необразованный Эдька Дых.
– Тоска по родине, дубина, – сказал ему Джула. – Это по-научному, тебе не понять.
– Где уж мне, с «дворянами» не дружим.
– А они там не люди, что ли? – огрызнулся Кинтель.
– Да вроде люди, – сказал Джула. – Команду склепали, пришли к нам на каток: айда, ребята, «шайбу-шайбу». Ну ничего, поиграли. Один раз только драчка вышла, один у них там шибко нахальный…
– А все равно мы их на нашу горку не пускаем, – гордо заявил Гошка Полухин, именуемый Рюпой.
Джула возразил:
– Это смотря кого. Санька Денисов, дружок твой, Кинтель, тут часто крутится по утрам. И еще несколько. Ничего, нормальные парни…
– Вы только сюда Саньку не зовите, – попросил Кинтель. – Незачем ему…
– Это само собой, – согласился Джула. И достал мятую полупустую пачку «Космоса».
Компания обрадованно охнула. Закурили все, кроме Рюпы, которому Джула показал дулю: «Подрасти сперва». Посмолил сигарету и Кинтель. Не потому, что хотелось, а так, под настроение. Старые приятели вокруг…
Во рту потом было противно, по дороге домой Кинтель плевался и даже снег пожевал, дома старался дышать осторожно, в сторонку. Но дед унюхал:
– Табачком баловаться изволили? А как же наш обет?
– Это ж когда было!.. А ты тоже нарушал! Обещал больше одной рюмки вечером не принимать, а сам…
– Ты не выкручивайся.
Но Кинтель выкручивался:
– Я и не затягивался, просто так в рот сунул разок, за компанию…
Тетя Варя сказала почти всерьез:
– Еще раз такое дело, и сниму я с тебя штаны. Такую «компанию» пропишу… У меня медицинский жгут есть, первое средство от любви к никотину.
Кинтель вспомнил Салазкина, хмыкнул, поежился. Перевел все в грустную шутку (в шутку ли?):
– Вот уйду я от вас, будете знать…
– Куда это ты уйдешь? – насмешливо спросил дед.
– Найду куда… Обратно в старый дом!
– Валяй… Только его вот-вот сроют.
– А вот это уж фиг!
У Кинтеля прорвалась торжествующая нотка. Потому что он знал: Корнеич не сидит сложа руки. Насчет дома развернул он бурную кампанию. Уже была договоренность с кооперативом «Орбита» (где работал теперь бывший трудовик Геночка), что дом общими силами постараются отстоять. И тогда одна половина помещения – «Орбите», а другая – «Тремолино». И «Орбита» обещала даже сделаться спонсором отряда. Потому что для кооператива выгодно помогать детскими коллективам, меньше берут налогов. Да и вообще ребята в «Орбите» были неплохие, готовые помочь не только ради выгоды, но и от души. Двоих там Корнеич знал еще с афганских времен.
Чтобы легче было отстоять дом от разрушительных архитекторов, Корнеич в музее раскапывал сведения о декабристе Вишневском. Никаких документов, что Вишневский жил на улице Достоевского (бывшей Купеческой), не нашлось. Но имелись сведения, что он все-таки бывал в Преображенске. И Корнеич на свой страх и риск пустил по городу слух, что чиновники готовятся снести дом, связанный с историей декабристов. Заволновалось Общество охраны памятников…
А людям из отряда «Тремолино» уже снились комнаты морского штаба, украшенные картами и атрибутами корабельной жизни. И музей парусного флота с портретами моряков-декабристов. И мастерская, где растет на стапеле корпус новой шхуны…
Может, недалеко уже время, когда оживет старый дом, вспыхнет в его окнах свет.
Кинтель зажмурился и будто наяву увидел, как в доме одно за другим загораются высокие окна. И тут вспомнил другое окно – то, на пятом этаже. На улице П. Морозова.
Кинтель ходил туда после зимних каникул несколько раз, но каждый вечер окно было темным. И такая же темная тревога приходила к Кинтелю. Подумалось даже: «А вдруг она после той открытки уехала насовсем? Потому что не хочет ничего знать про меня…»
Не выдержал Кинтель, поделился тревогой с Салазкиным.
Тот смутился почему-то, но постарался успокоить Кинтеля:
– Может, уехала в отпуск. Или работает сверхурочно, машинистки теперь нарасхват. Папе надо было статью перепечатывать, и он еле договорился…
Возможно, все было именно так. Но тоскливое беспокойство порой накатывало на Кинтеля. Накатило и сейчас. К счастью, затрезвонил в прихожей телефон. Тетя Варя сказала:
– Ваша табачная светлость, возьмите трубку.
Кинтель взял. И обрадовался:
– Салазкин! Ты откуда звонишь?
– От подъезда… Даня, можно я у тебя переночую? Мама с папой на свадьбу к знакомым уходят, а мне… ну не хочется одному. И мама волнуется: вдруг, го-ворит, ночью грабители загребут тебя… Меня то есть…
– Чего ты долго объясняешь! Беги скорее!
Салазкину и раньше случалось ночевать у Кинтеля. Так, для интереса. Хорошо лежать в полумраке и шептаться до середины ночи обо всем на свете.
Тетя Варя догадалась, о чем разговор.
– Вот и хорошо. А то мы с Толичем в кино собрались. – Она деда тоже называла Толичем. – На восемь часов. «Унесенные ветром», три серии. Придем к полуночи…
– Гуляйте, ваше дело молодое, – буркнул Кинтель. Увернулся от подзатыльника.
Тетя Варя спросила:
– Надеюсь, ты не с Саней приобщался к никотиновому зелью?
– Еще чего! И не вздумайте ему сказать!
– Тогда иди вычисти зубы, а то и говорить не надо…
Кинтель добросовестно вычистил.
Салазкин появился на пороге, когда дед и тетя Варя уже ушли.
– Ты не думай, что я боюсь один дома оставаться. Просто…
Кинтель втащил его в комнату:
– Ух и промороженный! Пошли чай пить. Полбанки сахарной смородины в полном нашем распоряжении.
Усидели эти полбанки. Порассуждали про отрядные дела, посмотрели с середины вторую серию «Узника замка Иф», потом – программу новостей. Новости все были уныло-скверные.
Затем на экране заплясали длинноногие девицы в чулках с подвязками и без юбок. Кинтель плюнул. В одиночку он, может, и поглядел бы с минуту на такое дело, но при Салазкине стеснялся. Переключил. По второй программе шел концерт иного рода. Певец в длиннополой шинели надрывно вопрошал:
Поручик Голицын! А может, вернуться?!
Зачем нам, поручик, чужая земля?!
Хорошая песня, но сколько можно одно и то же! Тем более, что было ясно: возвращаться нельзя. Иначе – обрыв над морем и хриплые от натуги пулеметы…
По Ленинградскому каналу мелькнул обрывок мультика, потом диктор сказал, чтобы смотрели передачу «Этот непростой девяносто первый» – по итогам прошлого года. И началось опять то, что видели тысячу раз: бывший вице-президент Янаев, страдающий насморком и дрожанием рук; танки перед Белым домом, депутаты, президенты, генералы… Пустые постаменты памятников. Потом – кричащие женщины-осетинки, бой на проспекте Руставели в Тбилиси, пальба в Карабахе… И мальчик лет восьми с черными пробоинами на белой рубашонке – упал ничком и в предсмертном усилии пытается вцепиться в асфальт…
– Ну что за гады… – со стоном сказал Кинтель. – Ну совсем уж сволочи психопатные… – Он опять включил Малинина, убавил звук.
Салазкин сказал:
– Меня мама в магазинные очереди не пускает. Говорит, на той неделе в гастрономе на Кировской мальчика задавили насмерть. Толпа к прилавку разом придвинулась, а там поручень такой из трубы. Его как раз шеей на эту трубу…
– Слышал я… Ну и правильно, что не пускает тебя…
– А кто должен? Они с отцом оба на работе…
Кинтель выключил телевизор.
– Давай ляжем. И поразговариваем…
– Да! О чем-нибудь хорошем, – согласился Салазкин. Но как-то неуверенно.
Разделись, залезли под одеяла. Кинтель – на свой старый диван, Салазкин – на раскладушку. Кинтель оставил включенной настольную лампу. Помолчали. Ничего хорошего для разговора в голову не шло.
– Дед хочет свою коллекцию значков в комиссионку отнести, – вздохнул Кинтель. – Потому что зарплату сколько ни прибавляют, а цены еще страшнее скачут, как бешеные… Я говорю: не надо, протянем как-нибудь…
Салазкин неуверенно спросил:
– А отец… он не помогает?
– Подбрасывает иногда. Но ему еще и тете Лизе с Регишкой платить приходится.
– Алименты?
– Ну вроде. Только не по суду, а он сам… А мне сказал: «Я ведь тебя не прогонял. Жили бы вместе, и никаких вопросов…»
В этот миг проснулся телефон. Кинтель побежал в прихожую. Крикнул оттуда:
– Салазкин, это тебя!
Звонила мама.
– Ну да! Конечно! – досадливо отвечал Салазкин в трубку и переступал босыми ногами. – Не волнуйся ты, пожалуйста, все у нас в порядке. Мы уже легли… Ну и что же, что рано! Поболтаем, потом спать… Ты больше не звони, а то мы уснем, а тут опять трезвон… Спокойной ночи.
Он вернулся, сел на раскладушку.
– Что поделаешь? Она всегда такая беспокойная из-за меня…
– Радуйся, глупый. Ты же счастливый…
Это у Кинтеля впервые вырвалось такое. Неожиданно.
Салазкин быстро глянул исподлобья. Зацарапал на колене родинку. Кинтель проговорил уже иначе, грубовато:
– Ложись давай. А то простынешь, от окошка тянет…
Салазкин не лег.
– Даня… я хочу тебе признаться… – Он вдруг встал, щуплый, виноватый, затеребил подол майки.
Кинтель дернулся от испуга за него:
– Что случилось?
– Даня… Дело в том, что я знаю, почему в окне было темно. Там…
Кинтель приподнялся. Салазкин говорил почти шепотом:
– Я тебе не рассказывал, чтобы не расстраивать. Но я узнал там, у соседской девочки. Она сказала, что Надежду Яковлевну увезли в больницу. Прямо в Новый год…
– Что с ней?!
– Этого я не знаю… Но ты не бойся, теперь она уже вернулась! Честное слово!
– Откуда ты знаешь? – Кинтель уже сидел. А сердце стукало неровно, нехорошо так.
– Я узнавал. И окно вчера светилось, я сам видел…
– Правда?
– Да!.. Ты не сердись, Даня… Ты все равно ничем бы не помог, только измотался бы весь…
Что было делать? Выругать Салазкина? Но он и так вон какой несчастный… Да и в этом ли главное?
– Но оно правда светится?
Салазкин растопырил локти и приложил к груди кулачки:
– Я же сказал!
Кинтель помолчал, зябко потирая плечи. И жалобно попросил:
– Санки, давай съездим туда, а? Сейчас… Если она правда дома, то, наверно, еще не легла и в окошке опять свет…
«Я понимаю, Санки, что это глупость. Бредятина просто. Но я не успокоюсь, пока не увижу сам. Ты, наверно, думаешь: вот дурак, переться по морозу…»
– Или ты лежи, а я сгоняю один. Я быстро…
– Ты определенно спятил. «Один»! – И Салазкин прыгнул к табурету с одеждой…
Окно светилось. Над мохнатой от инея изгородью, над заснеженными ветками горел в искрящемся от мороза воздухе желтый прямоугольник складчатых, просвеченных лампой штор. И даже неторопливая тень прошла по ним один раз.
Стояли недолго. Колючий холод хватал за щеки, за нос.
– Все в порядке, – выдохнул Кинтель и ощутил, как из губ рванулся теплый парок. – Пошли, Санки…
Они зашагали назад по скрипучей от плотного снега аллее. Опустевший постамент памятника весь был в изморози, она серебрилась под фонарем. И какой-то гад вывел на ней пальцем кривую свастику. Кинтель стер ее двумя яростными ударами варежки. Вдали звякнул трамвай.
– Бежим, Санки…
Когда вернулись, то еще через дверь услышали, как надрывается телефон.
– Это наверняка мама! Даня, скажем, что крепко спали!
Но это была не мама Салазкина. Незнакомый мужчина озабоченно спросил:
– Извините, это квартира Виктора Анатольевича Рафалова?
– Да… Но его сейчас нет.
– Простите, а вы, наверно, Даня?
– Да… – От непонятного страха стало пусто в груди.
– Видите ли какое дело. Вам звонит сосед… бывшей жены вашего папы. Ее неожиданно увезли в больницу. А девочка вся в слезах. И очень просится к вам… Вы меня слышите?
– Да… – потерянно сказал Кинтель. И встряхнулся. – Да, я слышу! Мы едем сейчас!
– Видите ли, она могла бы побыть и у нас. Но очень плачет: только к Дане, и ничего другого…
– Я понял! Я еду!
– Простите… именно вы?
– Но дедушки же нету! Он придет совсем ночью!
– Не надо ехать. У меня рядом гараж, и машина, к счастью, на ходу. Я привезу девочку сам.
ПИКЕТ
Отец и тетя Лиза не развелись официально: это дело требовало времени и немалых денег. И теперь оказалось, что у отца все права на прежнюю квартиру. Он туда и въехал опять. Виктору Анатольевичу сказал по телефону:
– А что такого? У меня тут еще и вещи кое-какие, и вообще… Чего пропадать жилплощади? Поживу, пока Лизавета в больнице. А дальше видно будет…
– Ну-ну… – только и проговорил дед.
А Валерий Викторович вдруг спросил нерешительно:
– А Регишка-то… может, со мной поживет? Под родной крышей все-таки. И с отцом…
– Чего это ты вспомнил про отцовство?
– А я, между прочим, и не забывал. У меня удочерение оформлено было, документ есть…
Дед помолчал и ответил миролюбиво:
– Валерик, ну что ей твой документ? И посуди сам: ты целый день на работе, а за ней присмотр нужен. Из школы встретить, покормить, уроки проверить. Кроха ведь еще… Да к тому же не документом надо махать, а спросить у девочки: как она сама-то хочет?
Регишка хотела быть только с Даней. Утром, когда он уходил, ее обезьянья мордашка горько морщилась, а когда Кинтель возвращался, она сияла.
Два дня Регишка в школу не ходила: не отпустишь ведь одну через весь город, а провожать-встречать некому. В понедельник пошел Кинтель к завучу Зинаиде Тихоновне и выложил ей все как есть. Зинаида Тихоновна по-женски поохала, не стала бюрократничать и определила Регину Рафалову в первый «А». Временно, до возвращения мамы из больницы.
Скорое возвращение, однако, не светило. Дед в первый же день навел в больнице справки и сказал тихо, чтобы девочка не слышала:
– С кровью у нее скверное дело. Кто бы мог подумать? Казалось, такая здоровая женщина…
Теперь Кинтель и Регишка отправлялись на занятия вдвоем, а потом она терпеливо ждала Даню, потому что у него бывало по шесть, а то и по семь уроков.
Дома Регишка тоже старалась быть рядом. Не то чтобы надоедливо липла, но все время как-то оказывалась поблизости. И следила преданным вопросительным взглядом: ты про меня не забыл? По правде говоря, сперва это даже раздражало.
Порой доходило до смешного. Вернее, и смех и грех. Пришел черед Регишке мыться в ванне. Она заявила, что искупается самостоятельно. Долго плескалась и вдруг запищала. Тетя Варя – к ней. У Регишки вся голова в мыле, ладони прижаты к глазам. И вопит жалобно:
– Не ходите, я вас стесняюсь! Пусть Даня придет!
– Регина, он же мальчик! Нехорошо же…
– Ну и что? Он зато брат, а вы неродная… Ой-ей-ей, скорее!..
Тетя Варя растерянно глянула на выскочившего в прихожую Кинтеля. Он чертыхнулся, отодвинул ее, шагнул. Набрал в таз теплой воды, вылил бестолковой девчонке на голову. Открыл душ, рывком поднял за локти это несчастное тощее существо, повертел под струями. Потом выдернул из ванны, замотал в простыню, унес в постель.
Регишка спать укладывалась в комнате Кинтеля, на раскладушке, за раздвижной ширмой, которая нашлась в тети Варином имуществе. Ночевать в большой комнате она отказывалась. Боялась одна или просто хотела, чтобы ночью брат был поближе…
Кинтель сунул Регишку за ширму.
– Одевайся, килька моченая… – И бросил ей дедов мохнатый халат.
Путаясь в этом халате, она через несколько минут выбралась из-за ширмы, села рядом. Он вздохнул, прижал ее. «Сестренка…» Регишка потерлась о его рубашку непросохшей всклокоченной головой, спросила еле слышно:
– А если мама не поправится… ты меня не бросишь?
Он испугался по-настоящему:
– Ты зачем так про маму-то?!
Регишка тоскливо молчала. Без слез. Ждала.
– Я тебя никогда не брошу, не выдумывай, глупая, – сурово сказал Кинтель. – А мама поправится. Обязательно.
Однако он знал, что это не обязательно. Даже наоборот…
Прошло уже две недели, а никакого улучшения не было. И лицо деда, когда говорили про тетю Лизу, делалось насупленным.
Кинтель наконец спросил в упор: есть ли какая-то надежда?
Дед посмотрел мимо него, сжал губы и медленно покачал головой.
– Совсем никакой? – выдавил Кинтель.
– Если не случится чуда… Что ты хочешь, лейкемия, быстротекущий процесс. Можно задержать на месяц-полтора, а потом… Наша медицина – это же каменный век. Да и спохватились поздно…
Кинтель помолчал, привыкая к безнадежности. Потом спросил:
– Толич, а помнишь, ты осенью про мальчика говорил? С такой же болезнью. Валюту искали, чтобы отправить за границу. Что с ним?
Дед рассеянно поморщился:
– Какой именно мальчик? Не помню. Таких мальчиков знаешь сколько…
Чтобы Регишка не скучала, брал ее Кинтель и к Корнеичу. Она там никому не мешала. А с Муренышем они стали приятелями: сидят в уголке со «Сказками» Андерсена, и Регишка читает вполголоса, а Муреныш почтительно слушает. Или в шашки играют…
Разговоры у Корнеича шли теперь все больше об одном: о доме. Дело с домом двигалось. Кинтель, занятый семейными заботами, не очень вникал в детали, но знал, что кооператив «Орбита» потихоньку берет верх над городскими чиновниками. А тут еще появилась в «Молодежной смене» статья Корнеича. Д. Вострецов с жаром доказывал, что это просто идиотизм – разрушать добротные дома, когда в Преображенске тысячи ребят слоняются без дела. Когда нет приюта ни для подростковых клубов, ни для библиотек, ни для чего, что идет на пользу детям. Находятся помещения только для коммерческих магазинов и видеосалонов… «Тремолино», если бы въехал вместе с «Орбитой» в этот дом, вырос бы в несколько раз. Можно было бы набрать до сотни окрестных мальчишек, построили бы эскадру! Как в прежние времена! А то наши власти вспоминают о детях лишь осенью, когда приходит очередной срок «спасать урожай»…
И кроме того, писал Д. Вострецов, что за свинство – уничтожать прошлое! Ну пусть пока не доказано, что жил в этом доме декабрист. Но все равно дом – часть городской истории. Со своим лицом. Если отремонтировать – будет загляденье. Денег нет на ремонт? «Орбита» берет это дело на себя…
И что у нас за архитекторы! Как видят старый квартал, так у них зуд начинается: скорее послать бульдозеры. Не строят, а только пустыри плодят в городе. Теперь у них бредовая идея – ради выпрямления улицы снести дом, который еще мог бы служить и служить людям… А улицу, кстати, все равно никто выпрямлять не станет, нет у города на это денег! И появятся на месте срытого дома кооперативные гаражи, как это сделано уже в десятках других мест…
В общем, все Корнеич изложил как надо. Подробно. Доказательно… А еще через неделю, в конце февраля, он сообщил завопившему от восторга «Тремолино», что «комиссия по архитектуре рассматривает вопрос и, скорее всего, решит его в нашу пользу».
– Ну подождите уж так-то орать! Всякое еще может быть. Враг силен и коварен.
В том, что враг коварен, убедились через несколько дней. Едва Кинтель и Регишка вернулись из школы, как позвонил Салазкин. Голосом звонким и отчаянным сказал:
– Добрый день! Там приехали ломать наш дом!
– Регишка, я побежал! Срочно! Нет, тебе нельзя! Ничего, посидишь одна, не дошкольница…
Оказалось, к Салазкину примчался маленький Рюпа из Джулиной компании:
– Санька, дом хотят ломать! Кран приехал с чугунной «бомбой»! Наши там стоят, не пускают…
Салазкин кинулся к телефону-автомату. К счастью, Корнеич оказался у себя на работе, в мастерской. Он скомандовал:
– Звони всем ребятам! И бегом туда!
«Достоевские» пацаны оказались молодцами. Встали перед машиной в цепочку, за руки взялись. Водитель и еще один дядька орали, матерились, но тронуть ребят пока не смели. Тем более, что собрались и несколько взрослых – тоже не в помощь «ломальщикам».
Один за другим подбегали ребята из «Тремолино», вставали вперемежку с «достоевскими». Кинтель встал между Салазкиным и Джулой.
– Шпана! – вопил водитель. – Расшибу всех, отвечать не буду, паразиты!
Его товарищ размахивал бумагой:
– У нас документ!
Ребята молчали. Стояли прочно. Ждали.
Примчался на мотоцикле Корнеич. А с ним, на заднем сиденье – кто бы вы думали? – Геннадий Романович, бывший учитель труда, а ныне член правления малого предприятия «Орбита». Подошли к орущим. Корнеич двумя пальцами взял бумажку, которой размахивал толстый небритый деятель в песцовой шапке.
– Разрешение некоего тов. Сапожникова… Беда, коль пироги нам печь начнет… Сапожников. Извините, не знаю такого. А у меня – вот. Копия решения исполкомовской комиссии.
– А я видел эту комиссию в белых тапочках! У меня свое начальство!
– Вот ты, дядя, и шагай к своему начальству, – предложил Геночка. И оглянулся на ребят. Узнал Кинтеля и Салазкина, подмигнул.
– Это ты сейчас зашагаешь, бандюга! – голосил дядька. – Вон, гляди…
Из-за угла выкатил милицейский «рафик». Это водитель крана успел оперативно сбегать к телефону-автомату. «Рафик» остановился, вышли шестеро в сером. В шнурованных высоких ботинках, с палками на поясе. Джула сказал вполголоса:
– Ну, парни, щас начнется. Я про такое раньше только по телику смотрел. Маленьких надо убрать…
Лейтенант, покачиваясь, подошел к Корнеичу:
– В чем дело?
– Мешают разбирать, – скандально сказал дядька в песцовой шапке. – Изображают, понимаете ли, защитников Белого дома… У меня документ!
– И у меня, – сказал Корнеич.
Лейтенант взял две бумажки, почитал, покачал в пальцах, словно сравнивал: какая весомее? Потом крикнул:
– Товарищ капитан!
Из «рафика» выбрался еще один. В фуражке и шинели… Ну целое собрание старых знакомых! Андрей Андреевич Глебов! Жених (или уже супруг?) ненаглядной Дианы Осиповны.
Подошел, сказал:
– Здравствуйте, Даниил Корнеевич. Вот и правда встретились…
– Мир тесен…
Глебов мельком глянул в оба документа, пренебрежительно объяснил лейтенанту:
– Комиссия какая-то. Липа… А тут подпись самого Сапожникова. Ломайте… Даниил Корнеевич, уберите ребят.
– Едва ли у меня получится… А решение комиссии, значит, липа? Это ваше официальное заявление?
– Не надо меня пугать… Лейтенант, уберите ребят.
– Ох, не надо этого делать, – вкрадчиво сказал Геннадий Романович. – Такие дела добром не кончаются. Вспомните рижский ОМОН. Даже в Сибири потом не спаслись…
– Не надо меня пугать, – повторил Глебов. – Гражданин Вострецов, вы уберете ребят?
– Этих – да, – отозвался Корнеич. – Идите, хлопцы. Теперь подежурят другие.
Выкатил еще один «рафик», зеленый. Вышли восемь человек, штатские. В пестрых куртках. Но чем-то похожие друг на друга. Семеро молча встали впереди ребят (которые так и не разошлись). Разом закурили. Восьмой подошел к Корнеичу и милиционерам.
– Кто такой? – вскинулся лейтенант.
Подошедший улыбнулся широко, по-приятельски. Только глаза как у снайпера.
– Здравия желаю… Да вы меня, лейтенант Борисов, знаете. В декабре, на митинге студентов, мы малость… повстречались. Помните? Старший лейтенант запаса Гольцев, отряд «Желтые пески», общественная охрана порядка… Что это вы, братцы, все на молодежь! Ну ладно, там хоть студенты были, а тут ведь совсем пацаны…
– Афганцы, – шепотом произнес Джула. – Можно маленьких не уводить. Хана ментам…
– Товарищ капитан! – сказал лейтенант Борисов высоким голосом. – Я так не могу. Надо сперва разобраться, кто прав. А то мы им наломаем хребты, а потом с нас же спрос… Или давайте письменный приказ.
В шеренге «Желтых песков» тихонько засмеялись.
– Можно и письменный, – отозвался Глебов.
Афганцы разом бросили окурки и слегка расставили ноги. Один оглянулся, шепнул:
– Шли бы вы, ребята…
Но уходить не пришлось. Лейтенант опять заговорил:
– И вообще… Если бы несанкционированный митинг или свалка, а то обычный пикет. Разгонять пикеты указа не было.
– Но они препятствуют работе, – сухо заметил Глебов.
– А что за работа дома ломать! – У лейтенанта появились плачущие нотки. – С нас же потом и спросят. Вы-то с вашим юридическим образованием всегда найдете доводы, а все шишки на меня. И на них… – Он кивнул на топтавшихся по снегу омоновцев.
– Можете уезжать, – бесцветным голосом проговорил Глебов. – Я доложу в штабе о случившемся.
– Ну и докладывайте! А мы тоже не нанимались, чтобы во всякую дыру затычкой…
Глебов блеснул очками, поправил фуражку и пошел прочь.
– До свидания, Андрей Андреевич, – сказал бывший трудовик Геночка.
Лейтенант Борисов кивнул своим, те полезли в машину. Желтый «рафик» укатил.
– Все, господа, ваш спектакль отменяется, – сказал Корнеич шоферу и его напарнику.
Шофер плюнул:
– А нам-то чё! Пущай разбираются в конторе…
И автокран с подтянутой к радиатору «бомбой» начал медленно разворачиваться.
– Спасибо вам, Коля, – сказал Корнеич командиру «Желтых песков». – Извини, что потревожили. Выхода не было.
– Да чего там… Но гляди, опять ведь приехать могут.
– Сейчас пойду в исполком…
– Мы будем поглядывать, – пообещал Джула. – Если что, я сразу к Саньке.
– Или мне звони, – сказал Кинтель.
…Салазкин убежал домой за портфелем – опаздывал в школу. Остальные «тремолиновцы» двинулись к трамваю. Конечно, собрались на место происшествия не все, а те, кого успели поднять по тревоге. Было их вместе с Корнеичем семеро. Кинтель шагал, заново переживая всё, что испытал недавно, когда стоял в шеренге между Джулой и Салазкиным. И ясное ощущение правоты, и бесстрашие (пусть хоть убивают, сволочи!), и яростную готовность кинуться в схватку, несмотря на дубинки. И берущее за душу ощущение победы, когда встали впереди ребят афганцы…
Видно, и другие испытывали что-то похожее.
– Все-таки наша взяла! – вслух порадовался Не Бойся Грома.
– Ни чья еще не взяла, – сумрачно отозвался Корнеич. – Опять придется разбираться…
Виталька, однако, не хотел терять свою радость:
– А все равно сегодня победили мы!
– Мы пахали, – вздохнул Дим.
– Паршиво это все, – сказал Корнеич. – Люди на людей… Вот представь, Виталик, такую ситуацию: среди тех омоновцев твой старший брат.
– На фиг нам такие братья, – насупился Не Бойся Грома.
– Братьев ведь не выбирают, – негромко объяснил ему Паша Краузе.
А в Кинтеле все еще не растаяло боевое настроение. Похожее на отголоски песни: «Подымайся, мой мальчик, рассвет раскален…» И он не удержался:
– Они же сами на нас войной пошли…
– Послали их, вот и пошли, – недовольно отозвался Корнеич. – А война всегда дело пакостное, с обеих сторон. В любых масштабах.
Андрюшка Локтев, любивший все уточнять, заявил:
– Но по истории учат, что войны бывают несправедливые и справедливые, хорошие.
– Идеи бывают хорошие, – возразил Корнеич. – А когда эти идеи начинают с кровью мешать, всякая справедливость побоку. И больших, и маленьких гробят с той и с другой стороны…
Он сегодня заметно хромал. Кинтель знал, что Корнеичу нужен новый протез, который стоит сумасшедших денег. А плату за две последние статьи Корнеич отдал фирме «Ласточка»: там обещали раздобыть по госцене рубашки из натурального хлопка для летней формы отряда «Тремолино».
Кинтель представил себя в новенькой оранжевой форме среди «достоевской» компании и ощутил какую-то неуютность, несправедливость даже.
– Корнеич… А вот те пацаны, с Достоевского… Они ведь за нас борются, дом охраняют. Когда будет у нас там просторное жилье, может, их тоже… как-то к отряду? – И тут же испугался. Вдруг кто-нибудь скажет: «На кой нам всякая шпана!»
Но Корнеич отозвался обыкновенным тоном:
– Естественно. Все равно ведь придется набирать новичков. А эти тем более люди местные…
Паша Краузе, однако, трезво заметил:
– Захотят ли? Образ жизни у них… малость иной.
– Разница образа жизни тут в одном, – сказал Корнеич. – У нас впереди новый корабль, паруса, а у них никаких парусов нет. Убрать эту разницу, и остальное приложится…
РАВНОДЕНСТВИЕ
В середине марта сгорел телевизор. Дед плюнул и сказал, что «кинескоп не выдержал ежедневного сумасшествия». Действительно, творилось черт знает что. В Карабахе и между Арменией и Азербайджаном уже сплошная война, ракетные установки «Град» пошли в дело. Когда показали, что случилось под городом Ходжалы, тетя Варя из комнаты ушла. Потому что на экране – снежное поле, а в поле этом сотни трупов: и взрослые, и ребятишки… На Днестре тоже шла пальба – правый и левый берега в Молдове выясняли отношения. Чечня вооружилась до зубов и России уже не подчинялась. В Казани кое-кому тоже, видно, не жилось мирно: да здравствует референдум и самостоятельность. Дед боялся, что и там, чего доброго, начнется заваруха, а это вовсе уж недалеко от Преображенска… У Кинтеля назойливо вертелось в голове: «Полыхает гражданская война от темна до темна…» Песня вроде бы неплохая, но это если просто песня, из старого кино. А когда по правде такие пакостные дела…
В Преображенске было пока спокойно, однако и здесь всякие пожилые деятели собрали семнадцатого числа митинг: «Даешь обратно Советский Союз…»
– Никак в их отставные головы не вобьешь, что нет уже никакого «обратно», – ругался дед. – Как говорится, и рад бы в рай, да грехи не пускают…
Из-за митинга – на всякий случай – в школе отменили у второй смены занятия. Салазкин приехал к Кинтелю.
– Радуешься? – сказал Кинтель. – Лишний выходной…
– Чему радоваться? Потом лишних уроков навесят.
Но зато приближалось событие, отменить которое не могли никакие политики. Равноденствие!
В календаре значилось, что день становится равным ночи девятнадцатого марта. Но в «Тремолино» по традиции отмечали Весеннее Равноденствие двадцать второго. Это был давний праздник морских ребячьих отрядов начиная еще с «Эспады».
В нынешнем году двадцать второе выпало на воскресенье. Удача! В полдень собрались у Корнеича. Сверкало за окнами солнце, веселились воробьи. Таня выбрала время, вместе с Маринкой нажарила пирожков с капустой. Устроили праздничное чаепитие, и у всех было прекрасное настроение, только Муреныш слегка дулся – оттого, что не пришла Регишка.
Она сперва просилась с Кинтелем, но сообща уговорили ее остаться дома: помочь тете Варе со стиркой и обедом. «Привыкай хозяйничать, большая уже девочка. Мама вернется, порадуется, какая ты стала помощница». И Регишка согласилась. Она повеселела в последние дни, потому что на этой неделе матери стало наконец-то получше…
После чаепития весь народ с Корнеичем отправился на водную станцию «Металлист», на Орловское озеро. Там в пристройке служебного домика была у «Тремолино» своя комнатушка. Начальник базы выделил ее отряду, чтобы хранить паруса и прочее флотское имущество, но ребята устроили там настоящий летний штаб. Жаль только, что зимой в этом штабе нельзя было собираться: и путь до базы неблизкий, и в промороженной насквозь фанерной каморке не было никакой печурки… Но теперь, когда день стал длиннее ночи, пришло время готовиться к лету.
Было ясно, что шхуну в этом году уже не построить, но начальник пообещал Корнеичу отдать списанную шлюпку, ял-шесть. Подлатаете, мол, и плавайте на здоровье. Для хождения под парусом «шестерка» рассчитана была на восьмерых взрослых. А в пересчете на легковесных мальчишек – как раз для всего тремолиновского экипажа.
Чтобы попасть на базу, надо было ехать сперва до трамвайного кольца у Дома культуры «Сталевар», а оттуда – по пригородной одноколейке вдоль озера. Оно примыкало к западной окраине города, а дальше уходило в пологие лесистые холмы.
По дороге говорили, конечно, больше всего о доме. Корнеич сказал, что теперь дело почти решенное. Осталось получить на документах еще две-три подписи. Ближе к лету «Орбита» подвезет к дому стройматериалы и начнет ремонт. Уже договорились с бригадой. Во дворе, на месте старых сараев, поставят навес, под которым можно будет собирать корабельный корпус.
– По прежним чертежам будем работать? – деловито спросил Костик-барабанщик.
– Конечно, – сказал Корнеич. – От добра добра не ищут, Митин проект он самый оптимальный.
Кинтель знал уже, что прежняя шхуна была спроектирована Митей Кольцовым, давним другом Корнеича. Они были вместе в «Эспаде». Потом Кольцов окончил в Ленинграде кораблестроительный институт, стал работать в Таллине, и вот что-то давно от него нет весточек из нынешней тревожной заграницы…
От кольца до Зеленого полуострова ходил по одноколейке старенький вагон. Маршрут номер двенадцать. Был трамвай сегодня почти пуст: дачно-садовый сезон еще не начался. Разместились по скамейкам, поехали с дребезжанием. Слева потянулись домишки окраинной улицы, справа – сверкающее настом озеро с черной россыпью замерших над лунками рыболовов. Кое-где горбатились над ледяной равниной темные лохматые островки.
Миновали разъезд, где встретился такой же расхлебанный трамвайчик, ехавший до города. И почти сразу показалось за тополями кирпичное старинное здание с широким серебристым куполом.
– Что это? – спросил Кинтель у Салазкина.
– Хлебозавод.
– Будто замок…
– Разве ты раньше здесь не бывал?
– Ни разу. На пляж с пацанами ездили, но это с другой стороны… Здешняя улица как называется?
– Дачная… Корнеич рассказывал, что раньше, до революции, здесь дачи стояли…
Корнеич оглянулся:
– Верно. Только у нас ведь все задом наперед делается. Дачной-то улицу назвали как раз тогда, когда все дачи стали сносить. Под крики «Долой буржуев!». Мне бабушка рассказывала, она из этих мест.
– Моя прабабушка тоже в этих местах на даче жила, – вспомнил Кинтель. – Когда еще была девчонкой… А тогда эта улица как называлась?
– В те патриархальные времена? Ильинская.
– Почему… Ильинская? – настороженно спросил Кинтель.
– Хлебозавод-то – это ведь бывшая церковь. Тоже Ильинская. Вот по ее имени и улица…
Кинтель и Салазкин оглянулись на завод. Он был хорошо виден в заднем окне. Ярко краснел на фоне блестяще-белого озера.
– На мысу стоит… – прошептал Салазкин.
Они взглядами метнулись по озеру. Какой тут остров к вест-норд-весту от мыса? Но разве разберешься на ходу!..
– Надо сойти, – нервно сказал Кинтель. – Пробраться на мыс и проверить оттуда…
– Так ничего не выйдет, надо с компасом, – возразил Салазкин.
– Вы о чем? – удивился Корнеич.
Кинтель и Салазкин переглянулись. Никто, кроме Салазкина, в «Тремолино» не знал про зашифрованное письмо на фотографии. Не то чтобы Кинтель считал это большим секретом, но зачем зря болтать-то? Раскрытия тайны все равно не предвиделось, а ворошить давнюю семейную жизнь без нужды не было смысла. Неловко даже. Будто девочка Оля и мальчик Никита могли обидеться.
Но сейчас… Неужели новый шаг к разгадке?
Кинтель решительно сказал:
– Корнеич, слушай…
Слушал, конечно, не только Корнеич. Все обступили скамейку с Кинтелем и Салазкиным. К «Тремолино» пришла тайна. Она была настоящая: с загадочным письмом, кладом, островом. Она давала отряду новую цель: плыть, искать, разгадать…
Неужели еще по правде, не в книжках осталось на свете такое!
Не Бойся Грома решительно заявил, что завтра же надо идти к острову на лыжах и вырыть клад, пока его не откопали другие.
– Умник. Там же все промерзло сейчас, – сказал Сержик Алданов. – Динамит понадобится.
Сенечка Раух, который терпеть не мог лыжи, заметил, что если за столько лет клад не вырыли, то полежит он и еще немного. До той поры, когда сойдет лед и будет починена шлюпка.
– Надо еще выяснить: что за остров-то? – напомнил Салазкин. – Взять компас – и на мыс…
Корнеич сказал, что это ни к чему. На базе есть большая карта Орловского озера, можно определить по азимуту, какой остров на линии запад-северо-запад.
«А вдруг никакого?» – с замиранием подумал Кинтель.
База была еще под снегом. Только узкие тропинки темнели среди оседающих ноздреватых сугробов. Спали под навесом шлюпки. У пирса, на высоких кильблоках, грелись зачехленные крейсерские яхты.
Ребят встретил громадный пес Гром. На радостях от встречи попробовал вставать передними лапами на плечи всем подряд. Даже на незнакомого Кинтеля на загавкал, а приветствовал его, как и остальных. Только к Салазкину принюхался сдержанно: возможно, учуял запах аристократа Ричарда…
Вслед за Громом появился сторож дядя Гриша – очень высокий, тощий, усатый. Он жил холостяком в здешней сторожке. От дяди Гриши чуть-чуть попахивало: наверно, в одиночку он отметил Равноденствие.
– Привет, ранние птахи, – хрипловато радовался он. – Тепло почуяли? Шеф сказал: шлюпка ваша – вон, крайняя под навесом. Можете хоть сейчас начинать капремонт…
– Успеется, – сказал Корнеич. – Ты, Григорий Васильич, отопри-ка нам контору. Надо взглянуть на схему озера.
– Уже в поход собрались, что ли? Ну пошли…
Большущая, написанная масляными красками схема озера занимала полстены в главной комнате базы – в кают-компании. В правом верхнем углу ее остроконечным цветком пестрела старинная роза ветров. Кинтель отыскал мыс Заводской – с хлебозаводом. Глазами прочертил от него линию влево и немного вверх – параллельно лучу с буквами «WNW». И этот стремительный путь по крашеной озерной синеве привел Кинтеля к острову с названием Каменный. К одному из самых дальних. И не его одного привел.
– Каменный! – зашумели все. – Точно на вест-норд-вест! Всё совпадает…
– Кроме названия, – сказал Кинтель. – В письме-то сказано: ша-эн.
– Может, они, когда играли, свое название придумали, – утешил его Салазкин. Кинтель понимал, что это, конечно, могло быть. Но все-таки жаль, что не было полного совпадения.
Дядя Гриша стоял здесь же. Он заметил:
– С названиями у нас тут завсегда была полная путаница. В разное время по-всякому называли острова, я уж и не припомню всё на старости лет. Где-то среди бумаг старый план имелся, можно поглядеть.
– А ну-ка… – нетерпеливо сказал Корнеич.
 Дядя Гриша повозился со связкой ключей, отпер на фанерном кривобоком шкафу висячий замок. Дверцы разошлись, будто кто их толкнул изнутри. Повалились на пол конторские папки, брошюры и рулоны бумаг. Пыль столбом. Не Бойся Грома демонстративно чихнул. Дядя Гриша нагнулся и безошибочно выволок из макулатуры сложенный желтый лист.
Дядя Гриша повозился со связкой ключей, отпер на фанерном кривобоком шкафу висячий замок. Дверцы разошлись, будто кто их толкнул изнутри. Повалились на пол конторские папки, брошюры и рулоны бумаг. Пыль столбом. Не Бойся Грома демонстративно чихнул. Дядя Гриша нагнулся и безошибочно выволок из макулатуры сложенный желтый лист.
– Вот он… С него и схему писали, только без лишней старины, конечно…
Мешая друг другу, развернули бумагу прямо на полу (она была протерта на сгибах).
В верхней части значилось: «Планъ озера Орловскаго и прилегающихъ къ нему окрестностей города Преображенска».
В углу тоже была роза ветров. И конечно, все метнулись глазами по лучу вест-норд-веста. И там, где на схеме бы просто остров Каменный, на плане значилось: «О. Каменный (Шаманъ)».
«Ура» сотрясло кают-компанию.
На базе провели время до вечера (они были теперь уже светлые, вечера-то). Слегка поскребли – для почина – старую шлюпку, прибрались в своей штаб-квар-тире, похожей на крошечный морской музей. Попили чайку в сторожке у дяди Гриши – он выдал каждому по ложке сахарного песка и по крепкому черному сухарю.
Ради конспирации не стали говорить дяде Грише, почему всех на самом деле интересует остров Шаман. Корнеич походя сочинил легенду: будто есть сведения, что первые пионеры Преображенска зарыли где-то на Шамане письмо будущим поколениям. Хорошо бы найти для музея.
Григорий Васильич покивал:
– Лед сойдет, и сплаваете. До того времени все равно искать бесполезно, снег еще. Да и по льду идти себе дороже, там рыбацких лунок полным-полно…
Кинтель подумал, что теперь все весенние дни до того долгожданного плавания будут у него связаны с радостной тревогой и ожиданием… А вдруг в конце ожидания – неудача?! Нет, надо надеяться. И на эту разгадку, и… на другие.
Корнеич, прихлебывая чай, рассуждал – и обрадованно, и с досадой:
– Сколько лет бываю на базе, а про этот план и слыхом не слыхал. И что Каменный – он же еще и Шаман, тоже не ведал. Вот тебе и музейный работник… А про Каменный легенда есть. Будто, когда сложили плотину и появилось озеро, это в петровские времена еще, первый владелец здешних заводов повелел навалить в воду гранитных глыб. Чтобы на этом искусственном острове поставить себе памятник. Да потом, видать, побоялся, что упрекнут в чрезмерном бахвальстве, или денег пожалел. А остров так и остался… Только, скорее всего, это сказки. Похоже, что, когда озера тут еще не было, стояла на берегу реки Сож каменная горка. Может, здешние племена на ней жертвы приносили да пляски устраивали, потому и Шаман…
– Мы, как… это самое найдем, тоже пляску устроим, – сказал Не Бойся Грома.
На него посмотрели неодобрительно.
В город вернулись, когда уже были сумерки. Звонкие, синие. Кинтель проводил Салазкина и заспешил домой. Ужасно хотелось есть. У двери позвонил длинно и нетерпеливо. Открыл дед. Был он хмурый, смотрел мимо Кинтеля. Сказал как-то неловко, по-стариковски:
– Тут такое дело, звонили из больницы. Померла ведь Елизавета…
Кинтель мигнул, постоял. Потом в куртке и ботинках кинулся в свою комнату. Регишка уже знала. Ничком лежала на диване, вздрагивала. Кинтель поднял ее за плечи, прижал…
ТЕМНОЕ КРЫЛО
Целую неделю Регишка не ходила в школу. То плакала навзрыд у себя за ширмой или на коленях у Кинтеля, то каменно молчала. Так было и до похорон, и после. Но что поделаешь, надо жить дальше. И в следующий понедельник, с Кинтелем за руку, пошла опять Регишка учиться. Послушная, безучастная…
На девятый день собрались помянуть тетю Лизу. На Сортировке собрались, в ее квартире. Кроме деда, тети Вари и Кинтеля с Регишкой, пришли еще несколько незнакомых женщин (они были и на похоронах). Отец, тихий, осунувшийся, расставлял рюмки и тарелки, женщины ему помогали. Посидели, выпили, поговорили о чем-то тихонько… Кинтель разговора не слышал. Посидев за столом пару минут, он ушел с Регишкой в другую комнату, помог собрать кое-какие игрушки и книжки.
Любимую куклу Анюту Регишка взять с собой отказалась:
– Пускай живет здесь. Она привыкла…
Когда уходили, отец подошел, погладил Регишку по волосам. И она… вдруг вцепилась в его рукав, прижалась к нему щекой и так стояла с полминуты при общем молчании. Ох как зацарапалась тогда в Кинтеле ревность, как заныла тревога…
Когда вернулись, дед сказал нерешительно:
– Слышь, Данила, поговорить бы надо.
Они сели рядышком на диване в большой комнате. Кинтель уже понял, о чем будет разговор. Дед повозился, выговорил:
– Как дальше-то с девочкой?
– А что? – вмиг ощетинился Кинтель. – Мешает? Или много ест?
Дед поморщился:
– Ну, ты только давай без этого… Не мешает, конечно, и не объест она нас. Живи бы да живи. И Варваре одна радость, всё о внучке мечтала…
– Ну так в чем дело?
– Легко ли такой маленькой-то круглой сиротой жить…
– Что же теперь делать? – скованно произнес Кинтель.
– Ты видел, как она к отцу прилипла сегодня… Она же всегда его родным считала.
– А он? – безжалостно хмыкнул Кинтель. – Наплевал да бросил… А сейчас… Подумаешь, по головке погладил.
– Кто кого там бросил, сейчас и не разберешься, – вздохнул дед. – Не нам судить их с Елизаветой… А про Регину он нынче говорил: надо, мол, чтобы девочка с отцом росла. Как же, мол, иначе-то…
– Хрен ему! – неумолимо сказал Кинтель.
– Но у него же права…
– А у нее?! У Регишки?! – взвился Кинтель. – Она же человек, а не кошка, которую можно из дома в дом!.. Ее, что ли, и спрашивать не надо?!
– Кто говорит, что не надо? Ее-то в первую очередь… Как она решит, конечно…
– Папочка надеется, что она меня оставит? Ха-ха… – сказал Кинтель с горьким злорадством.
– Не надеется. О том и речь…
– О чем? – Страх прошел по Кинтелю. Догадка.
– Просил он… чтобы, значит, я с тобой поговорил. Может, переедет, мол, Данила вместе с Регишкой ко мне. К нему то есть. К родному же отцу все-таки…
– Ну ясно. А вам с… Варварой Дмитриевной я уже поперек горла, да? – выговорил Кинтель с тихим отчаянием. Без оглядки. Будто обрывал все нити.
Дед стукнул кулаками по коленям. Но не со злостью, а беспомощно.
– Так я и знал! Так я и думал, что ты начнешь эту чепуху нести. Главное, сам ведь знаешь, что чепуха…
– Зачем тогда хочешь, чтобы я уехал?
– Да не хочу я! И у Варвары этого в мыслях нет! Ни про тебя, ни про Регину!.. Только девочку-то жалко. Она к своему дому привыкла. И отца любит… И школа у нее там своя, привычная… И еще…
– Что? – натянуто спросил Кинтель.
– Я про Валерия. Хоть у нас отношения и не очень, сын ведь он мне… Легко, думаешь, знать, что он в одиночку мается?
– Он, значит, сын, а я, выходит, уже и не внук…
– Ладно… – Дед устало поднялся. – Не получается беседа… Я, по правде говоря, думал, что ты взрослее. А ты еще… Впрочем, винить некого…
– Ну давай, давай, пригвозди теперь меня. – Кинтель сидел, откинувшись, и смотрел на деда снизу вверх. В горле ощутимо скребло.
Дед отвернулся к окну:
– Дурачок ты. Будут свои дети, поймешь…
У Кинтеля не было сил обидеться на «дурачка». Он сказал совсем уже сипло:
– Вот о детях и надо думать. Регишка к отцу вовсе и не просится… а вы…
– Пока не просится, и говорить не о чем, – не оглянувшись отозвался дед. – Ладно, поживем – поглядим…
Несколько дней прошли сумрачно и спокойно, без событий. Однажды вечером пришел Салазкин. Кинтель обрадовался, но и Салазкину не удалось развеять до конца его грустную, уже привычную озабоченность.
Поговорили о том о сём. Салазкин сообщил, что Корнеич разговаривал со знакомым художником, тот пообещал после ремонта расписать в доме, в будущей кают-компании, стену. Как старинную карту – с кораблями и морскими чудовищами.
– Хорошо, – сказал Кинтель. Но получилось невесело.
И тогда Салазкин вдруг спросил тихо, но решительно:
– Даня, скажи, наконец: ты все еще на меня сердишься?
– Санки, да ты что! С чего взял?
– Так показалось…
– Да за что сердиться-то?
– Я думал… может, за ту историю. Когда я скрыл, что Надежда Яковлевна болеет… Я понимаю, что у тебя в эти дни масса несчастий и забот, но мне казалось… Ну, будто ты и на меня злишься.
– Брось ты, Салазкин, – слабо улыбнулся Кинтель. – У меня в голове даже и не копошилось такое… – И он добавил, хотя это было чересчур по-детски: – Ну… честное тремолинское…
Салазкин тоже заулыбался. Виновато и с облегчением.
– Мама говорит, я такой ужасно мнительный…
– Правильно она говорит. А я… просто тут такое дело… – Он показал глазами на ширму, за которой тихонько дышала Регишка.
Салазкин сразу понял:
– Мне домой пора.
– Ага. Я тебя провожу!
Когда вышли на улицу, Кинтель и поведал Салазкину свою печаль. И боязнь, что Регишка запросится к отцу и в то же время от него, от Даньки, отрываться не захочет.
– И что мне, Санки, тогда делать?
Холодно было, даже уши пощипывало. Апрельские лужи затянулись игольчатым ледком, он блестел под неласковым закатом. Салазкин поежился и сказал беспомощно:
– Даже не знаю, что посоветовать… Регишку тоже понять можно…
«Ну вот, и он туда же!»
А Салазкин вдруг начал рассказывать:
– Я на той неделе к вам заходил перед школой. Думал, ты уже дома, но тебя еще не было. Я с Регишкой стал разговаривать. Она спрашивает: «Скажи, когда сон снится – это совсем ничего или немножко по правде?» Говорит: «Я маму во сне видела. Как она меня на колени посадила и по голове гладит…» Я ей тогда и рассказал… то, что читал в газете «Зеркало», про одно учение…
– Какое?
– Будто вокруг Земли есть еще несколько невидимых пространств. Семь, кажется. И люди никогда не умирают по-настоящему, а их энергетические поля, то есть души, переходят из одного пространства в другое. И те, кто друг друга на Земле любил, там обязательно встретятся…
– Она поверила?
– По-моему, да. Ей ведь очень хотелось, чтобы так было.
– А ты? – тихо спросил Кинтель. – Тоже веришь?
Салазкин сказал шепотом:
– Наполовину…
– Наполовину – это уже немало, – с печалью отозвался Кинтель.
В то, что мама не погибла, он тоже верил наполовину. Или, честно говоря, даже меньше. Но и этой надежды хватало, чтобы она согревала жизнь. И страшно было потерять ее.
Когда Кинтель вернулся, он сразу понял, что опять будет разговор. Дед шевельнул бровями и сказал обреченно:
– Отец твой звонил. С Регишкой разговаривал. Ну и… как оно и предвиделось: «К папе хочу, домой…»
– Ну а кто ее держит? – в сердцах бросил Кинтель.
– Ты… Без тебя не хочет.
– Пусть сама это скажет!
– Боится, что ты рассердишься… А Валерий мне сказал: пускай Данила хоть немного поживет. Не может быть, говорит, чтобы родные сын и отец не ужились, не бывает так…
«Еще как бывает…»
– Говорит: если захочет обратно, если невмочь станет, кто удержит-то? А здесь комната твоя как была, так и будет. И вообще… можешь ведь хоть каждый день приезжать…
– Это уже не он, это ты говоришь, – сказал Кинтель.
В душе росла безнадежность. Не нужен он тут… А раз так, стоит ли упрямиться? По правде говоря, к этому жилью – с вечным шумом за окнами, с чужими голосами за стенами – он так и не привык, неродное оно. Вот если бы из старого дома уезжать – совсем тошно, а отсюда…
Он ничего не сказал. Молча ушел и поехал туда. В сквер с остатками памятника. Загадал: если светится окно, тогда – пусть… Значит, судьба.
Окно светилось.
Кинтель вернулся уже в полной темноте. Его встревожено ждали. Регишка стояла на пороге, смотрела похожими на мокрые сливы глазами. Но даже к ней не было сейчас у Кинтеля сочувствия. Только усталая жалость к себе. Он имел на нее право, потому что все уже решил. Деду Кинтель сказал набыченно:
– Имей в виду, карту я заберу с собой.
С той поры жизнь приобрела суматошный ритм. Одна дорога до школы – час туда, час обратно. А еще пришлось приводить в порядок квартиру. Кинтель вымыл полы, отнес в прачечную белье, выстоял несколько очередей, чтобы выкупить по талонам хоть какие-то продукты.
Он вел себя как недовольный хозяин, после долгой отлучки вернувшийся в дом и обнаруживший кавардак и запустение. Отец слушался его во всем. Порой проявлял даже излишнюю поспешность, выполняя поручения Кинтеля. Смотрел виновато и вопросительно. Кинтель один раз не выдержал:
– Ну чего ты все время на меня так глядишь? Будто… пообещал шоколадку, а вместо этого сам съел.
Отец нерешительно засмеялся. Потом вдруг закашлялся и сквозь кашель проговорил:
– Слушай, Данилище… Я ведь никогда ничего плохого тебе не делал. Один раз только по дурости… ножницами…
– Да?! А как линейкой отлупить хотел, забыл? Когда мне шесть лет было, – сказал Кинтель. Сказал с ненатуральной такой придирчивостью, как бы нарочно показывая, что это полушутка.
Отец подышал, успокаивая кашель, потоптался рядом. Вдруг взял Кинтеля большой ладонью за затылок, неловко прижал его голову к свитеру:
– Большущий ты вырос…
Под свитером толкалось шумное сердце.
– Ну чего… – пробормотал Кинтель. – Я же в чешуе весь, карасей чистил…
Но прежде, чем вывернуться из-под отцовской руки, он замер, постоял так две секунды…
В этой квартире, в трехэтажном «дохрущевском» доме, все было как в те времена, когда Кинтель жил здесь с отцом, Регишкой и тетей Лизой. Даже старая фотография висела над комодом: на ней они вчетвером. Регишка еще совсем ясельная, а Кинтель – шестилетний, в том нарядном костюме, в котором ходил записываться в гимназию. С пышной прической, лупоглазый, серьезный.
Кинтель над своим столом решительно приколотил старинную карту. А больше ничего менять в комнатах не стал. И фотографию со стены не убрал, хотя заметил, что Регишка подолгу стоит перед ней с мокрыми глазами.
А один раз он увидел, как Регишка забралась в шкаф и там, нахохлившись, прижимает к лицу платье тети Лизы…
Но в общем-то Регишка ожила по сравнению с первыми днями. Иногда улыбалась даже. Смотрела детские передачи, Кинтелю и отцу помогала возиться на кухне.
Салазкина Кинтель теперь видел еще реже, чем зимой. Иногда у Корнеича, а иногда в школе между сменами.
Но однажды вечером Салазкин приехал сюда, на Сортировку. С Ричардом. Видимо, взял пса для безопасности.
Все Салазкину обрадовались, даже отец. Салазкин сообщил, что со следующего воскресенья начинается ремонт шлюпки, надо будет в любое свободное время ездить на базу.
– Холодно ведь еще, – озабоченно заметил отец. – Руки стынуть будут. Да и всякая краска-шпаклевка в такую погоду плохо ложится.
– Синоптики обещают раннее потепление, – сообщил Салазкин.
«Ох, скорее бы…» Кинтель почувствовал, как он устал от зимы и от затяжного весеннего холода. Так хотелось тепла и зелени. А пока – будто темное крыло между ним, Кинтелем, и солнцем. И не в погоде, конечно, дело…
Но вот пришел Салазкин и пообещал тепло. А он, Салазкин-то, всегда говорит правду.
ЗЮЙД-ЗЮЙД-ВЕСТ
Кинтель думал, что за зиму он совсем не вырос. Все такой же щуплый и колючий. Алка Баранова, с которой они всю жизнь были одного роста, к весне сделалась выше на полголовы. Но нет, и он подрос. Это обнаружилось, когда Кинтель примерил прошлогодние джинсовые шорты. Дед купил их ему в начале того лета, перед путешествием, но они оказались велики, болтались, и Кинтель надевал их, лишь когда с артелью «Веселые брызги» ходил мыть машины. А нынче – в самый раз. И главное, петли на поясе широкие – флотский ремень, который подарил ему Корнеич, пролез почти без скрипа…
Волосы Кинтель не стриг с осенних каникул, тетя Варя только подравнивала их, и впервые за несколько лет у Кинтеля появилась густая шапка волос. Алка однажды сказала:
– Данечка, тебе ужасно идет новая прическа.
– Само собой, – буркнул Кинтель.
Плохо только, что черный суконный берет с флотским крабом слабо держался на пружинистых волосах. И, выйдя из дому, Кинтель свернул и сунул его под погончик оранжевой форменной рубашки. Тем более, что стояла уже вполне летняя жара…
Салазкин не обманул, в середине апреля пришли теплые дни. К маю уже зеленели деревья и буйно цвели по газонам одуванчики. Правда, первого мая пришло похолодание с дождем, но это уж такой закон природы в здешних местах: как День солидарности трудящихся, так слякоть (независимо от политической обстановки). Впрочем, ни праздника, ни демонстрации в этом году все равно не намечалось.
Зато с понедельника опять началось тепло. Пуще прежнего. К этому времени как раз в мастерской подоспел заказ: покрашенные в огненно-апельсиновый цвет рубашки для «Тремолино». И Корнеич потребовал:
– Ну, народ, пора переходить на летнюю форму. На открытии навигации всем быть при полном параде.
Три последние недели ребята вкалывали на ремонте яла. Вспузырили паяльной лампой и ободрали старую краску, заделали пробоины, законопатили щели, зашпаклевали корпус смесью олифы и мела. Покрасили. Издалека на шлюпку глянешь – будто новая. Залатали старенькие серые паруса…
– Не шхуна «Тремолино», конечно, да ладно уж, сойдет, пока свой корабль не построили, – поговаривали ветераны. А Кинтелю казалось, что и шлюпка, названная добродушным именем «Тортилла», – отличное судно. И оставшиеся до первого плавания дни он жил в предпраздничном напряге… Тем более, что ожидалось не просто испытание «Тортиллы», а экспедиция на Шаман…
В таком вот настроении и шагал сейчас Кинтель к автобусной остановке. Правда, кроме праздника, сидело в душе и сомнение. Человеку со стеснительным характером нелегко, когда его разглядывает каждый встречный. Но в общем-то Кинтель уже притерпелся. С утра он ходил с Регишкой в «Стрелу» на сеанс мультфильмов – специально в тремолиновской форме. Во-первых, чтобы задавить в себе дурацкую стыдливость, а во-вторых, после кино уже не осталось бы времени для переодевания. Он и так попросил у Корнеича разрешения приехать на базу не к двенадцати, как все, а к часу. Конечно, не следовало бы в день долгожданной экспедиции тратить время на другие дела, но Регина еще накануне запросилась на мультики про кота Леопольда. Корнеич согласился, что причина, разумеется, уважительная.
Салазкин сунулся было:
– Я с Даней! Можно?
Но тут Корнеич ответил:
– А работать кто будет? Шлюпку спускать надо…
Если дело касалось плавания, Корнеич никому не давал поблажек. И люди в «Тремолино» это понимали. Даже неугомонный Не Бойся Грома становился спокойным и деловитым, когда вступала в силу корабельная дисциплина.
– А иначе и нельзя, – как-то объяснил новичку Кинтелю Паша Краузе. – На воде – это на воде, не на земле. Чуть что не так, и может кончиться как в песне:
Будем лежать на дне,
В синей прохладной мгле,
Ля-ля-ля…
Салазкин после ответа Корнеича засмущался. Кинтель тоже почувствовал себя виноватым.
– Я бы не просил, да Регишка… Ей вот приспичило. Надо пользоваться случаем, чтобы хоть малость ее развеселить…
В кино, конечно, все пялились на Кинтеля. Рубашка – будто факел, и столько на ней золоченых якорьков, нашивок, аксельбантов. К тому же, кроме Кинтеля, никого из пацанов еще не было в шортах, не лето все-таки. От этих взглядов по Кинтелю бегали щекочущие мурашки. Но потом он увидел двух мальчишек из скаутской «Былины» – в полном их обмундировании, веселых и независимых. И малость приободрился. К тому же Регишка так гордилась блестящим видом старшего брата!
А кроме того – праздники. Потому что воскресенье десятого мая было как бы продолжением Дня Победы. Вполне понятно, что в ребячьих отрядах могут быть всякие сборы и линейки, оттого и парадный вид. Вон ветераны, они ведь тоже в своих мундирах, гимнастерках и при наградах во всю грудь. На них тоже глядят кому не лень…
После сеанса Кинтель отвел Регишку домой, подхватил собранную заранее сумку – и на автобус. Но у самого подъезда услыхал:
– Да-анечка! Какой ты… элегантный.
Алка Баранова! Откуда ее принесла нелегкая? Стоит, водит по нему своими шоколадными глазищами от кроссовок до макушки и обратно. И опять – мурашки. Чтобы прогнать их, Кинтель стал спокойным и язвительным:
– Да. А ты как думала! Теперь ты еще больше в меня втюришься.
– Больше уже некуда… А что это у тебя за знаки различия?
Как съехидничать, Кинтель не придумал, буркнул примирительно:
– Знаки как знаки. Отряд такой. Парусный.
– Я и не знала, что ты моряк… Мой брат Мишка в судостроительном кружке занимался, в Доме пионеров, так у них настоящая морская форма была. Клеши, матроска…
– Настоящая – у настоящих, – сердито объяснил Кинтель. – А у них – маскарадная. Модельки строить – это не шкоты тягать. Попробовали бы они в своих клешах на базе, у шлюпок, когда все время по колено в воде. Или за бортом оказаться…
Ни вкалывать по колено в воде, ни оказываться за бортом Кинтелю пока не приходилось. Но ответ вышел, кажется, ничего: как у бывалого.
Алка покивала, качая толстыми, но короткими торчащими косами. Заметила:
– Ты прав. Такие штанишки тебе идут.
Он опять зарядился спасительным ехидством:
– А ты только сейчас заметила? Ты меня и раньше в штанишках видела, сколько лет смотришь влюбленными глазами.
– Раньше – это давно. Ты маленький был…
– А я и сейчас маленький, – сказал Кинтель с дурашливой беззаботностью. – Двенадцать лет – какие годы! Самое время для мальчика поиграть в ляпки да в пряталки… Это вы, девицы, раньше срока в рост пускаетесь. Во… – Кинтель вскинул над головой руку. – И во… – Он волнистыми движениями ладоней нарисовал в воздухе раздавшуюся дамскую фигуру. Хотя Алка, что касается ширины, была совсем не «во». Только на груди под тоненьким белым свитером – легкий намек на выпуклость.
Она не обиделась. Заметила чуть насмешливо:
– А тебе-то, игрок в пряталки, через неделю, по-моему, уже тринадцать стукнет.
– Ай-яй-яй! – Он сделал вид, что ужасно удивился. Потому что удивился по правде. – Как это ты вспомнила?
– Вспомнила. Тебя еще в детском садике поздравляли, в старшей группе. Когда шесть лет…
– Верно! Ты мне тогда пластмассового зайчонка подарила! – Кинтель сбил невольную лиричность воспоминания комическим закатыванием глаз. – Это было так трогательно… Кстати, заяц до сих пор не потерялся.
– Ты путаешь, – вздохнула Алка. – Зайца я подарила в другой день. Эльза Аркадьевна взгрела тебя линейкой, и ты ревел в уголке за беседкой, а я тебя пожалела… А ты мне потом венок из одуванчиков сплел.
– Сейчас бы я и не сумел уже, – вздохнул Кинтель. – Какие мы были талантливые в молодые годы.
– Ох, не говори… А на день рождения подарков я тебе никогда не дарила. Можно сейчас исправиться? – У Алки была замшевая сумочка. Открыв ее, Алка достала что-то круглое, завернутое в бумажную салфетку. – На…
– Что это? – сказал Кинтель слегка опасливо.
– Бери, бери. Это без подвоха…
Кинтель пожал плечами. Взял, развернул. Оказалось – расписное деревянное яйцо, размером с куриное.
От растерянности он спросил тоном «достоевского» пацана:
– В натуре, что ли, мне?
Она засмеялась:
– «В натуре»… Ох ты, Кинтель…
– Не ко времени вроде, – опять малость съехидничал он. – Пасхальная неделя уже кончилась.
– А это не пасхальное. Специально для тебя…
Кинтель осторожно помолчал. Потом хмыкнул:
– А внутри небось игла, как для Кощея. Разобью – и мне каюк… Или нет! Воткнется в сердце, и тогда я влюблюсь в тебя безоговорочно.
Впрочем, яйцо было тяжелое – видимо, сплошное.
Алка сказала без улыбки, скучновато даже:
– Ладно, пошла я… Не забывай, адмирал. – И зашагала прочь, помахивая сумочкой и качая твердыми коричневыми косами.
– Да уж ладно, не забуду как-нибудь до завтра-то, – сказал Кинтель ей вслед слегка растерянно. И добавил запоздало: – Мерси вам, сударыня…
Потом затолкал яйцо на дно сумки, под запасной спортивный костюм и сверток с бутербродами. И заспешил к автобусу.
…Вот ведь, черт возьми, не повезло Кинтелю! Когда приехал к трамвайному кольцу у «Сталевара», там на диспетчерской будке красовалось объявление, что двенадцатый маршрут не работает из-за ремонта линии. Ну что за свинство! Праздничный подарочек садоводам и дачникам… Теперь, чтобы добраться до базы, надо топать по шпалам с полчаса.
Впрочем, часы на Доме культуры показывали половину первого, так что времени в самый раз. И Кинтель потопал.
Скоро настроение у него опять стало лучезарным. По бокам узкоколейки зеленели низкорослые клены и рябины, между шпал в густой рост шла трава с желтым мелкоцветьем, над ней порхали бабочки. Солнце грело плечи. Слева, из-за горбатых низких крыш летел теплый, но плотный ветерок. Зюйд-зюйд-вест, самое то, чтобы курсом-галфинд, без лавировки, сходить на Шаман и вернуться. Справа синело Орловское озеро. По нему бежала мелкая безобидная зыбь.
Такое было вокруг солнечное умиротворение, что даже мысли о кладе на Шамане перестали волновать Кинтеля. Об этом думалось рассеянно, вперемешку с другим: с Алкиным подарком, с утренними мультиками, со всякой всячиной.
Трамвайная линия по прямой убегала вдаль и терялась в кустах, за которыми прятался разъезд. И долгое время было пусто впереди, а потом… Потом словно вдали на рельсах возникло большое зеркало, и Кинтель увидел себя. Идущего навстречу.
Конечно, это был кто-то из своих! В той же форме. Кинтель заспешил. И очень скоро по слегка косолапой походке – видно, снова ногу подвернул, балда! – Кинтель узнал Салазкина. Тот, наверно, отпросился встречать его! Кинтель заторопился еще больше. Но уже с полусотни шагов разглядел, что радостной встречей тут не пахнет. Очень уж понуро шагал Салазкин.
– Что случилось? – еще издалека сказал Кинтель.
Случилось дело скандальное, для Салазкина просто постыдное. И главное, непоправимое. Потому что нарушения техники безопасности во время занятий парусным делом прощению не подлежали. Это в «Тре-молино» было законом с давних пор, и закон все принимали безропотно. Иначе кончится тем самым: «Ля-ля-ля, в синей прохладной мгле…» И если кто-то нарушил по разгильдяйству или забывчивости – будь ты хоть самый лучший друг, хоть самый заслуженный ветеран, – гуляй, голубчик, с базы домой и обижайся только на себя. Потом тебя никто упрекать не станет и будешь ты по-прежнему свой среди своих и хороший человек, но в этот горький день тебя к пирсу и близко не пустят…
Все это Салазкин знал прекрасно. Но словно какой-то бес толкнул его под копчик. Когда спустили «Тортиллу» со слипа и Корнеич назначил пятерых (Салазкина в том числе) перегнать шлюпку к пирсу, все, конечно, надели спасательные жилеты. А Салазкин забыл, прыгнул в шлюпку без него.
– Ты откуда упал? – изумился Дим. – А ну, за жилетом!
Но Салазкиным овладела какая-то необъяснимая беспечность.
– Чепуха! Тут же недалеко! Ничего не случится!
Ничего опасного в тот момент случиться и правда не могло.
Но случилось другое: все это увидел Корнеич.
– Саня! Марш за жилетом!
– Да ладно! Тут же двадцать метров до пирса! – И Салазкин взялся за весло.
Тогда-то Корнеич и сказал железным тоном:
– Денисов, на берег.
А потом уже, когда все осознавший Салазкин с головой ниже плеч встал перед нестройной шеренгой, Корнеич горестно развел руками:
– Сам виноват. И что на тебя нашло?.. Шагай домой, чадо, ничего не поделаешь. Всем ты подпортил этот день…
Уже ни на что не надеясь, Салазкин прошептал:
– Можно я лучше целую неделю буду рынду драить?
– Это можно, – вздохнул Корнеич. – А домой идти все равно придется. Закон есть закон…
И Салазкин пошел, глотая слезы, и сдерживался до самой встречи с Кинтелем. А тут не выдержал. Разревелся самым безудержным образом, когда стал рассказывать.
– Перестань, – понуро сказал Кинтель. Тошно ему сделалось. Вот ведь свинство судьбы: только что все было хорошо, и вдруг… – Но на Салазкина злости не было, он и так горем умывается. Господи, что же делать-то? – Не реви. Давай сядем…
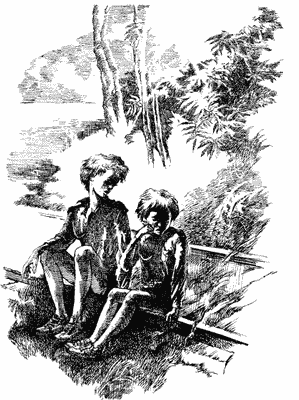 Салазкин всхлипнул и послушно сел на рельс.
Салазкин всхлипнул и послушно сел на рельс.
– Подвинься, – сказал Кинтель, вспомнив старый анекдот. Но шутка не заставила Салазкина повеселеть. Он даже и не понял, подвинулся. Кинтель сел рядом.
Стали молчать. Салазкин съежился и все еще всхлипывал, ухитряясь вытирать мокрые щеки о колени. Потом сказал шепотом:
– Ладно, пойду я…
– Куда?
– Домой, конечно…
– Вместе пойдем.
Салазкин вскинул голову:
– Ты с ума сошел?
«Дурак ты. Как же я без тебя-то?» – подумал Кинтель и упрямо шевельнул спиной.
– Получится, что ты бросил экипаж перед плаванием, – испуганно объяснил Салазкин. – Так не делают. Вообще никогда… И к тому же без предупреждения…
– Хорошо, я пойду и предупрежу.
Салазкин понуро проговорил:
– Ну и будет еще хуже. Провалится все дело…
Помолчали снова. Салазкин шевельнулся:
– Пойду я. Сплаваете без меня, чего такого… Сам ведь я виноват, зачем вокруг меня еще что-то громоздить…
Все это было правильно. Он был кругом виноват. И ничего бы не случилось, если бы «Тремолино» сходил на остров Шаман без Сани Денисова. Но Кинтель представлял, как сейчас встанут они, повернутся спиной друг к другу и пойдут по рельсовой колее в разные стороны. И будут расходиться все дальше, дальше… и это было невозможно, несмотря ни на какие рассуждения о справедливости.
Салазкин теперь не опускал голову, смотрел перед собой, ощетинив сырые ресницы. Облизывал губы и ковырял на коленке выпуклую родинку.
– Оставь ты свою бородавку, – в сердцах сказал Кинтель. – Сдерешь когда-нибудь совсем.
– Ну и сдеру… Надоела.
– Схватишь гангрену какую-нибудь. И помрешь…
Салазкин горестно шмыгнул носом. Судя по всему, он был не прочь сейчас помереть.
– Или ногу отрежут. А зачем? Мало нам, что ли, одного такого Джона Сильвера…
Но и на эту шутку – глупую и даже хамскую – Салазкин никак не прореагировал. Только сильнее придавил родинку мизинцем. Из-под него выкатилась кровяная бусинка.
– Во! – подскочил Кинтель. – Говорил я! Колупнул все-таки!
– Первый раз, что ли?..
– Под ногтем знаешь сколько бактерий… Надо смазать чем-нибудь! У тебя есть аптечка? – У Кинтеля стремительно зрело решение.
– Откуда у меня аптечка? Она на базе…
– Вот и пошли на базу!
Салазкин повернул полосатое от слез лицо. Сказал грустно и понимающе:
– Ну и что? Потом все равно отправят домой.
– Видно будет. Пошли!
…Появление Салазкина вызвало неловкость и растерянность. Ребята опускали глаза. Корнеич сказал:
– Это что за явление? – Сердито глянул на Кинтеля: с какой стати, мол, вернул штрафника? Не знаешь правил?
Кинтель проговорил агрессивно:
– У человека нога в крови, а вы… Обработать же надо!
Корнеич пригляделся, куснул губу:
– Батюшки мои, какая травма… Смажьте ему зеленкой.
Маринка умчалась и тут же вернулась с аптечкой.
– Дай сюда, я сам… – Салазкин забрал у нее пузырек.
– Ну, всё? – Корнеич глянул хмуро и нетерпеливо. – Теперь будешь жить. Ступай домой…
– Он хромает, – сказал Кинтель.
– Да, он хромает, – сказал Костик-барабанщик.
– Понял, – сухо согласился Корнеич. – Отвезу до кольца на мотоцикле.
– Да вы что! – вознегодовал тогда Кинтель. – Так же нельзя! Один раз прогнали, зачем снова-то! Так никогда не бывает, чтобы за одно дело человека дважды… казнили… Даже когда к расстрелу приговаривали и с первого раза не могли застрелить, потом человека прощали. У Высоцкого про это песня есть!
– Да, есть у Высоцкого такая песня, – авторитетно сказал Дим.
И все вопросительно, выжидательно стали смотреть на Корнеича. Даже несгибаемые ветераны Сержик Алданов и Паша Краузе.
– Ясно, на чьей стороне общественное мнение, – проворчал Корнеич. – Ладно, оставайся… недостреленная личность.
Салазкин засиял еще не просохшими глазами.
– Я все равно буду целую неделю рынду чистить!
– Чисти. Может быть, умилостивишь судьбу… С одной стороны, конечно, Кинтель прав: за один грех дважды не спрашивают. Но с другой – мы сегодня из-за тебя впервые нарушили устав. Есть примета, что такое безнаказанно не проходит. Если случится какое ЧП, знай – по твоей причине…
Салазкин сопел виновато и счастливо. И какое ЧП могло случиться в этот безоблачный день с ровным теплым ветром?
Правда, дядя Гриша предупредил ворчливо:
– Вы долго-то не задерживайтесь. И вообще… глядите там. Катера-то пока еще на берегу, сезон не открылся. Ежели что, помощи никакой…
– Синоптики на всю неделю ровную погоду обещали, – сказал Корнеич.
– Синоптики эти…
– Вернемся нормально… Кинтель, труби сбор на линейку.
У Кинтеля что «сбор», что «тревога» – на все один сигнал, четыре протяжные ноты. Он сбегал в штабную каморку за горном и затрубил прямо с крыльца. Построились в шеренгу на пирсе. Салазкин, сам того не замечая, все еще празднично улыбался. А смазанная коленка сияла, как зеленый светофор: путь открыт! Флаг полагалось поднимать самому маленькому. Таким был Костик, но он – с барабаном. И поднимал Муреныш. Заплескалось под гафелем на береговой мачте оранжевое полотнище с белым лучистым солнцем и синим корабликом. Костик приветствовал его умелой дробью. И Корнеич скомандовал:
– Народ, по местам!
Те, кто в прошлые годы ходил на шхуне «Тремолино», вспоминали не раз ее легкость и стремительность. Но Кинтелю сравнивать было не с чем. Ему сейчас казалось, что и неторопливая «Тортилла» несется, словно клипер. Ветер, когда отошли от берега, стал еще плотнее, двойной шлюпочный парус круто выгнулся. Серый и полинялый, теперь, на солнечном просторе, казался он белым и чистым. Легкие гребешки ударили в звонкий борт, зажурчала кильватерная струя. Теплый зюйд-зюйд-вест взлохматил Кинтелю волосы, и он вдохнул восторг первого парусного плавания.
Несмотря на недавний ремонт, кое-где сквозь щели в обшивке сочилась вода. Но Виталик Не Бойся Грома деловито объяснил Кинтелю, что это ненадолго: скоро дерево набухнет, все щели закроются, не бойся, новичок.
А Кинтель и не боялся. «Тортилла» была большой и надежной. Минут пятнадцать для испытания походили туда-сюда вдоль пирса, а потом – с креном на правый борт, курсом вест-норд-вест – шлюпка побежала к темному пятнышку на горизонте – скалистому острову Каменному, который раньше назывался Шаман…
Орловское озеро слегка ершилось. Кое-где загорались пенные гребешки. Стала покачивать «Тортиллу» бортовая зыбь. И в этом неопасном покачивании, в искрящейся синеве, в журчании и плеске, в теплом ветре и трепете оранжевого флажка на задней шкаторине грота было такое счастье, что на какое-то время Кинтель опять почти забыл про главную цель путешествия. Ему дали держать кливер-шкот, и он ощутил властное давление ветрового потока на парусину. И ревностно следил, чтобы кливер не заполоскал, потеряв ветер…
Попались навстречу две гордые крейсерские яхты с высоченными мачтами. Кинтель проводил их глазами с восхищением, но без зависти. Чего завидовать чужому счастью, если есть свое… А больше парусов не было видно. Несмотря на теплую погоду, яхтсмены и шлюпочники окрестных спортклубов еще не раскачались, чтобы начать сезон…
Бежало время, проплывали мимо «Тортиллы» и оставались позади поросшие кудрявой зеленью островки: Петушок, Тополиный, Рыбачий… А серый, без единого кустика суровый камень Шаман делался все ближе, ближе. И Кинтеля, уже притерпевшегося к радости плавания, все сильнее брало в плен волнение. Этакое замирание под сердцем.
Скоро – разгадка. И наверно, ничего там не найдется, к этому надо быть готовым. Столько лет прошло, столько тысяч рыбаков и туристов побывали на Шамане, лазили по всем камням. Скорее всего, давно отыскали и унесли клад Никиты Таирова. А если он до сих пор там, то разве сейчас отыщешь валун с надписью «Б+Л»? Буквы наверняка давно стерло время… Но в самом этом плавании, в самом поиске был тревожащий дух Приключения. Старая книга, тайное письмо, необитаемый (ведь и правда необитаемый, без жилья!) остров… А в приключении всегда есть надежда, что оно кончится удачей.
А позади этой надежды жила и другая. Та, которую Кинтель не сумел бы объяснить никому, даже себе. Он и не пытался объяснить, но берёг в себе странное чувство, что разгадка клада поможет другой разгадке – кто живет на улице П.Морозова? За тем окном на пятом этаже! Не было здесь никакой связи. Но непонятная надежда была, и от нее порой щемило душу…
Путь до Шамана занял чуть больше часа. И вот наконец «Тортилла» заскрипела килем по песку, выползла крутым носом на отмель у нависших скал.
Все попрыгали на песок, заприплясывали, разминая затекшие ноги. Закрепили за камень швартов, опустили в шлюпку реек с парусом. Всем не терпелось кинуться на поиски.
– Люди! По камням не скакать сломя голову! – предупредил Корнеич. И, поморщившись, уселся на валун: видимо, опять болел натертый протезом сустав. – Держаться по двое, страховать друг друга!.. Не будем суеверными, но надо помнить о возможности ЧП… И по сигналу – сразу к шлюпке! Ладно, разбежались…
Кинтель, конечно, пошел с Салазкиным.
Островок в ширину был метров сорок. Но на этом клочке земли было столько нагромождений! Торчали скалы – холодные в тени и горячие на солнце. Грудами поднимались валуны, между ними вились натоптанные тропинки. Кроме экипажа шлюпки, не было сейчас на Каменном никого, но следы посещений виднелись повсюду: желтые обрывки газет, консервные банки, осколки бутылок. Ох как умеют люди загадить любое хорошее место!..
Но, несмотря на мусор и затоптанность, был Шаман загадочен и красив. Похож на руины замка. Не росло здесь ни кустика, но валуны покрывал сухой узорчатый мох, горели среди гранитных обломков солнечные брызги одуванчиков. Камни громоздились друг на друга, уступами уходили к неровной верхушке острова. Пахло теплым древним гранитом и золой старых костров.
Все разбрелись, перекликаясь. Где здесь искать валун с буквами «Б+Л»? Написано: к зюйд-осту от макушки. Но вон их сколько, камней-то! Проверять каждый – до заката не хватит времени. Тем более, что смотреть надо внимательно: скорее всего, надпись теперь полустерта или покрыта мхом… Как она была сделана? Хорошо, если выбита железом. А если выведена непрочной краской? Могла совсем исчезнуть…
Надписей, кстати, хватало: «Гена+Люся», «Здесь были В.Д. и Ю.Ю.», «Яхта «Лотос» 1963 г.», «Да здравствует Метал» (с одним «л»)… Одни надписи четкие, другие слабо различимые. Но ясно, что все эти туристские отметы – советского времени. И никаких «Б» и «Л»…
Царапая ноги о гранитные гребешки, добрались Кинтель и Салазкин до вершины, где лежал похожий на спящего бегемота камень. С другой стороны поднялись Дим, Юрик Завалишин и Маринка…
– Ничего не нашли, – виновато сказала Маринка. – Вы тоже?
Кинтель досадливо молчал.
Они взгромоздились на спинку каменного «бегемота». Ветер обрадовано затрепал галстуки и распущенные рубашки. С высоты была видна вся солнечно-синяя ширь. Вспыхивали барашки. Блестел стеклами далекий город, темнели лесистые берега. Самый близкий берег был примерно в километре, там на склонах пестрели домики пригородного поселка Старые Сосны. Сосны – мохнатые, одинокие – и правда темнели над крышами. Позади поселка зеленой ящеркой бежала электричка.
Небо над озером оставалось ясным, синим, но теперь по нему бежали в сторону Старых Сосен мелкие светлые облака.
Кинтель бросил взгляд вниз, по каменистому склону. В направлении SO. Где там этот проклятый камень? Вон их сколько…
Недалеко от шлюпки, на прибрежном песке возился с костром Корнеич. Дрова благоразумно прихватили с собой.
Корнеич поднял голову и закричал:
– Спускайтесь, обедать пора! Больше часа рыщете там!
Неужели больше часа прошло? И все напрасно…
Спустились – растрепанные, поцарапанные. Порастерявшие прежний азарт. Только Не Бойся Грома радостно сообщил:
– А я вот что нашел! – И помахал противогазом, неизвестно как попавшим на остров. Но находке не обрадовались.
Вскипятили в котелках чай, развернул бутерброды. Принялись за еду энергично, но хмуро. Виновато поглядывали на Кинтеля. А он тоже чувствовал себя виноватым: наговорил про клад, втравил людей в напрасные поиски.
Корнеич сказал:
– Оно и понятно: сразу разве отыщешь?.. А я вот нынче и совсем искать-лазать не могу, деревяшка ноет так занудно…
Салазкин, деловито жуя, отозвался:
– Тебе и не надо. А мы поедим и еще поищем…
Он, сверкая зеленой коленкой, сидел выше всех, на пологом склоне с мелкой травкой. Привалился спиной к отвесному выступу торчащего из земли гранита. Корнеич посмотрел на него, потом вверх. Медленно возразил:
– Нет, братцы, сегодня искать больше не будем. Не нравятся мне эти быстрые тучки. Добраться бы домой, пока не рассвистелось…
– Но как это? Уплывать не солоно хлебавши!
Теперь на Салазкина посмотрели все. И Маринка сказала:
– Кто-то сегодня уже спорил. Чем это кончилось?
Салазкин засопел и заерзал спиной по камню, словно у него зачесался позвоночник.
– Чучело гороховое, ты что делаешь! – Маринка кинулась к нему. – Камень-то в копоти, здесь костер разводили! Всю сажу на рубашку собрал… – Она заставила Салазкина встать, повернула спиной. Спина и правда была пятнисто-черная.
– Я же не знал… – Салазкин вертел головой, пытаясь взглянуть на собственные лопатки. Не сумел, взглянул на злополучный камень. – Я думал, он от природы такой черный… Ой…
Камень уже не был черным. Копоть была счищена рубашкой с плоского серого гранита. Сажа осталась лишь в щелях и углублениях. И в точечных ямках, выбитых чем-то острым. Ямки эти явно складывались в долгожданный знак:
Б+Л
– Ой-ей… – осторожно сказали разом еще несколько человек. Придвинулись, присели у камня на корточках. Смотрели на буквы с полминуты. У Кинтеля не в груди, а где-то у горла нервно перестукивало сердце. Не Бойся Грома и Костик-барабанщик вдруг переглянулись, кинулись к шлюпке, вернулись с маленькой киркой и саперной лопаткой.
– Пустите! – Не Бойся Грома размахнулся киркой.
Корнеич поймал ее:
– Постойте, братцы… Давайте-ка без суеты. Встанем как надо.
Все знали, как надо. Встали в кружок, руки друг другу на плечи.
– Помолчим, – сказал Корнеич. – Загадаем хорошее и попросим судьбу, чтобы не обманула нас…
У Кинтеля одна ладонь на плече Салазкина, другая на плече Андрюшки Локтева. Кинтель зажмурился и в наступившей темноте (зыбкой, с зелеными пятнами) мысленно попросил те добрые силы, которые должны помогать людям: «Пусть найдется… Ну, пожалуйста…»
– Вот так… – выдохнул Корнеич. – А теперь, Кинтель, бери кирку. Твой удар – первый…
И Кинтель взял. И ударил в землю железным острием. У самого камня, под надписью…
Два фута – это сантиметров шестьдесят. Земля оказалась податливая, хотя с каменным щебнем. Работали киркой и лопатой без перерыва, меняя друг друга. Слышались только удары, скрежет и частое дыхание…
И когда яма стала маленькому Костику чуть не до пояса, случилось то, что должно было случиться. Лопатка стукнула о твердое.
Никто не закричал «ура». Молча и нетерпеливо вырыли сколоченный из полусгнивших досочек ящик. Размером с толстую книгу.
Дерево развалилось прямо под пальцами. В ящике оказалось заскорузлое, твердое (когда-то, наверно, промасленное) сукно. Разогнули, разломали его. И увидели железную коробку. Была она довольно тяжелая. Кое-где в пятнах ржавчины, а местами – в сохранившейся золотистой краске с цветным орнаментом. И сбоку различима была витиеватая надпись: «Паровая шоколадная фабрика М. Конради».
– Подождите… – Корнеич взял коробку, протянул Кинтелю: – Открывай.
Кинтель суетливо зацепил ногтями крышку. Она, видимо, приржавела.
– Возьми. – Корнеич протянул открытый складной нож. – Или дай все-таки мне, а то пальцы поуродуешь…
Корнеич сунул лезвие под крышку, надавил… И крышка отскочила, задребезжав.
– Возьми, – опять сказал Корнеич Кинтелю.
Все замерли, сгрудились. Только посвистывал нарастающий ветер. В коробке лежало что-то завернутое в сизую шерстяную тряпицу. Увесистое.
Кинтель сжал нетерпение и не спеша развернул. Вздохнул тихонько и поставил на ладонь темную фигурку.
Костик-барабанщик вдруг засмеялся. Необидно, хорошо так.
– Ой, мальчик… – прошептала Маринка.
– Он золотой, да? – спросил простодушный Му-реныш.
– Бронзовый, наверно, – сказал Корнеич. – Посмотрите, какой славный…
ИСКРА НА НОСУ
Мальчик был ростом сантиметров десять. Он стоял на крошечной квадратной площадке, в рельефе которой угадывалась примятая трава. Стоял в небрежной, несколько озорной позе: чуть выгнулся назад, отставил правую ногу, левый локоть оттопырил, а ладонь сунул в карман. Волосы были легко раскинуты косым пробором, на виске курчавился лихой локон. Круглолицый, курносый мальчишка задорно смотрел на тех, кто вызволил его из многолетней тьмы. И вот что главное! Правую руку он сжал в кулачок и поднял его у плеча. Он приветствовал «Тремолино» давним салютом вольных ребячьих отрядов.
– Чудо какое… Привет, – сказала ему Маринка.
А у Кинтеля каждый нерв, каждая клеточка теплели от ласкового счастья. Чего угодно ждал он, но такого… Это было лучше золотых монет и драгоценностей. Лучше всяких таинственных рукописей и старинного оружия. Лучше всего – по своей радостной неожиданности, по живому ощущению счастливой встречи. Кинтель сейчас испытывал то, что бывало в лучшие минуты их дружбы с Салазкиным, в те моменты, когда сознание вздрагивало от нового толчка: «Господи, как же хорошо, что есть на свете Санки…» Но сейчас еще было и другое. Еще и как бы мгновенно появившаяся нить, которая связывала его с давним временем, с живым Никитой Таировым…
– Можно? – попросил Корнеич. Взял, покачал тяжелую фигурку в ладони. – Да, бронза… Ну, здравствуй, мальчик. Сколько же тебе лет? Наверно, ты из прошлого века…
По первому взгляду это был деревенский мальчуган, только, скорее всего, не из русской, а из какой-нибудь прибалтийской деревни. Или с небогатой городской окраины. В сбившейся, распахнутой на груди рубашке с подвернутыми рукавами, в брючатах длиною до середины икр, в стоптанных башмаках. Судя по всему, не робкого десятка пацан. Вон как по-свойски, без смущения глядит на незнакомых мальчишек. Будто на приятелей, которых встретил после долгой отлучки…
Осторожно, без суеты, по очереди брали ребята бронзового мальчика. Разглядывали, поворачивали. Подмигивали ему.
– Наш человек, – решительно высказался Игорек по прозвищу И-го-го и отдал мальчишке ответный салют.
– Давайте имя ему придумаем, – предложил Сенечка Раух.
– Это уж пусть Даня решает, – ревниво сказал Салазкин.
– А письма никакого в коробке не было? – спросил Юрик Завалишин.
«Зачем письмо? И без него все ясно», – подумал Кинтель. Он так и хотел ответить, но Корнеич вдруг сказал резко и недовольно:
– А ну, тихо, люди!
Кинтель даже обиделся. Но все уже разом отключились от находки и смотрели вверх. Мелкие быстрые облака все больше превращались в тучки. Среди камней нарастал зябкий шелест ветра. Поблекло солнце.
– Ох, не нравится мне это, – признался Корнеич.
И остальным не нравилось. Даже неопытный Кинтель ощутил боязливый холодок. Корнеич, хромая и чертыхаясь шепотом, полез наверх. Ребята тоже. И позади всех Кинтель с бронзовым мальчиком в кулаке.
Сверху видно стало, что южная часть неба затянута серой дымкой, солнце еле светит сквозь нее, а клочковатая облачность на фоне этой дымки густеет на глазах. Взъерошенное озеро было сплошь усыпано гребешками, чайки метались и скандально орали. Ветер стал жестким.
– Кажется, лето кончается, – объявил Не Бойся Грома. Он ежился и подпрыгивал, потирая ноги и локти.
– Судя по всему, влипли, – задумчиво проговорил Корнеич. – Вот ведь паразиты эти синоптики. А еще бастовали, повышения зарплаты требовали.
– Надо сматываться, – сказал Дим. – А то будет поздно.
– Боюсь, что уже поздно, – сумрачно откликнулся Корнеич. – Шквалы пойдут, завалит на галфвинде… Вон как свистит уже… Черт возьми, это я виноват. Знал ведь, что такие штучки бывают в мае, несмотря на благостные прогнозы…
– Ни в чем ты не виноват, – сказал Андрюшка Локтев. – Плыть-то все равно было надо. Без риска не проживешь.
– Рифы на гроте возьмем – проскочим, – предложил Паша Краузе. – Нам бы только до Петушка, а там берег прикроет.
– До Петушка-то сколько пилить, – возразил Корнеич. – На траверзе Кленового мыса запросто может уложить, там даже в нормальную-то погоду часто дует как из форточки… Вон, поглядите, уже будто солью посыпано.
И верно, белые гребешки сплошь покрыли озеро. Видно было, как длинные полосы ветра срывают пену, словно стараются причесать взлохмаченную, посеревшую воду. Солнце совсем исчезло, в ветре прорезался зимний холодок.
– Пошли вниз.
У берега, под защитой скал, вода оставалась довольно спокойной, но видно было, как в сотне метров уже вырастают волны. Костер продолжал уютно потрескивать, ветер почти не залетал сюда. Но все равно не осталось и намека на недавнее тепло. Теперь не только Не Бойся Грома – все ежились и прыгали. Корнеич велел надеть спортивные костюмы.
Между тем день темнел, обещая серьезную непогоду. Корнеич подозвал к себе старших: Пашу Краузе, Сержика Алданова, Юрика Завалишина и Дима – тех, у кого на левом оранжевом рукаве было пришито по четыре золотых угольника с капитанским вензелем. Но и другие слышали разговор командиров.
– Кабы без малышей, – сказал Сержик Алданов.
– А что делать? Это надолго, – заметил Паша Краузе.
– Может, на веслах попробовать? – нерешительно предложил Дим.
– Смеяться-то… – вздохнул Юрик.
Корнеич решил:
– Придется подождать.
– Это надолго, – опять сказал Паша Краузе.
– Понимаю, что надолго. Но бывает, что при таком похолодании первый фронт быстро проходит, и дуть начинает ровнее. Время еще есть…
Было половина пятого. А потемнело так, словно уже совсем вечер. Брызнуло мелким дождиком.
– Этого еще не хватало! – возмутился Корнеич. – А ну, хлопцы, давайте навес!
Тут Кинтель увидел на практике, какой тренированный народ в «Тремолино». Все, кроме него, Кинтеля, даже Муреныш и Костик, знали свое дело. Вмиг были связаны из скрещенных весел стойки, на них положили реек с гротом и кливером, укрепили парусину и весла веревочными оттяжками. Кинтель все же успел удачно помочь Салазкину наладить пару оттяжек…
Дождь уютно зашуршал по парусной ткани, от углей потянуло под навес теплом. Сгрудились все под зыбкой матерчатой крышей. Тесно было – тем более что для тепла надели поверх костюмов спасательные жилеты. Но в этой тесноте опять стало хорошо, надежно. Снова вспомнили про бронзового найденыша (и Кинтель обрадовался этому).
– Давайте поставим его перед всеми, – предложила Маринка.
Мальчика поставили на плоскую плитку гранита, и он – неунывающий – держал у плеча вскинутый кулак: «Не бойтесь, ребята, я с вами».
Юрик Завалишин ухитрился устроиться с гитарой.
Ты лишний раз не говори,
Как бриз качает фонари,
Как он летит по присмиревшим переулкам…
Остальные начали подпевать. А Кинтель слышал эту песенку первый раз. Нет, оказывается, еще не все он знал про «Тремолино». Песенка была вроде бы шуточная, хотя и слегка печальная: о мальчишке, убежавшем из дома и сделавшемся пиратом.
И не беда, что он пират,
Таким пиратам всякий рад,
А кто боится их, пусть пьет побольше брома.
Мы о секретах ни гугу
И лишь споем в своем кругу,
Как жил средь нас пират
Анри Не Бойся Грома…
Виталька довольно сопел, будто песенка и правда про него. Тем более, что в свое время родители долго не пускали его в «Тремолино», и он прибегал в отряд украдкой. Пока не вмешался Корнеич…
Потом на мотив «Катюши» спели «Пиратскую тещу».
У бабуси от ударов гиком
Вся в могучих шишках голова…
Но чего-то все-таки не хватало в этих песнях для ощущения полной дружеской прочности. И тогда Юрик ударил по струнам иначе:
Над волнами нам плыть,
По дорогам шагать,
Штормовые рассветы встречать…
Тут заметнее других зазвенел ясный голосок Салазкина. Это была его песня. А Кинтель не столько пел, сколько для виду шевелил губами. Не потому, что стеснялся, а просто какой из него певец. Не голос, а одно сипение. Но сердце его было всё в этой песне.
Скоро день расцветет,
Словно огненный клен,
Голос горна тревожно-певуч.
Подымайся, мой мальчик,
Рассвет раскален…
После этого ничего уже не было страшно. Пускай хоть африканский торнадо свистит… И Кинтель вместе с другими гаркнул «ура», когда Корнеич решил:
– Делать нечего, братцы, выход один: с попутным ветром до ближнего берега – это около полумили. Там, у Старых Сосен, рыбачья станция. Оставим у них шлюпку, а сами – на электричке. А то родители небось уже в полной панике…
Ближнего берега тоже не было сейчас видно за мглой и моросью. Но Виталик Не Бойся Грома бодро сказал:
– Не океан, мимо земли не проплывем.
– Да, но левее базы подводные камни, – предупредил Корнеич. – Если промахнемся, хряпнет за милую душу… – И велел: – Маринка, надо сделать треугольник. Будем поднимать к топу.
Отшнуровали четырехугольный шлюпочный кливер. Заложили верхний угол так, чтобы парус превратился в треугольник. Маринка взяла толстенную иглу, суровой ниткой притянула угол и края рядом с ним к парусине.
Залили костер, погрузили имущество. Сдвинули шлюпку дальше в воду. Подняли к верхушке мачты маленький парус-треугольник. Он задрожал, забился. Все сняли, спрятали за пазухи береты – а то запросто сдует.
– Данилка, садись на пайолы, к мачте, – сказал Корнеич. – А с тобой пусть Муреныш и Костик.
Кинтель понял: его, как самого неопытного, вместе с маленькими сажают вниз, в центр шлюпки, для балласта. Но он и не подумал обижаться! Тем более, что Корнеич сказал непривычно и ласково: «Данилка». Сроду никто Кинтеля так не называл.
Послушно и быстро – это всё, что он мог, – Кинтель сел на планковые слани, лицом к форштевню и парусу. Спиной прислонился к дощатой банке. Обхватил за плечи Муреныша и Костика, которые приткнулись справа и слева. Стуча протезом, к рулю пробрался Корнеич. Ветер (здесь еще не сильный) дергал его медные космы. Юрик Завалишин, Сержик Алданов, Дим и Паша Краузе встали на носу с длинными веслами, уперлись рукоятями с вальками в дно и в береговой песок. Остальные без суеты расселись по бортам. Не Бойся Грома привычно ухватил кливер-шкот.
– С Богом, – сказал Корнеич.
Налегли на весла, заскрипел песок, потом «Тортиллу» качнуло на свободной воде. Капитаны попрыгали вниз, уложили весла вдоль бортов.
– Кливер на ветер…
Шлюпку стало разворачивать, все быстрее, быстрее, парус дернулся последний раз и надулся теперь уже как надо. Остров оказался за кормой. Сквозь шум ветра стало слышно бурление кильватерной струи. Кинтель оглянулся. Берег заметно отодвигался. Ветер ударил хлестко, с промозглым холодом. Сверху сыпался не то дождь, не то крупа. Набежала сзади волна, подняла и резко опустила шлюпку.
– Началось, – негромко сказала Маринка.
Салазкин сидел на бортовой банке между И-го-го и Андрюшкой. Встретился с Кинтелем глазами, улыбнулся – неловко, на себя не похоже.
Да что они все? Думают, что если Кинтель новичок, то у него душа в пятках?
Он ничуть не боялся! Если был нервный холод в мышцах, то от зябкости, от ветра, от мороси. А ни в какие несчастья Кинтель не верил! Тем более, что с ним талисман – бронзовый неунывающий мальчишка. Кинтель сунул его под трикотажную фуфайку, и уголок подставки покалывал ему живот…
Волны стали крупнее, поднимали «Тортиллу» все размашистее. Мало того, еще и качали с борта на борт. Потому что гребни шли теперь не прямо с кормы, а наискосок.
– Корнеич, ты привелся, что ли? – сказал Паша. – Гляди, уже не фордевинд, а бакштаг.
– Это ветер зашел!
– Снесет нас… доннерветтер унд таузенд тойфель, как говорили мои остзейские предки…
– И каррамба, – подал бодрый голосок Костик у Кинтеля из-под локтя.
– И тысяча дохлых медуз за шиворот синоптикам, – сказал Сенечка Раух.
– Не гневите Небеса, мальчики, – попросил Корнеич.
Но поздно. Небеса ответили таким хлестким порывом, что шлюпку круто положило на левый борт, а Маринка тихо сказала «мама».
– С левого борта – на слани! Паша и Дим, откренивайте активнее! – велел Корнеич. – Женщины и дети, без паники…
– Сам ты «женщины и дети», – жалобно огрызнулась Маринка. – Между прочим, я плавать не умею…
Все засмеялись.
– Она это каждый раз говорит, – сказал Салазкин оглянувшемуся Кинтелю. – А сама как русалка.
– В такой воде все русалки мигом передохнут, – заявила Маринка. – Градусов пять, не больше… Ай, мама… – Это новая порция ледяной крупы ударила по щекам.
Кинтель проморгался и глянул вперед. Берега не было видно – свистящая мгла. Остров Шаман за кормой тоже исчез. Переваливаясь и хватая иногда бортом воду, «Тортилла» неслась вовсе не по-черепашьи. Казалось, прошел уже целый час… Ветер стал суше, и вдруг полетели снежные мухи…
– Окрестность исчезла во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега, – сказал Сержик Алданов. – А. Эс. Пушкин, «Повести Белкина», «Метель». Недавно писали изложение…
– И кто мог подумать тогда, в какую переделку мы попадем! – в тон ему подхватил Юрик Завалишин.
Снег летел все гуще, застревал в волосах, липнул к парусу. Дунуло крепче прежнего, плеснуло гребнем через наветренный борт.
– Я так не играю! – возмутился Не Бойся Грома. – Шкот не удержать, возьмите кто-нибудь еще!.. Данилка, возьми ты!
Кинтель ухватил конец пенькового троса. Сильно дернуло кожу на ладонях. Но вдвоем держать – это не трудно.
«А что они сегодня, сговорились, что ли? Всё «Данилка» и «Данилка»…»
Где же он, берег-то? Судя по времени, давно пора ему быть, вон какая скорость.
Опять хлестнуло – по тем, кто откренивал.
– Подо мной совершенно мокро, – пожаловался И-го-го.
– И подо мной, – сообщил Андрюшка Локтев. И верный своей склонности все уточнять, добавил: – Но не думайте, не потому…
– Знаем почему… – неуверенно пошутил Костик-барабанщик.
«Батюшки, а это ведь настоящий шторм… И… значит, конец может быть всякий?»
Сенечка Раух звонко пообещал:
– Если все кончится хорошо, буду всегда слушаться бабушку и делать зарядку!..
– Грех давать невыполнимые обеты, – сказал от руля Корнеич.
– Я буду выполнять! Ну, не всегда, а хотя бы по выходным…
Кинтель оглянулся на Салазкина: как он там? Салазкин мотал головой, отплевываясь от снега. Так по-будничному…
«Тортиллу» опять подняло на волну, и тогда сквозь мглу и летящий снег замаячило впереди желтое пятно.
– Огонь впереди! – завопил Не Бойся Грома. – Справа по курсу! Приводись!
Шлюпка пошла было носом вправо, но ход сразу упал. Новые гребни ударили в борт.
– Не вырезаться под кливером! – крикнул Корнеич. – Капитаны, на весла!
Не очень ловко (попробуйте при такой болтанке), чертыхаясь и путаясь, вставили уключины, выдвинули две пары весел. Сели на них Паша, Дим, Сержик, Юрик. В помощь им встали напротив И-го-го, Салазкин, Сенечка, Андрюшка. Взмахнули, налегли… Лопасти то зарывались, то чиркали по гребням.
Темной массой проступил впереди берег. Фонарь светил оттуда сквозь летящий снег будто желтая звезда. И кто-то неразборчиво кричал в мегафон. Шлюпка пошла на огонь.
– Нормально, братцы! Навались еще! – крикнул Корнеич. – А, черт! – Это килем грохнуло о камень. Раз, другой. Стали…
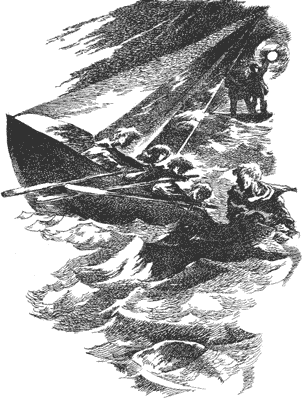 Муреныш под боком у Кинтеля всхлипнул. Костик сказал:
Муреныш под боком у Кинтеля всхлипнул. Костик сказал:
– Не бойся. Раз камень, значит, уже неглубоко. Выберемся.
– Я не боюсь. Я ногу отсидел, больно… – Муреныш завозился виновато и сердито.
– Двое с веслами на корму! Толкаться! – приказал Корнеич. Но еще одна волна милостиво сняла «Тортиллу» с камня.
– Отставить! Нажмите, люди! Вот так…
Справа возник пирс, на нем стояли двое: большой и маленький. У маленького в руках сиял электрическим огнем рефлектор.
– Бери левее! – гаркнул мегафон. – Теперь прямо! Вот так, лады…
Качать перестало. Волны безвредно бились о бетонную стенку гавани. «Тортилла» по инерции шла к причалу.
– Егоров, ты, что ли?! – крикнул с кормы Кор-неич.
– Кто, как не я!.. Ваш Васильич мне трезвонит каждые пять минут, волосы на себе рвет: как вы там на Каменном!.. И у него катера нет, и у меня мотор по закону подлости разобран. Хотели уже звонить «Буревестнику», просить, чтобы крейсерскую яхту за вами послали. Или милицию на ихней плавучей платформе…
– Этого еще не хватало, – сказал Корнеич.
Егоров оказался молодым дядькой со шкиперской бородкой. Его помощником – Федор, белоголовое существо лет восьми, в резиновых сапожищах и ватнике до колен. Федор по-хозяйски сказал:
– Пап, я чайник на плиту поставлю. – И с фонарем зашагал к домику.
В шумном бестолковом разговоре, в сетованиях на подлую погоду закрепили у пирса шлюпку, убрали парус, вынесли на причал Муреныша, растерли ему ногу. Он стеснялся недавних слез, сопел. Паша Краузе взял его на руки.
Егоров повел ребят в дом. Корнеич поспешил вперед – звонить дяде Грише, чтобы не поднимал паники.
В дощатой комнате с табуретками и голым столом было тепло. Показалось, что жарко даже. Скинули спасательные жилеты, постягивали промокшие спортивные костюмы. Хотели уложить Муреныша, но он уже ступал на ногу, только прихрамывал.
И-го-го сказал Кинтелю:
– Все по правилам. Приключение.
Мы давно уж ждали старта,
Не сиделось по домам,
И таинственная карта
Привела нас на Шаман.
Грунт на острове не мягок,
Но отрыли старый клад.
И сперва была штормяга,
А потом пошло на лад…
Это я прямо в шлюпке сочинил, прямо сейчас…
– Лермонтов, – сказал Кинтель искренне. – Евтушенко… – Он радостно ежился. Теперь казалось, что все это – волны и снежные вихри – длилось лишь минуту.
Салазкин проговорил покаянно:
– Все из-за меня. Корнеич правильно говорил: будет ЧП.
Андрюшка Локтев решительно восстановил справедливость:
– Если бы не ты, ничего бы не нашли. Это ведь ты буквы на камне отчистил!.. Данилка, ты Сане должен самолично рубашку выстирать. В благодарность…
– Ладно, – счастливо пообещал Кинтель.
– Вот еще, – притворно надулся Салазкин. Уселся на табурет, привалился к стенке, привычно потянулся к родинке на покрытом размытой зеленкой колене.
– Опять! – прикрикнул Кинтель. – Дам по пальцам!
Салазкин засмеялся, болтнул ногами в отсыревших кроссовках. Одна сорвалась, ее поймал на лету Сенечка Раух:
– Без выкупа не отдам!
– Возьми на память! – веселился Салазкин. – Чтобы не забыл, как обещал слушаться бабушку и делать зарядку!
– Только по воскресеньям!..
Кинтель вдруг ощутил толчок неожиданного горячего счастья. Оттого, что все именно так. Шторм позади, все вокруг радуются, а бронзовый мальчик – клад! – вот он, в кулаке. И еще от понимания, что именно сегодня он, Кинтель, Данька Рафалов (Данилка!), стал в «Тремолино» окончательно своим.
Пришел Егоров с пышущим чайником. Федор тащил за ним связку эмалированных кружек. Следом появился Корнеич. Сообщил, что успокоил по телефону дядю Гришу (а то он и правда хотел уже водную милицию о помощи просить). А еще позвонил Тане, чтобы всем родителям, которые начнут трезвонить и справляться о судьбе своих чад, сообщала: целы-невредимы, едут электричкой…
После чая все осоловели. Двигаться было лень, и даже разговаривать не хотелось. Сонно ждали, когда, развешанные у горячей печурки, высохнут спортивные штаны и фуфайки. Но скоро оказалось, что теплые костюмы не так уж нужны: за окном резко светлело и так же стремительно возвращалось тепло. Таяли на траве остатки снега, выкатилось солнце. Оно опять грело сквозь рубашки плечи, когда ребята повыскакивали из дома. Недавно казалось, что на дворе поздний вечер, и вот, пожалуйста, опять день. В мае в семь часов – еще яркое солнышко…
Будто не было ни мглы, ни снежного шквала!
Когда шли на станцию Старые Сосны, выбрались на шоссе. По нему катил пустой автобус «Уралец». Наверно, с какой-то спортивной базы. Корнеич голоснул. Автобус затормозил. Корнеич поговорил с водителем.
– Ну садитесь, – добродушно разрешил пожилой дядька. – Как не подвезти, если вы такие красивые… А я думал, пионеры у нас перевелись.
– Не все, – гордо сказал Костик-барабанщик. – Те, которые морские, они живучие…
Ух как уютно было ехать в этом, будто специально для них посланном «Уральце»! Он катил ровно, ласково урчал мотором. Кое-кто стал клевать носом. Но Корнеич вдруг сказал:
– Данилушка, покажи-ка еще нашего найденыша. Теперь самое время.
И все сгрудились у сиденья, где ехали Кинтель и Салазкин. Бронзовый мальчик опять пошел по рукам.
– Смотрите-ка, здесь что-то написано! – обнаружил И-го-го. – Латинские буквы…
По краю бронзовой подставки была выбита мелкая надпись: «M. BAUER».
– «Бауэр» – по-немецки «крестьянин», – сказал Паша.
– А «Эм» – значит «маленький»! – сунулся Костик. – Маленький крестьянин.
– «Маленький» по-немецки «кляйнер», – возразил Паша.
– Эм. Бауэр – это, наверно, имя мастера, который делал статуэтку, – решил Корнеич.
– Виталик, он на тебя похож, – сказала Маринка.
– Конечно! – Не Бойся Грома выскочил в проход между сиденьями, встал горделиво – кулак над плечом. – Салют!
– Неужели тогда уже были такие салюты? – удивился И-го-го.
– А может быть, он скаут? – предположил Костик. – Они ведь были еще и до революции.
– Ну да! Без галстука-то! – заспорил Виталик. – И у скаутов не такой салют, у них три пальца вверх…
Корнеич пригляделся:
– А по-моему, он что-то держал в кулаке. Взгляните-ка, кулак вроде бы просверлен…
И правда, под сжатыми пальцами был круглый проем. Словно когда-то кулак мальчишки сжимал не то палку, не то дудку.
– Может, подзорную трубу? – сказала Маринка. – Вдруг это маленький капитан?
«А если не подзорную, а сигнальную?» – подумал Кинтель. Но постеснялся сказать. Да к тому же сообразил: изогнутую трубу не просунешь в бронзовый кулак…
– Если и держал что-то, теперь уже не узнать, – заметил Дим. – Да и зачем? Пускай считается, что он приветствует нас…
Сенечка Раух взял статуэтку, повернул к свету.
– Весь темный, а нос блестит! Вот! – На задорном носу бронзового мальчишки зажглась от низкого солнца искра.
– Потому что нос – он самый выступающий, – внес ясность Андрюша Локтев. – Пальцами натерли, хватают все.
– Нет, – сказал Сенечка, – локти и кулаки тоже ведь выступающие, а не блестят. А то, что искра на носу, я сразу увидел. Там, на Шамане…
ЧТО ОН ДЕРЖАЛ В РУКЕ
Утром Кинтель взял бронзового мальчика с собой. Положить его в сумку не решился – помнил историю с «Морским уставом», – сунул в карман. Это оказалось не очень-то удобно, уголки подставки царапали сквозь подкладку ногу, шорты от тяжести съезжали, пришлось покрепче затянуть флотский пояс. Кинтель пошел в школу в отрядной форме из какого-то веселого упрямства. А еще – из чувства особой, щемящей душу преданности «Тремолино», которая во много раз выросла после вчерашнего штормового плавания. И кроме того, хотелось почему-то снова поддразнить своим видом Алку Баранову (а может, просто покрасоваться перед ней?).
А потом он (если Алка не будет чересчур воображать и насмешничать) похвастается вчерашней экспедицией на Шаман и покажет находку…
Но Алка в школу почему-то не пришла. Кинтелю слегка взгрустнулось.
Кстати, никто особого внимания на его форму не обратил: школа пестрела всякими нарядами, день стоял совершенно летний, словно и не было вчера «арктического плевка». Лишь один старшеклассник, смерив Кинтеля взглядом, заметил: «Во, еще один скаутенок вылупился». И получил в ответ «драного козла». Однако за Кинтелем не погнался: старших одолевали более крупные заботы. Одиннадцатые классы бунтовали, не желая сдавать экзамены по программе, утвержденной педсоветом. Глядя на них, волновались и девятые…
После шестого урока Кинтель встретил у школы Салазкина: такого же оранжевого и при аксельбантах. Кинтель весело сказал:
– Вот узнает Корнеич, что мы форму в школе треплем, будем нам на орехи.
Салазкин слегка смутился – видать, вспомнил вчерашнюю неприятность. На коленке у него все еще заметны были следы зеленки. Кинтель тихо спросил:
– Ты вчера, наверно, здорово на него обиделся, да?
Салазкин вскинул глаза – такие, будто и в них капнули зеленкой.
– Что ты! Ничуть… Я сам был сплошной дурак. А он ведь за каждого отвечает… Даня, ты заметил, как он перекрестился, когда сошли на пирс? Там, в Старых Соснах…
– Я… нет…
– Дело-то ведь было нешуточное, – совсем по-взрослому сказал Салазкин. – Особенно когда о камни грохнуло…
– Я толком, кажется, ничего и не понял, – признался Кинтель. – Потому что новичок…
– Теперь уж какой ты новичок!.. А если бы что-то случилось, это было бы навеки ЧП имени Александра Денисова. Потому что я наворожил. Своей дурью.
Кинтель помолчал и спросил, преодолев неловкость:
– Санки, а ты заметил: меня вчера почему-то перестали Кинтелем называть? Всё «Данилка» и «Данилка»…
– А тебе как больше нравится? По-новому или по-старому?
– По-всякому, – вздохнул Кинтель. – Ладно, пока. Я побегу, дед сейчас как раз на обед придет. Он ведь еще ничего не знает про это… – Кинтель похлопал по отвисшему карману.
Дед поставил бронзового мальчика перед собой и смотрел на него с хорошей, чуть печальной улыбкой. С такой же, с которой рассказывал Кинтелю о своем детстве: как гоняли на пустырях тряпичный мяч, пробирались без билета в летний фанерный цирк в городском сквере и устраивали на Сожинском спуске гонки на построенных из досок самокатах…
– И нос блестит… Так в точности блестел нос у моего приятеля, рыжего Вовки Постовалова, когда мать насильно умоет и вытрет его… И так же он замахивался на обидчиков.
– Думаешь, он замахивается? – спросил Кинтель. В жесте мальчишки вроде бы не было угрозы. Кулак, поднятый к плечу и повернутый сжатыми пальцами вперед, все-таки означал, скорее всего, приветствие. – Похоже на салют. Ну вроде как «рот-фронт»…
– Пожалуй, – согласился дед. – Хотя в ту пору не было еще никаких «рот-фронтов»… А может, он заступается за кого-то? Без особой агрессивности, но с ощущением своей силы и справедливости…
– Слишком беззаботно стоит… Смотри, Толич, он что-то держал в руке, кулак просверлен.
– В самом деле… А может быть, не держал, а держался? Видишь, слегка отклонился влево.
– За что держался?!
– Ну, скажем, за ветку, за ручку колодезного ворота… за что угодно.
– А где тогда это «что угодно»?
– Видишь ли, мальчик мог быть не сам по себе, а деталью какой-то композиции. Скажем, большого письменного прибора. А на приборе мастер мог понастроить все что хочешь. Бронзовые вещи были тогда в моде.
Кинтелю это не понравилось. Не хотелось, чтобы мальчишка был чем-то вроде шахматной фигурки среди множества других. Нет, он – сам по себе. Веселый, храбрый, встретивший друзей. «Вот и я! Возьмите меня в «Тремолино»!»
– По-моему, он не от прибора. Смотри, здесь имя мастера выбито. Разве мастер стал бы свое клеймо ставить на каждую детальку? Выбил бы на общей площадке… Нет, этот пацан сам по себе отлитый!
– Возможно, возможно, – покладисто сказал дед. И уже как-то рассеянно. Сел на диван, откинулся к спинке, ладони – под затылок.
– Толич, а Оля… мама твоя… она ничего про бронзового мальчика не говорила? Может, это была у них с Никитой общая игрушка, а потом он спрятал ее для тайны…
– Нет, Даня, не помню… Мало ли у мамы было игрушек… Может быть, они об этом мальчике что-то в своих детских дневниках писали…
– А где дневники?!
– Вот и я про то, что «где»… Сожгла мама все в тридцатых годах. Все старые бумаги.
– Зачем?!
– Господи, «зачем»… Я же рассказывал тебе, какое было время. Боялись всякой мелочи. Вдруг кто-то прочитает, что твой дед был владельцем лавки! Буржуй, эксплуататор, враг трудового народа! Или на снимке увидят какого-нибудь твоего дальнего родственника в фуражке с кокардой. «В вашей семье были белогвардейцы?..»
– Все равно, – с обидой сказал Кинтель. – Можно было спрятать получше. Чего уж так трястись-то?
– Вот так, мой милый, и тряслись… – Дед смотрел перед собой. И в голосе была горестная усмешка. – Многие годы в постоянном страхе. А мама особенно. Если бы узнали, что ее муж был священником…
Кинтель сел рядом с дедом, поставил пятки на диван, а мальчика – себе на колено. Мальчик покачался и встал прочно. Искра блестела, лицо было задорное. Мальчик не понимал, как можно жить в постоянном страхе. И Кинтель сказал:
– Это же немыслимо: бояться с утра до вечера, каждый день…
– Никто из молодых этого не понимает. А это было. И жили… И считали, что нормально. Потому что ничего другого не знали. Нам же с рождения вдалбливали, что наша страна самая справедливая, а там, на остальном белом свете, сплошной гнет и насилие… И сравнивать было не с чем… Вот представь, вылупился из икринки карась в каком-нибудь полуозере-полуболоте. Что он знает о реках и океанах? Он считает, что болото его – весь мир, такой, каким он и должен быть…
– Человек, он ведь не карась, – тихо возразил Кинтель. Было не то чтобы жаль деда, а как-то неловко за него.
– Да… И где-то пробивалась, конечно, правда. Из обрывков каких-то, из старых книг. И того же Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Понятия о какой-то общей, всечеловеческой совести. Но ведь, с другой стороны, каждый день: «Самая главная правда на Земле – коммунизм!» И попробуй в этой правде усомниться! Даже мысленно – и то страшно: неужели я враг своему народу? А уж открыто…
– Но были же… которые против…
– Были, но немногие. Если даже и понимали, что к чему, то все равно… Далеко не каждый может быть героем…
«Ты уже говорил про это», – подумал Кинтель.
– Понимаешь, какая подлая система! Она все время держала людей на грани! На страхе! Вспомни, ведь еще недавно все хором одобряли войну с Афганистаном! А если и проклинали, то шепотом. Многие ли выступали открыто?.. И это совсем в ближние времена. А раньше… И это в любой момент могло коснуться каждого.
– Что «это»? – сказал Кинтель, покачивая мальчика.
– Ты ведь до сих пор не знаешь, почему я перестал быть морским врачом…
– Ты говорил: из-за сердца… А по правде почему? – Кинтель покосился на деда. Тот по-прежнему сидел с ладонями под затылком, смотрел перед собой.
– Плавал я на «Донецке» уже два года, когда появился у нас новый первый помощник капитана. Первый – значит, помполит. «Помпа». Не штурман, а комиссар, который бдит за правильностью идеологии. И вот, когда стояли мы в Архангельске, пригласил он меня к себе в каюту. А там еще один – незнакомый, с лысинкой, в пенсне и в штатском костюме. Какой-то весь увертливый. Молчит, только слушает. А «помпа» заводит разговор: «Вы, Виктор Анатольевич, молодой специалист, член партии, сознательный человек, разбираетесь в обстановке. Не согласитесь ли нам помочь…»
Гляжу я на лысого: ясно, кому это нам. Вербуют в стукачи, сволочи. Чтобы следить за своими и капать, кто что сказал и сделал. И первая мысль, конечно: послать их… А вторая: послать-то послал, но тогда – что? Вмиг найдется повод – прощай заграница. А предстоял рейс на Кубу – давняя мечта моя. Был я молод и горел жаждой путешествий. До той поры, кстати, бывал только в скандинавских портах да в Польше и Германии. И вот ситуация: с одной стороны – Антилы, пальмы, летучие рыбы, восторг тропиков, а с другой… Думаю – а что с другой? Ну, скажу этим типам: ладно. Потом и отвертеться можно. Да и в конце концов, не гестапо же сотрудничать приглашает, не ФБР или ЦРУ, а свои, советские. Вдруг и правда за границей какое шпионство встретится?»
«Ну, – говорю, – в общем-то я не знаю. Такое дело… Тут ответственность особая, и способности нужны…»
И тогда встревает лысый. Прямо как в старом анекдоте: «А вы попробуйте, Виктор Анатольевич. Попытка – не пытка. Мы вам доверяем…»
Ну и… не сказал я «нет». Пробормотал, что попробую, мол, раз уж так это надо…
Ничего особенного и не было сперва. Несколько раз помполит спрашивал между делом: «Ну, о чем говорят?» – «Да ничего такого, – отвечаю. – Вы же не хуже моего знаете. Экипаж у нас дружный, сплоченный, идейно выдержанный… Анекдоты, правда, травят, да не про политику, а все больше такие, знаете ли, неприличные, как всегда мужики в своем кругу…»
Пришли в Гавану, начались увольнения. Разбивают по трое, в одиночку ни-ни… Один в тройке – старший. Ну, пошли мы однажды гулять по старому городу: я, радист Веня Соловьев и матрос Рябов. Не помню, как звали. Довольно пожилой уже, малоразговорчивый… Бродили мы, на старые бастионы смотрели, на мулаток. Потом решили в церковь зайти. Неужели, говорит Веня, революционные кубинцы Богу молятся? Зашли. Молятся. И пожилые, и молодежь. Даже два мальчика священнику помогают. Ну а особенно и смотреть нечего, церковь скромненькая, не то что соборы в Гданьске или Гамбурге… Одна картина мне понравилась, в боковом приделе. Богоматерь с Младенцем. Будто живые. Рябов тоже подошел, смотрит. А потом задержался еще, вижу: перекрестился украдкой…
А наутро вызывает меня «помпа»: что нового? «Да ничего, – говорю, – все в ажуре». – «В самом деле? – И прищурился. – А то, что матрос Рябов религиозные ритуалы в иностранной церкви демонстрировал, тоже «в ажуре»?»
Значит, радист стукнул, паразит…
Мне бы заверить помпу: не видел, и все тут. А меня забрало за печенку. Видно, есть предел человеческому маразму. «Не обратил, – говорю, – внимания, товарищ первый помощник. А если бы и обратил, не счел бы данный факт нарушением. Потому как у нас вроде бы по Конституции свобода совести, и каждый имеет право…» – «Даже за границей, где на нас постоянно направлены десятки вражеских глаз?!» – «А что он, – спрашиваю, – антисоветские лозунги, что ли, на паперти декламировал?» – «Ну-ну, – говорит «помпа». – Вашу оригинальную точку зрения вынужден я буду сообщить куда следует…» Тут меня и прорвало: «Только попробуй, сволочь! Там «где следует» узнают и то, как ты на одеколон «Кармен» кораллы выменивал, которые к вывозу с Кубы запрещены! И что у тебя за дверной обшивкой спрятано!»
Про обшивку я уж так, наугад. Знал, что таким образом многие мелкую контрабанду прячут. Он, смотрю, побелел, процедил: «Идите…» Ну и на том наши контакты кончились до завершения рейса. А рейс длинный был. Я пару дней помучился всякими сомнениями (потому как не герой), а потом по наивности стал думать, что всё обойдется.
Пришли опять в Архангельск, заглянул я с приятелями в ресторан отметить возвращение. Там какая-то шпана стала нарываться на скандал. И тут же – милиция. Загребли не их, а нас. Протокол об участии в коллективной драке (которой вовсе и не было). Загранвиза – прости-прощай… Тут я смекнул, чьих рук дело. По глупости попробовал права качать. Меня на медкомиссию: у вас сердце барахлит, не годитесь для плавсостава. А потом в военкомат: на два года пойдешь служить как офицер запаса. Я говорю: «У меня же сердце не в порядке!» – «Это там у вас сердце, а для нас в самый раз…» Ну и оттрубил «две зимы, две весны» в Казахстане. Кстати, не жалею, хорошие там были ребята. Хотя, конечно, пришлось несладко. С Кларой, с бабушкой твоей, и с маленьким Валеркой обитали втроем в крошечной комнатке общежития… Потом вернулись сюда, ушел в санавиацию (и сердце оказалось ни при чем). В море больше не совался… Так и живу. С грязной плямбой на душе…
– С чего плямба-то… – скованно сказал Кинтель. – Ты же никого… не предал.
– Кроме себя. Когда не сказал сразу «нет», предал себя самого. Тут уж никуда не денешься… Спустил флаг, как Семен Михайлович Стройников…
– Стройников, может, посмелей многих был! – вскинулся Кинтель. – Он людей спасал!
– Ну… может быть. Тем более. А я спасал себя…
– Ничего себе «спасал»! Послал эту помпу ко всем чертям!
– Нет, Данилка, не обольщайся, дед у тебя никогда не был смелой личностью.
Кинтель встал, поставил мальчика на край стола. Потрогал на его виске бронзовый завиток. Сказал не оборачиваясь:
– Я знаю, почему ты на себя наговариваешь. «Видишь, какой я плохой, не жалей, что уехал от меня… И не вздумай возвращаться…»
Дед резко заскрипел диваном.
– Ты рехнулся? Да хоть сегодня перебирайся обратно!
– Нет уж, – вздохнул Кинтель. – Теперь нельзя. Сам знаешь…
Он затолкал мальчика в карман, пошел к двери. И, опять не решившись оглянуться, проговорил:
– Ты про себя хоть что рассказывай. А я тебя… все равно любить буду, не запретишь. – Он быстро вышел из квартиры и побежал к лифту.
Слышал сквозь дверь, как из кухни кричит тетя Варя:
– Данила! А обедать?!
Пообедал он у Денисовых. Санькина мама встретила Кинтеля на улице, попросила поднести до подъезда тяжелую сумку, а потом не отпустила: повела «без всяких разговоров» есть суп и сосиски, который раздобыла по великой счастливой случайности. «А то вон какой тощий! В точности как мой обормот…» Кинтель давно уже был в доме у Салазкина своим человеком, стесняться и отказываться не стал. Тем более, что сосиски последний раз он ел в прошлом году.
Отец Салазкина оказался дома, сели обедать вместе. На кухне, по-домашнему. И Кинтель за столом рассказал Александру Михайловичу и Санькиной маме о всех вчерашних приключениях. Многое родители знали уже от Салазкина, но бронзового мальчика видели, конечно, впервые.
– Если бы наш Санечка не расчистил спиной камень, ничего бы не было, – подвел итог Кинтель.
– Вчера вечером сам рубашку стирал, – сказала мама Салазкина. – Чтобы сегодня отправиться в ней в школу. До того упрямый стал…
Бронзовый мальчик стоял среди тарелок и блестел искрой на носу…
Дома Кинтеля сурово встретила Регишка:
– Где тебя носит? Я целый день одна…
– Большая уже. Занялась бы хозяйством.
– Я и так… Пойдем в парк?
– Мартышка, у меня завтра английский. Англичанка грозила парой за четверть тем, кто перевода не сдаст.
Уже пришел отец и грел на кухне ужин, а Кинтель все еще корпел над письменным переводом. Наконец закончил. Теперь не страшно, пускай спрашивают. Надо только для гарантии сверить текст у Алки…
И тут он вспомнил про Алкин подарок. Деревянное яйцо так и лежало в спортивной сумке, под костюмом!
Кинтель вытащил яйцо, покатал в ладонях. Показалось – внутри что-то стукнуло. Разве оно не сплошное? Кинтель поднес яйцо к окну, под вечерние лучи, пригляделся. Тонюсенькая щель делила яйцо пополам. Кинтель сжал скользкое дерево пальцами, поднатужился. Половинки скрипнули, шевельнулись. Кинтель сунул в щель ногти… Ура!..
В яйце пряталась голубая пластмассовая коробочка. В ней, опутанный тонкими проводками, лежал крошечный фонарик.
Он был шестигранный. Из прозрачной пластмассы, витой проволоки и древесного шпона. Такие фонари ставят на моделях старинных кораблей. И Кинтель сразу вспомнил про Алкиного брата, который занимался в судомодельном кружке.
Специально заказывала? Или выпросила готовый? Ну, Алка…
Внутри виднелась лампочка от карманного фонарика.
Стесненно улыбаясь – не столько лицом, сколько в душе, – Кинтель вышел из дому, позвонил Алке из ближнего автомата:
– Привет. Кинтель это…
– А! Здравствуй… – Она как-то грустновато это сказала.
– Слушай, а я ведь только сейчас открыл яйцо-то! Вчера не догадался.
– Ты всегда был недогадливый…
– Ладно тебе! В общем… спасибо.
– На здоровье… Данилка.
С ума сойти! И она туда же!
Но тут Алка сказала уже веселее:
– Там проводки. Соединишь с батарейкой – загорится.
– Конечно! Я понял!
– Вот и хорошо.
– Слушай, Алка… А ты, что ли, специально вчера в такую даль перлась, меня у подъезда караулила? Чтобы подарок отдать?
– Не выдумывай! У нас на Сортировке знакомые, я к ним ездила по делу! А фонарик захватила… так, на всякий случай.
– Врешь небось, – сказал Кинтель задумчиво.
– Ну, считай, что вру… Включишь фонарик – вспомнишь…
– Я тебя, моя овечка, и так всегда помню, – перешел Кинтель на обычный тон. – И сейчас тоже. Ты английский перевела?.. Ой, а почему тебя сегодня в школе не было? – спохватился он. – Завтра-то придешь?
– Не приду, Данилушка, – усмехнулась она. Странно как-то, будто издалека. – Я теперь вовсе не приду.
– Ты… чего это? Почему?
– Завтра уезжаем в Москву. А потом насовсем.
– Как это? Куда?
– Ты глупенький, да?
 – Наверно… да, – сказал он без обиды. С неожиданной грустью.
– Наверно… да, – сказал он без обиды. С неожиданной грустью.
– Туда, куда едут люди с фамилией Шварцман…
– Но… ты же… – Он совсем растерялся. Он же ее, Баранову, с детского сада знал.
– У меня мамина фамилия. А у папы Шварцман… Все документы уже оформлены и визы…
– Ну ты даешь, Алка… – потерянно сказал Кинтель.
– Так что зажигай иногда фонарик…
Кинтель кашлянул и попросил серьезно:
– Давай, Баранчик, встретимся. Хоть на минутку.
– Зачем, Данилка?
– Ну… попрощаемся по-человечески.
– Мы вчера хорошо попрощались. Я тебя таким красивым запомнила… – Опять привычная Алкина насмешливость шевельнулась в голосе. Но чуть-чуть, ласково так…
Кинтель молчал. Алка сказала, как взрослая маленькому:
– Не расстраивайся. Может, я тебе письмо напишу.
– Ты же адрес не знаешь!
– Если бы не знала… как бы вчера оказалась у твоего дома?.. – И пискнуло в трубке, заныли противные гудки.
Постоял Кинтель в будке. Подумал: не набрать ли номер снова? Не решился. Да и что тут скажешь? К тому же и двушки больше не было.
Большой печали Кинтель не чувствовал. Скорее грустную растерянность: «Эх ты, Алка… Как же я теперь без тебя-то? Ни английский сдуть, ни подразнить, как бывало…» Но если копнуть себя поглубже, было за этой несерьезной грустью что-то еще. Более скрытое, тревожное и горькое. Словами не скажешь.
Пришел Кинтель домой, вытащил из старого кассетника плоскую батарейку, примотал к язычковым контактам проводки. Загорелась в фонарике желтая искра – славно так! Будто на носу у бронзового мальчика.
Кинтель вспомнил о мальчике и сразу понял, что надо делать! Смастерил из тонкой проволоки крючок, приладил к фонарику. Сунул крючок в кулак мальчишки.
– Вот что у тебя было в руке…
Регишка, примостившись неподалеку, тихонько следила за Кинтелем. Когда фонарик опять вспыхнул – теперь уже у мальчика, – она спросила:
– Мальчик кого-то встречает, да?
– Почему ты так думаешь?
– Светит, чтобы тот не заблудился…
«Как вчера маленький Федор…»
– Да, Регишка. Светит. И надеется…
Тайная, непонятная, ничем вроде бы не подсказанная надежда жила в Кинтеле со вчерашнего дня. Будто мальчик каким-то путем соединит Кинтеля и… ту, кого зовут Надеждой Яковлевной. Соединит в счастливом разрешении загадки… Думать о таком было боязно, и Кинтель инстинктивно отодвигал эти мысли.
Фотография с Теклой Войцеховной, Олей и Никитой висела ниже карты, в некрашеной рамке, которую Кинтель купил недавно у лотошника, в сквере рядом с «Художественным салоном». В самый раз оказалась рамка. Прапрабабушка, Оля и Никита смотрели теперь из нее, как из окошка. На искрящийся фонарик.
«Ты будешь Никита. Как тот, кто тебя спрятал, – мысленно сказал Кинтель бронзовому мальчику. – Никитка, Ник… Ты будешь частичка того Никиты…»
Мальчик не спорил. Фонарик его горел ярко. И этот свет зажег опять крошечную искру на вздернутом носу Ника. Кинтелю вспомнился Новый год, когда они с дедом в комнате с упакованными вещами зажигали на елке лампочки. Тогда тоже вспыхивали искры из меди – на старых, натертых ладонями дверных ручках…
Ручки большие, тяжелые. Из каждой могло получиться несколько таких Ников…
Пришел на ум Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик». Кинтель про него еще в детскому саду читал вслух, и ребята слушали (и Алка). «Жили однажды на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были родные братья – матерью их была старая оловянная ложка». Алка тогда еще высказалась: «Ничего себе ложечка. Целый половник, наверно».
Ручки тоже были «ничего себе». Тяжелые. Сделанные, наверно, еще во времена декабристов. Небось их уже отодрали какие-нибудь любители наживы. Дом пустой, лазят в него кому не лень. Вот скоро начнется ремонт, подвезут стройматериалы, тогда «Орбита» выделит сторожа. А пока тащат все что можно. На первом этаже рамы повынимали со стеклами…
Жаль, если ручки свинтят. Почему он раньше не сообразил, что надо их забрать? Прабабушка, мама Толича, говорила, что трогать их – дурная примета. Но это когда семья жила в том доме. А сейчас-то что! И дом пуст, и прабабушки давно нет…
А ручки, они же просто музейные! И к тому же если их привинтить к здешним дверям – это была бы частичка прежнего родного гнезда!
До чего же досадно, что разумные мысли приходят в голову после…
А может, еще не поздно? Может, мародеры не обратили на ручки внимания?
Кинтель заторопился. На кухне, в ящике с инструментами, взял большую отвертку, стамеску и молоток. Украдкой уложил их в школьный портфель. Жаль, что не было в доме карманного фонарика. Взять тот, что у Ника? Но много ли света от лампочки-крохи без рефлектора. Да и не хотелось обижать бронзового мальчишку, отбирать подарок. И Кинтель отыскал в кухонном шкафу стеариновую свечку, прихватил коробок со спичками. Так даже интереснее – будто Том Сойер…
Регишка заметила, конечно, что он куда-то собрался.
– Даня, ты уходишь?
Отец тоже встревожился:
– Куда на ночь-то глядя?
– К деду пойду ночевать. От него до школы ближе, а завтра у нас нулевой урок, с семи пятнадцати. Подготовка к контрольной по алгебре.
Это была правда, про урок-то. Но главное – не придется сегодня возвращаться на Сортировку, можно не спешить.
Поверх отрядной формы Кинтель натянул спортивный костюм. Не потому, что холодно, а для маскировки – чтобы не светиться там, у подхода к дому, позументами и незагорелыми ногами.
Регишка спросила печально:
– А мальчика с фонариком с собой возьмешь?
– Нет, Мартышка, играй с ним… А завтра приду из школы, и поедем к Корнеичу. Муреныш по тебе соскучился… Пап, я пошел!
МЕДНЫЕ РУЧКИ
Только в десятом часу Кинтель добрался до улицы Достоевского.
Впрочем, одно название, что улица. В прилегающих переулках еще густо жили люди, а здесь, на отрезке от Первомайской до «Дворянского гнезда», робко светились окна двух-трех уцелевших домиков. На месте остальных – зарастающие лопухами груды щебня, торчащие печки, остатки стен. И сумрачная пустая коробка его, Кинтеля, дома… Зато многоэтажные «дворянские» утесы сияли за тополями россыпью огней.
Были уже сумерки. Мягкие, теплые. Висел в сиреневом небе неяркий месяц. Несло дымком – на окрестных огородах и в садах жгли прошлогоднюю листву и мусор. Оттуда слышны были голоса. Но здесь, по пути к дому, не встретилась ни одна живая душа. Только два майских жука тяжело пролетели над головой…
Кинтель подобрался к дому со двора. Отодвинул доски на окне первого этажа (оно считалось заколоченным, но доски еле держались). Пробрался в темноту (сердце стукало). Пахло затхлостью нежилого помещения и всякой дрянью. Кинтель оскорблено поморщился. Прислушался. Вроде бы никого. Ни бродяг, ни окрестных пацанов, ни любителей наживы. Но полностью он не доверился тишине. Пошел к внутренней лестнице на цыпочках. Ступил на нее тихо-тихо. А то ведь старые ступени имеют привычку скрипеть, особенно во время приключения. Не заскрипели, не выдали…
На втором этаже Кинтель замер и прислушался опять. Да, нигде ни шевеления, ни вздоха. Дом будто подсказывал: не бойся, ты здесь один. И нервная натянутость ослабла, Кинтель почти обыкновенным шагом добрался до своей бывшей квартиры.
Двери были распахнуты. В окна сочились остатки света – полумрак такой. Но Кинтель не споткнулся бы и в полной темноте, он все здесь знал на ощупь.
Ручки оказались на месте.
И тогда Кинтель успокоился совсем… А чего вздрагивать и волноваться? Это его дом! Он прожил здесь чуть ли не всю жизнь, он и сейчас имеет право быть хозяином!
Кинтель достал из портфеля свечу и спички, сел на корточки, зажег фитилек. Накапал на половицу стеарин, укрепил свечу в застывшей лужице. От огонька опять загорелись на ручках искорки.
Глубоким вздохом Кинтель прогнал остатки волнения, взял стамеску и молоток, начал постукивать – отковыривать вокруг ручки многолетние слои краски. Сперва еще прислушивался, потом работа втянула его. Думая теперь только о деле, отчистил он подкладку одной ручки и плоские головки шурупов. Их было шесть – три вверху и три внизу. Стамеской Кинтель проковырял шлицы, вставил отвертку…
Ну конечно, сперва шуруп не шевельнулся. И Кинтель долго сопел и пыхтел, налегая на отвертку. Ладони скользили. Кинтель снял трикотажную фуфайку, обмотал рукоятку отвертки подолом, налег опять… Винт подался! Пошел, пошел… Кинтель вынул его, положил у свечки.
Но потом было то же самое со вторым, с третьим, с четвертым… Сколько же времени прошло? За окнами стало совсем темно, свеча сделалась гораздо короче. Ладони у Кинтеля горели. Наконец последний винт упал на пол. Кинтель дернул ручку, она оторвалась от двери с чавкающим звуком. Кинтель ожидал увидеть под ней след на высохшей краске и черные гнезда шурупов. Но в длинном, с фигурными концами отпечатке темнела выемка. Шириной сантиметра два.
Кинтель, ни о чем еще не догадываясь, почти машинально сунул туда палец. Что-то упруго шевельнулось под ним. Кинтель тихонько охнул, подцепил, потянул. На свет высунулся конец тугой бумажной трубки… Осторожно-осторожно, словно сапер, Кинтель потянул ее дальше. Сердце затихло, и тишина пустого дома стала плотнее в сто раз. Громко затрещало в этой тишине свечное пламя.
Бумажная трубка была перевязана толстой серой ниткой, узел с петелькой. Кинтель – ясно понимая, что открывает новую тайну, и замирая от этого – взялся за кончик. Узелок, завязанный неведомо в какие времена, распустился с шелковой легкостью.
Оказалось, что в трубку скатано несколько согнутых пополам больших листов. Бумага была ворсистая, сероватая, без линеек. Кинтель сел на корточки, ближе к свече. Развернул. Карандашные неровные строки покрывали все листы. Крупный разборчивый почерк.
Сразу в левом верхнем углу ударило в глаза:
«Оленька! Оля-Олюшка…»
Кинтель оторвал свечу от пола, поднес к листу.
«Оленька! Оля-Олюшка, вольная волюшка!
Это пишу тебе я, Никита, твой Ник, твой Том Сойер. Пишу с дальнего Крымского берега, который стал последним берегом моей жизни…»
 Вот как, значит… Все бумаги сожгла прабабка, а это письмо не решилась. Или не захотела?! Рука не поднялась? Видимо, самое главное письмо.
Вот как, значит… Все бумаги сожгла прабабка, а это письмо не решилась. Или не захотела?! Рука не поднялась? Видимо, самое главное письмо.
Кинтель, привычный к старой орфографии, побежал глазами по строчкам, пестреющим «ятями», твердыми знаками и похожими на маленьких человечков «i». Будто не сам читал, а слышал дальний глуховатый голос.
«…который стал последним берегом моей жизни.
Так уж получилось. Мы не успели уйти на корабли союзников. Красные обошли нас, батарея оказалась в кольце. Два десятка солдат, два офицера – я и прапорщик Володинька Тулин, недавний юнкер. Были у нас снаряды, могли мы еще какое-то время отбиваться прямой наводкой. Но я, будучи командиром, сдал батарею.
Красные, уговаривая сдаться, обещали каждому жизнь и свободу. Я и Володинька знали, что они лгут, офицеров расстреливают безусловно. Но была надежда, что пощадят рядовых. Надеюсь на это я и сейчас, надеется и Володинька, и надежда эта согревает наши последние часы в каземате Михайловского равелина.
Нас много тут, офицеров разных полков. Мне повезло больше других. Знакомый красный командир из охраны дал мне несколько листов и карандаш. Карандаш мы с Володинькой сломали пополам, бумагу поделили. Он пишет матери, а я тебе. Письма эти наш знакомый обещает передать по адресам при первой возможности. Он славный человек, бывший поручик инженерной роты. В шестнадцатом году мы вместе лежали в госпитале в Гельсингфорсе и довольно близко сошлись. А потом разметала нас судьба по разные стороны. Теперь он чуть не со слезами предлагал мне помощь, обещал вывести отсюда сквозь посты. Я отказался. Риск для него чудовищный. Да и как бы я бросил Володиньку!
И куда бы я делся потом на этом забитом красными войсками полуострове? И во всей России, где правит свой сатанинский бал торжествующее Зло.
И еще. Сдавши врагу батарею и сделавши все, чтобы спасти от напрасной гибели подчиненных, сам я не хочу просить у судьбы милости.
Помнишь, лет пятнадцать назад, когда отмечалось полвека Севастопольской обороны, выходил в приложении к «Ниве» роман «Под щитом Севастополя»? Мы читали его выпуск за выпуском. Там описывался и давний случай с русским фрегатом, который, будучи окружен турецким флотом, спустил флаг. Мы спорили тогда с тобою. Я гневно осуждал капитана за малодушие, ты же очень жалела его и других офицеров, которых император наказал со всевозможной строгостью: лишил дворянства, отправил в арестанты и матросы. Ты говорила, что кровавая бойня без всякой надежды на спасительный выход жестока и нечеловечна. Я же сердился, считая слова эти девчоночьей слабостью… Как меняет людей война. Вот и сам я сдал батарею. И теперь думаю, что командир фрегата не прав был в одном: ведь спасши других, мог он затем кончить свою жизнь для спасения чести. Впрочем, кто смеет его судить? Возможно, он почитал своим долгом испить чашу до конца, а в самоубийстве видел грех, невозможный для христианина.
Мне такой грех не грозит. Красные возьмут это дело на себя.
Умирать не очень страшно. Такое чувство, что накопившаяся за эти годы усталость теперь навалилась разом и клонит, клонит в сон. Столько крови, столько бессмысленной ярости, столько смертей за шесть лет окопной жизни. Ты теперь не узнала бы своего капитана Ника. И я даже рад, что в памяти твоей останусь прежним. Тем полным боевого пыла мальчиком, который нетерпеливо прощался с тобой, уходя на германский фронт в четырнадцатом году. И думал, что война – это череда подвигов и блестящих побед.
Господи, какой же я был тогда ребенок. Оставил тебе карточку с засекреченным письмом вместо того, чтобы просто рассказать, как оно все было. Все еще играл. И думал, что станешь играть и ты.
А историю своего маленького клада я до сих пор вспоминаю с улыбкой. А ты ее так и не знаешь. Вот, слушай. То есть читай. О Бронзовом мальчике. Только извини, что я пишу так длинно. Ты, Олюшка, всегда меня бранила за нелюбовь к длинным письмам. Видишь, я исправился. Тем более это мой последний с тобой разговор, а впереди у меня еще несколько часов. Володинька тихонько плачет над своим письмом, жаль его. Но мне плакать не хочется. Я улыбаюсь, мысленно возвращаясь в те дни.
Помнишь, когда нам было по десять лет, мы были Том Сойер и Бекки Тэчер. Книжку про них мы читали вдвоем множество раз. И однажды ты строго сказала, что я должен поцеловать тебя. В щеку. Не потому, что тебе хочется, а чтобы все было как у Марка Твена. И это таинство свершилось в полутемном уголке вашей передней, и сердце у меня колотилось весь вечер.
А потом в лавке старьевщика на углу Корнеевской и Пароходной я увидел его. Маленького бронзового Тома Сойера – в точности такого, каким я его представлял, только ростом в два вершка. И тут же понял, что нет лучше подарка для тебя, чем этот… Сколько тряпья, костей и драных калош таскал я этому вредному скрипучему мужику, который подсмеивался над лопоухим гимназистиком и все набавлял и набавлял цену. И лишь в обмен на помятый серебряный подстаканник без ручки, который я с полным сознанием собственного греха похитил в домашнем чулане, злодей отдал мне сокровище. И я ликовал заранее, представляя, как в День твоего ангела, в июле, я со словами, полными важного смысла, вручу тебе этот талисман и как обрадуешься и расцветешь ты. И, может быть, позволишь свершиться еще одному поцелую…
Но за неделю до именин тебя увезли с дачи в город, и папа, вернувшись, сказал, что у тебя скарлатина. И добавил, чтобы я не волновался, потому что, может быть, все обойдется без осложнений. Но я тревожился отчаянно, потому что слышал от папы прежде, как опасна для детей скарлатина.
А кроме тревоги, была еще и тоска по тебе. И я, чтобы унять эту печаль и чтобы задобрить судьбу и заодно, наверно, утолить мальчишечью страсть к приключениям, задумал отважное дело. Рано утром унес из дома простыню, а от дачной пристани увел чужую лодку. Из двух шестов и веревок соорудил мачту с поперечиной, поднял на ней парус. До сих пор помню, как хлопала и полоскала на утреннем ветру простыня, которой выпало счастье стать парусом моей каравеллы.
Кое-какой опыт обращения с лодкой у меня уже был, но в дальние плавания, в одиночку, да еще под парусом отправлялся я впервые. Ради тебя, Оленька. Потому что я загадал: если выполню все, что задумал, то и болезнь твоя пройдет без следа и скоро.
Руля не было, правил я веслом. Могло случиться всякое, будь ветер покрепче, но он дул милостиво и попутно. И часа через два без приключений пригнал меня к Шаману, который для старших гимназистов служил местом свиданий, а нам казался окутанным легендами. Здесь под приметным камнем, где выбиты были какими-то влюбленными буквы Б + Л, я и зарыл Тома Сойера в коробках из жести и дерева. Примял и разровнял землю. Понимал, что никто не заподозрит, что на таком приметном месте, вблизи берега, зарыт чей-то клад.
Я представлял, как в конце лета мы приплывем сюда вдвоем, будем бродить среди камней, будто Бекки и Том на необитаемом острове, а потом я выведу тебя к знакомому месту и полунамеками открою тайну. И бронзовый Том Сойер окажется у тебя в руках. Это обязательно должно было случиться. И потому никак не могло быть, чтобы твоя болезнь окончилась бедою.
Пришла пора возвращаться, и я понял, что главная трудность впереди. До той минуты я был почему-то уверен, что ветер ближе к полудню сменится на обратный. Но тот и не думал меняться. Мало того, держась прежнего направления, он сделался сильнее, пошли волны с гребешками. Под моим самодельным парусом, в лодке без киля и думать было нечего идти навстречу ветру зигзагами, в лавировку. Да я и не умел тогда… Я отважно начал грести к дому, но скоро понял, что путь этот мне совершенно не под силу. Двенадцать верст против волны и ветра!
Страх меня охватил тогда нешуточный. Но возвращаться на Шаман я не мыслил: это означало бы нарушение обета и могло накликать на тебя несчастье. Сквозь охватившую меня боязнь пришло все-таки здравое решение. Спасение было одно: идти к ближнему берегу, до которого около версты. И я погреб. Этот путь тоже дался мне с трудом, стоил сорванной кожи на ладонях. Лодку сносило, сильно качала боковая волна, плескала через борт, могла и перевернуть. И все же я выгреб. Спрятал лодку в кустах, заранее зная, что придется признаваться, чтобы вернуть ее хозяину. Быть лодочным вором я не мог и помыслить, это же не подстаканник стащить из собственной кладовки.
А дальше начался пеший путь вокруг озера. Я представлял его с трудом и только понимал, что это не меньше пятнадцати верст. Чтобы не сбиться с пути, шел берегом, через лес, всякие буераки, болотистые ложбины и каменные горки. К счастью, на полпути, где к озеру подходила проселочная дорога, увидел меня знакомый садовник с соседней дачи. Может быть, помнишь, горбатый дядька Филипп. Он ехал из деревни Павлово. Окликнул, поохал, усадил на телегу и доставил докторского сына прямо к даче. Встрепанного, чумазого, в перепачканной матроске, изодранных чулках и с оторванной подошвой сандалии.
А дома была уже, конечно, паника. Папа и наша кухарка Федосья метались по всей округе в поисках. Тревожились и соседи. Как же: исчез еще до завтрака, не появился к обеду. Я, успевши уже отдохнуть в телеге, встретил расспросы и гневные упреки с мужской сдержанностью и суровой покорностью судьбе. Не стал принижать свой подвиг ложью и признался про все: про лодку, про унесенную ветром простыню и про дальнее плавание. Только о Бронзовом мальчике ничего не сказал, объяснив свою экспедицию жаждой приключений.
Папа, убедившись, что я невредим, перешел от испуга и радости к исполнению необходимого родительского долга. Пересиливши природную доброту, он объявил, что на сей раз мне следует отправиться в сад и самому срезать подходящий к случаю прут. Я обмер, но сжал зубы и пошел. И добросовестно выбрал двухаршинную хворостину, поклявшись себе, что не пикну во время отцовской кары. Так же, как молчал Том Сойер, когда принял на себя наказание, предназначенное Бекки. Это была еще одна моя жертва. Перед лицом судьбы, которая распределяет в мире добро и зло, я своими страданиями надеялся убавить твои, как бы перекладывая их долю из одной чашки весов в другую. И загадал опять: ежели свое первое в жизни знакомство с розгою снесу без стона и слез, это будет залогом того, что тогда уж ты выздоровеешь непременно.
Судьба, однако, на сей раз милостиво освободила меня от нового испытания, прислав спасение в лице твоей мамы. Текла Войцеховна приехала из города с сообщением, что тебе гораздо лучше. Узнавши о приключении и увидевши зловещее орудие возмездия, она решительно взяла меня под защиту, к удовольствию папы, который уже, несомненно, сам искал повода для амнистии.
Уведя меня на террасу, Текла Войцеховна стала рассказывать про тебя и угощать меня шоколадным драже из такой же коробки, в которой я спрятал на Шамане маленького Тома. И стала спрашивать про плавание, чтобы потом рассказать тебе. И тут я, позабывши капитанскую сдержанность, пустил слезу. Боль бы я перенес, а эту ласку снести не мог. Ты до сих пор не знаешь, Олюшка, как я завидовал, что у тебя есть мама. Как хотел, чтобы и у меня была. Такая же, как твоя. Пускай временами строгая, но с тем запасом любви, который окутывает тебя и защищает от всех печалей невидимой магической силой. И Текла Войцеховна это, без сомнения, понимала. Порой она ко мне была ласковее, чем к тебе, словно читала душу мальчика, у которого нет мамы. Иногда мне кажется даже, что она любила меня почти так же, как тебя. Упокой, Господи, душу ее. Завтра, в последний миг, я вспомню ее вместе с тобою и с теми, кого считал самыми дорогими в этой жизни…»
Кинтель закашлялся от сухого, оцарапавшего горло всхлипа. Но слез не было. Только расплавленный стеарин не первый раз уже сорвался со свечи, горячей слезинкой скользнул по пальцам, упал застывающей каплей на прочитанные строчки.
«…Но сейчас я не хочу думать про завтра. В эти минуты я снова там, среди дач, на улице Ильинской.
Ты появилась в августе. Такая похудевшая, коротко стриженная, что у меня сердце заходилось от жалости. Была ты слабая, не могло и речи идти про плавание на Шаман. А потом начались дожди и кончились наши каникулы. Зимой же (не смейся над тогдашним мальчишкой, Оленька!) явился мне во сне седой кудрявый старик в черном костюме – то ли Марк Твен, то ли святой угодник. И строго сказал: «О мальчике ей не говори, пока не станет большой». Кто не суеверен в детстве? Да и потом… Но я молчал не только из-за страха нарушить запрет. Больше – из-за того, что нравилось иметь тайну, которую я открою тебе когда-нибудь. С годами тайна эта крепла, как вино в глубоком погребе, набираясь особого смысла. Я мечтал даже, что, может быть, это случится перед тем, как мы пойдем под венец. Я ни разу не спрашивал тебя, согласишься ли ты на это, но ты же понимаешь, что не думать про такое я не мог. Не сердись. Теперь ты все равно не сможешь огорчить меня отказом.
Едва ли ты разобрала письмо на нашей фотографии и едва ли откопала мой подарок. До того ли было в эти годы. Но если когда-нибудь бронзовый Том Сойер попадет тебе в руки, знай – это я. Приветствую тебя. Видишь, вскинул сжатую руку. Обрати внимание, кулак сжат не совсем плотно, в него можно просунуть проволоку или спичку. Кажется, мальчик что-то держал в руке. Я долго в те дни думал: что? Может быть, дохлую кошку из города Сент-Питерсборо? Но это скорее пристало Геку Финну. Деревянную саблю? Но рука в том положении, что саблю так не держат, она упрется в грудь. Свирель? Но слишком воинственно вскинул кулак. А может быть, в кулаке был хвастливо поднят садок с наловленной рыбой? Но где тогда удочки…
Я придумал вот что. Если все-таки Том будет стоять перед тобой, сделай для него фонарик. Такой крошечный, с наперсток, какие ты когда-то делала для елки. Из проволоки, серебряной бумажки и слюды. И вставь туда свечку-малютку с фитилем-паутинкой. Ты умеешь. И дай фонарик Тому в руку. Такой свечки хватит на несколько секунд горения, но эта искра пусть будет живым приветом от меня. В конце концов, что такое наши жизни, как не мгновенные искры на темном ветру?..»
Кинтель, обожженный внезапным совпадением, опять вытолкнул воздух сохнущим горлом. И не заметил уже, как горячий стеарин с кулака льется на колено, горячо сочится сквозь трикотажную штанину.
«…мгновенные искры на темном ветру? Но все-таки в этих искрах так много всего. И горя, и счастья. Да, и счастья. Потому что жизнь – это ведь не только то, что есть сейчас и будет потом. Тем более, что «потом» может и не быть. Главным образом жизнь – это то, что уже было, а в те ясные времена наших игр на улице Ильинской, тихих вечеров, когда кружится у абажура мошкара, наших любимых книжек, заповедных секретов и бесконечного лета были дни безоглядного счастья и чистой, всю душу заполняющей любви. И я благодарен за них Творцу. И тебе. И это никто у меня не отберет. Храни это и ты.
В наше сбившееся с пути время, когда страна наказана злом, все же есть еще какие-то проблески добра. И я молю Спасителя, чтобы капельку из остатков этого добра он даровал и тебе, самому любимому моему человеку. Потому что если не ты, то кто еще имеет право на глоток счастья в этом взбесившемся мире? Я надеюсь, что Господь будет к тебе справедлив и милостив. С этой надеждой и уйду.
Прощай и не плачь.
Твой Н. Т.
17 ноября 1920 г.,
очень раннее утро».
Кинтель осторожно поставил свечу в круглый след на застывшей стеариновой лужице. Положил рядом с ней последний лист. Прикрыл глаза. Устали ноги – столько сидел на корточках, – но он не шевелился. Зеленые пятнышки от свечки плавали в глазах. А в тишине – уже не плотной, а прозрачной, чистой – возник (будто издалека пришел) первый звук той музыки. Словно где-то в квартале отсюда стояла среди сурепки и одуванчиков, играла специально для Кинтеля девочка-скрипачка. Про все играла. Про молчаливое прощание Ника Таирова с Оленькой и про вечную потом печаль этой Оленьки, вышедшей замуж за бывшего красного командира Анатолия Рафалова, который привез ей от Никиты последнее письмо. И про то, что все-таки была у Оли и Никиты в детстве ясная радость, которая сохранилась потом, как негасимый огонек, – несмотря на все горести. Как упрямый фонарик в руке у мальчика… А еще, наверно, про Алку Баранову… И про светлое окошко на пятом этаже…
Она, эта мелодия, звучала в душе чисто и отчетливо. Так знакомо… И вдруг Кинтель понял, что есть здесь еще совпадение! Во второй фразе этой музыки слышался его собственный сигнал! Те четыре ноты, про которые командир ребячьего оркестра сказал когда-то: «Ну просто «Итальянское каприччио»…» Если сыграть их чуть помедленнее, не на трубе, а на той певучей скрипке, они вплетутся в эту мелодию, словно так задумано давным-давно. Нарочно для него… Для Данилки Рафалова…
В этом открытии был намек еще на одну разгадку. Оно, казалось бы, не имело отношения ни к письму, ни к бронзовому мальчику, ни к окну на улице Павлика Морозова, и тем не менее теплая, похожая на ласковое обещание уверенность тихо согрела Кинтеля. Словно кто-то шепнул ему: «Теперь будет все, как ты ждал…»
Кинтель осторожно, чтобы не расплескать новую надежду, стал выпрямляться. И в этот миг тяжелый удар сотряс музыку, тишину, дом. Пошел по всему пространству черными трещинами.
Кинтель упал, вскочил, бросился к окну.
В сумраке он различил вставшую напротив машину с грузовой стрелой. Висевший на тросе длинный предмет с нарастающей скоростью отплывал от дома. Не гиря, не ядро, а, видимо, бетонная балка. И пока она уходила от треснувшей стены для нового размаха, Кинтель успел передумать множество мыслей.
«Раз не чугунный шар, а балка, значит, не специальные ломатели! Незаконные…»
«Корнеич говорил, что какие-то типы предлагают исполкому кучу денег за разрешение поставить на месте дома кооперативные гаражи… Исполком чуть не согласился, но опять помогла газета…»
«Гады, в темноте подобрались! И ребят не собрать сразу. Пока докричишься, разрушат…»
Эх, была бы труба! Но кто же знал…
– Стойте! – закричал он отчаянно. – Не смейте! В тюрьму захотели, паразиты?!
Но балка неслась уже к нему, к Кинтелю. Он отшатнулся. Бетонный груз ударил в косяк, внутрь комнаты полетели кирпичи, сверху посыпалось.
Тогда Кинтель вскочил на подоконник. Стекол и рамы не было, пустой проем.
– Стойте, сволочи! Бандюги! Не ваш дом, не смейте!!
Кто-то заголосил у машины:
– Гошка, там пацан! Тормози!
Другой голос ответил с матом:
– …тормози! Как?.. Эй, ты, пошел оттуда!
Он не пошел. Загораясь яростной правотой и ясным бесстрашием, он знал теперь, что остановить врагов можно только самим собой! В конце концов, он не Стройников, он отвечает за себя за одного!.. И когда балка бетонным концом опять сокрушающе врезалась в стену – левее и ниже подоконника, – Кинтель не упал, не сорвался. Толкнувшись от косяка, он прыгнул на балку и вцепился в трос. Встал!
Миг балка была неподвижна, потом все быстрее и быстрее пошла назад, и Кинтеля охватило ощущение жутковатого полета. А снизу неслись вопли и матерщина. Но и в этом страхе, в этом полете Кинтель не потерял головы.
– Не смейте, гады! – снова кричал он. А потом увидел в сумерках, будто метнулись вдали по улице маленькие тени! Может, ребята играют в ночные пряталки? Показалось даже – мелькнула собака. Ричард? Значит, и Салазкин?!
И Кинтель закричал еще громче, со смесью отчаяния и злого азарта:
– Ребята! Санки! Дом ломают! На помощь!..
Балка замерла в очередном замахе и понеслась обратно. Внизу, кажется, ее пытались удержать за волочившийся трос. Разве удержись!.. Но Кинтель не боялся. Он чувствовал, что запаса инерции теперь не хватит, чтобы балка ударила в стену…
Он не учел другого. Клен! Балка слегка изменила путь, ветка хлестнула мальчишку по плечу, зацепила капроновый аксельбант, и Кинтель грянулся на щебень. Перевернулся несколько раз и оказался лежащим навзничь. У фундамента своего дома.
Двинуться он не мог, тупая несильная боль от затылка растеклась по мышцам неодолимой слабостью. Но Кинтель слышал еще, как подбежал кто-то, выругался, постоял секунду и кинулся прочь. Ухнула земля, это машина сбросила балку и трос. Заурчала, разворачиваясь и втягивая стрелу. Уехала, кажется. Тихо стало…
На верхнем карнизе окна, из которого Кинтель выскочил, появился оранжевый отсвет. И Кинтель ясно понял, что свеча упала на письмо, огонь пошел по листам, потом по сухим обоям, клочьями висящим на стене…
«Жаль письмо. Полностью теперь не вспомнишь…»
«Ох и крику будет из-за сгоревших учебников…»
«А ручки не сгорят, можно будет потом найти. Хорошо, что вторую и отвинчивать не придется…»
Потом отблеск на карнизе исчез. И сам дом исчез, и темное небо. Только маленькая искра еще долго дрожала во тьме, словно вдали стоял с фонариком в руке бронзовый Том Сойер, Ник…
ОГНЕННЫЙ КЛЕН
 Мальчишки там не играли в тот вечер, Кинтелю просто показалось. Они примчались к дому лишь тогда, когда отовсюду стало видно бьющее из-под крыши пламя. Джула прибежал, Эдька Дых, Рюпа. И Салазкин из своего «Гнезда». Вместе с Ричардом. Ричард и учуял Кинтеля, кинулся к нему с жалобным лаем. За ним ребята. В тот момент к дому еще можно было подойти…
Мальчишки там не играли в тот вечер, Кинтелю просто показалось. Они примчались к дому лишь тогда, когда отовсюду стало видно бьющее из-под крыши пламя. Джула прибежал, Эдька Дых, Рюпа. И Салазкин из своего «Гнезда». Вместе с Ричардом. Ричард и учуял Кинтеля, кинулся к нему с жалобным лаем. За ним ребята. В тот момент к дому еще можно было подойти…
«Скорая» приехала раньше, чем пожарные. Когда с воем примчались красные машины, сухие стропила, потолочные балки, дощатые перегородки и лестницы, полы и масляная краска стен пылали вовсю.
К утру от дома остался черный выгоревший остов без крыши.
Тех, кто пытался разрушить дом, так и не нашли. Да скорее всего, не очень-то и старались найти. Ходил слух, что в площадке для гаражей на этом месте заинтересовано было и милицейское начальство.
Короче говоря, то, чего не сделали разрушители со своей бетонной балкой, сделал огонь. Теперь о ремонте нечего было и думать.
Да об этом и не думали. Все мысли были о Кинтеле. Называли всякие травмы. Перелом основания черепа и много еще другого… Опытный хирург, хороший знакомый деда, сделал Кинтелю операцию. И сказал потом виновато: «Все, что возможно… Теперь зависит от организма, как он сам…»
А сам Кинтель был плох. В сознание не приходил. Не открывал глаз, не размыкал губ. Опутанный проводами и шлангами, он лежал в палате реанимации, и только нервные стрелки приборов показывали, что мальчик жив. Еще жив… Так прошли сутки, вторые. Дед, отец, тетя Варя дежурили в больнице по очереди. Впрочем, не все время дежурили. Потому что сиди, не сиди рядом, ничем все равно не поможешь, а за состоянием Кинтеля следили медсестры. Состояние это называлось коматозным. Когда человек в глубоком беспамятстве и ни на что не реагирует. То ли жив, то ли…
Впрочем, это лишь казалось, что Кинтель ничего не чувствует. Придавленное глухой тяжестью и необоримой ленью сознание все-таки вбирало в себя обрывки чужих фраз, движений и, кажется, даже мыслей. Выстраивало их в цепочки. Кинтель знал, что дом сгорел, но виноватых не нашли, что люди очень встревожены его беспамятством и считают, что он умирает. Сам он этим встревожен не был. Он думал о себе отстраненно, как о другом человеке. Мало того, иногда он словно видел себя со стороны: неподвижного, подключенного к разным аппаратам.
Вроде бы он видел и тех, кто был рядом. Один раз даже показалось, что в палате появился Салазкин. Тихий, неподвижный, с растрепанными волосами и горестными зелеными глазищами. С тощими и поцарапанными ногами, торчащими из-под белого халата. Кинтель мысленно улыбнулся, понимая, что Салазкин-то уж явно привиделся. Кто же пустит мальчишку в больницу, да еще в такую строгую палату…
Но Салазкин действительно пробился в больницу. Кажется, на четвертые сутки. Помог белый халат, который нашелся дома. Его в давние времена сшила мама, когда ухаживала за крошечным заболевшим Саней – чтобы он привык к белому и не пугался приходившего врача и медсестер. В этом халате Салазкин проскользнул мимо строгой вахтерши, которая решила, что у мальчика пропуск. А потом помогли Салазкину его непривычные для взрослых вежливость и затем слезы, которые рванулись сами собой… И молодой чернобородый врач сказал двум другим:
– Ладно, пусть постоит у порога. – И добавил вполголоса: – Не все ли равно теперь…
И Салазкин с минуту стоял у двери маленькой палаты, где на единственной кровати, среди каких-то блестящих ящиков и трубок лежал неподвижный, почти незнакомый Кинтель. Суровую безрадостность слов «не все ли равно теперь» Салазкин тогда не понял.
Он понял это позже, на следующее утро, когда опять пришел в больницу. Там, в вестибюле, он встретил Виктора Анатольевича. Спросил полушепотом:
– Он… как?
Дед Кинтеля, глядя мимо Салазкина, потоптался, развел руками и вдруг вздернул плечи и быстро вышел на улицу.
Салазкин обмер и ослабел. Но тут же, рывками натягивая халат, кинулся на второй этаж. На этот раз – под крики вахтерши и медсестер. Он успел добраться до Андрея Львовича – того чернобородого доктора. Нашел его в ординаторской.
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга с горьким пониманием.
– Что ли… совсем без надежды? – выдавил Салазкин.
Андрей Львович так же, как дед Кинтеля, глянул мимо Салазкина. Сказал излишне ровным голосом:
– Пока человек жив, надо надеяться. Даже тогда, когда уж совсем…
– А он… совсем?
– Беги-ка домой, Саня, – насупленно посоветовал Андрей Львович. – Вопросами делу не поможешь…
И Салазкин пошел. Не домой, к Корнеичу. И лишь через квартал понял, что идет в белом халате…
Дома у Корнеича теперь постоянно был кто-нибудь из отряда. А по вечерам собирались все. Потому что вместе легче переносить тревожное ожидание и неизвестность. Иногда кто-нибудь приводил и Регишку. Потому что очень уж тошно ей одной-то, когда отец на работе или в больнице у сына…
Впрочем, тоскливой расслабленности в отряде не было. Скорее – нервная ожесточенность. И желание хоть как-то ответить неизвестным гадам, из-за которых все несчастья: и с Кинтелем, и с домом.
И ответили.
Паша Краузе напечатал на машинке Корнеича вот что:
В этом доме
в 40-х годах XIX века
жил декабрист Ф.Г. Вишневский.
В наши дни этот дом
хотели отдать детям.
Его уничтожили враги
города и детства.
Его до последней минуты
защищал последний трубач
отряда «Тремолино»
Данилка Рафалов,
которого зовут
Кинтель.
Паша сперва написал не «зовут», а «звали», но Сержик Алданов молча показал ему это слово и покрутил у виска пальцем. Паша испуганно порвал бумагу и напечатал все заново.
Текст сняли на пленку «Зенитом». И на больших листах фотобумаги, пятьдесят на шестьдесят, напечатали в десяти экземплярах. Буквы стали большими, высотой в сантиметр. Черные на белой блестящей поверхности они читались издалека.
Взяли банку эпоксидной смолы и отвердитель, приготовленные для строительства шхуны. Наклеили бумагу на прямоугольники древесностружечной плиты, оставшиеся от ремонта вострецовской квартиры. Той же смолой – для прочности – покрыли текст.
Паша Краузе, Дим, Салазкин и Не Бойся Грома пришли к сгоревшему дому и прибили доску со стороны улицы, вгоняя тяжелые гвозди в щели между обугленными кирпичами. Тут же собралась компания «достоевских». Смотрели молча и одобрительно. Только Джула спросил недовольно:
– А почему «последний»? Вы что, его уже заранее похоронили? И себя заодно?
Паша хмуро, но миролюбиво разъяснил, что никто не хоронит отряд. «Тремолино» будет жить, сгори хоть весь город. Шхуну построят прямо на берегу, под навесом на базе. И крышу себе найдут в конце концов. И Кинтеля никто не отпевает. Но чем бы все это ни кончилось, кроме Данилки Рафалова, трубачей в отряде больше не будет. Он со своим сигналом – единственный. Это теперь ему как бы вечное звание. Как награда и память на всю жизнь…
А майский день был теплый, радостный, и диким казалось, что в такое время может кто-то умереть. И даже не «кто-то», а всем знакомый Кинтель, товарищ, давний житель этих мест…
Зеленели клены, и только самый ближний к дому стоял обгорелый. Словно в наказание за то, что ветки его сбросили Кинтеля на землю. Но разве он был виноват? Ведь не мог он посторониться.
– Жаль дерево, – сказал Дим. – Сгорело заживо…
Маленький Рюпа сел на корточки.
– Оно отрастет. Смотрите, у корней поросль…
Не Бойся Грома вдруг стянул с себя красный галстук и привязал к обугленной ветке. Тогда и Салазкин, задрожав от горького волнения, сделал то же. И, глядя на них, оставили на обгорелом клене свои галстуки Паша Краузе и Дим.
Местные смотрели на это молча и с пониманием. Потом разбежались по домам, отыскали галстуки, в которых давно уже не ходили в школу. И тоже привязали их к черным скрюченным сучьям. Клен, потерявший майскую листву, словно обрел теперь другую – пламенную. Она длинными языками трепетала на теплом ветру.
…Через сутки оказалось, что доску сорвали и унесли. Но ребята прибили другую. А вечером Джула рассказал Саньке, что приезжали на машине двое, опять нацеливались на доску. Но свистнул дежурный, сбежались местные пацаны, встали цепочкой. Толстый дядька чиновничьего вида сказал им:
– Зачем это, дети? Вы создаете ненужный ажиотаж. Развалины все равно скоро снесут.
– Найдем куда прибить, – ответил маленький Рюпа.
Дядька пожал плечами. «Жигуленок» уехал. На всякий случай записали его номер…
А галстуков на клене прибавилось. Говорят, приходили незнакомые ребята, оставляли свои. Было теперь здесь и несколько разноцветных – от скаутских и разных других отрядов. Но особенно густо горели на солнце алые. И клен был словно опять охвачен пламенем в потоках плотного и ровного зюйд-веста.
Салазкин шагал из больницы пешком и оказался у тополя, когда был уже полдень. Пора идти домой, собирать портфель для школы. Но Салазкин стоял и смотрел на клен. Как он полыхает… Клен полыхал весело, по-боевому, а Кинтель в больнице, несмотря на это, умирал. Салазкин понимал теперь с полной ясностью, что надежды нет. Плакать не хотелось. По крайней мере, не очень. Потому что было сейчас как на войне, а там, говорят, над погибшими не плачут. И Салазкин просто стоял и смотрел на огненный клен. С глубокой и слегка горделивой печалью: «У меня умирает друг…»
Потом он заметил, что один галстук сорвало и отнесло ветром, запутало в прошлогоднем репейнике. Салазкин, царапаясь, достал его. Положил под кленом сумку с халатом, глянул наверх. Он решил забраться к верхушке, чтобы завязать этот галстук выше других.
И полез, пачкая себя сажей обугленных ветвей.
Он остановился лишь тогда, когда ветки стали потрескивать под ним. Привязал галстук за гибкий, казавшийся живым прутик. Алая материя вымпелом рванулась из ладоней.
Салазкин спустился. Постоял, глядя вверх.
«У меня умирает друг…»
Привязав галстук, Салазкин сделал для Кинтеля все что мог… Или мог что-то еще?
Мог. И обязан был! И он решился на то, о чем до сих пор думал отрывочно и несмело.
К счастью, была суббота, для многих выходной день, и она оказалась дома.
Открыла дверь, вздрогнула, отступила, взяв себя тонкими пальцами за подбородок. Может, испугалась перемазанного вида мальчишки?
– Здравствуйте, – сказал Салазкин тихо, но решительно. – Вас зовут Надежда Яковлевна?
– Да… входи.
Он шагнул через порог.
Надежда Яковлевна отступила еще. Спросила то ли со страхом, то ли со скрытой болью:
– Чего ты хочешь, мальчик? Я… слушаю…
Глядя в ее худое, с печальными складками лицо, Салазкин все так же негромко, но твердо проговорил:
– Извините. У вас был сын. Да?
– Да… Да!.. А ты…
– Я его друг.
Надежда Яковлевна села на приступок у зеркала, глянула ищущим, недоверчивым, растерянным взглядом:
– Но… я не помню тебя. Да нет, не может быть. Ты гораздо младше.
– Всего на два года. Это не важно… Сейчас ничего не важно, Надежда Яковлевна. Вы ничего не знаете, а он… сейчас в больнице. В очень плохом состоянии… – Салазкин не посмел сказать «в безнадежном»…
Она прижалась затылком к собственному отражению. Пальцы на подбородке закаменели, брови сошлись.
Салазкин строго сказал:
– Все ему говорили, что вы погибли, но он не верил. И узнал, где вы живете…
Она как-то обмякла, положила руки на колени, нагнулась к Салазкину:
– Я что-то начинаю понимать… Наверно, именно этот мальчик опустил мне в ящик под Новый год открытку, которая на месяц уложила меня в больницу?
– Да… но разве вы…
– Нет… – выдохнула она. – Нет, мальчик, нет… Это просто… такое вот совпадение. У меня был сын, Витенька, двенадцати лет. Он умер три года назад от лейкемии. Не здесь, в другом городе… И я приехала сюда, потому что не могла там одна… И вдруг открытка: «Мама, поздравляю…»
– Это я посоветовал ему, – прошептал Салазкин.
Помолчав и отвернувшись, она спросила:
– Сколько ему лет?
– Тринадцать… завтра было бы…
– Почему… «было бы»?
Салазкин всхлипнул, но не отвел глаз.
– Потому что, наверно… не успеет…
– Так плохо?
Он кивнул, но опять поднял глаза:
– Надежда Яковлевна… Теперь ведь не имеет значения. Говорят, он иногда что-то чувствует сквозь… бессознание. И он поймет, что вы пришли. И будет думать… Хоть на последний час ему радость… Он надеялся целый год…
– Господи… Почему он решил, что я его мама?
– Говорит, похожи… Может, он даже откроет глаза и увидит… – Салазкин отвернулся, заплакал уже открыто.
– Господи… – сказала опять Надежда Яковлевна. И потом еще, с усилием: – Я несколько дней провела в палате, когда умирал Витя. До самого конца… Ты думаешь, я выдержу это еще раз?
Салазкин глянул мокрыми испуганными глазами:
– Извините… Я так не думал… Я об этом вообще не думал. – Потом сказал спокойнее и уже безнадежно: – Дело в том, что я думал только о Дане…
– Его зовут Даней?
– Да…
Они молчали долго. Салазкин хотел уже прошептать: «Извините, я пойду…» Надежда Яковлевна вдруг поднялась. Медленно, будто с тяжелым мешком на плечах.
– Ладно, идем…
– Нет… если так, то, наверно, не надо… – забормотал он.
– Теперь это не тебе решать. И не мне. Наверно, судьба… – Она вдруг стала спокойной, строгой даже: – Пошли… Хотя постой, иди-ка сюда. Где ты так вывозился…
Надежда Яковлевна за плечо ввела Салазкина в ванную. В теплой воде намочила конец махрового полотенца, решительно и умело оттерла Салазкину щеки, ладони, коленки. Щеткой почистила рубашку, без успеха впрочем.
– Идем.
На лестнице она спросила:
– Где больница?
– На Московской, областная…
На улице они не пошли к трамваю. Надежда Яковлевна подошла к обочине, решительно проголосовала первому же «Москвичу». Тот тормознул.
– Нам нужно в больницу, очень срочно. Там мальчик… На Московской.
– Садитесь, – буркнул молодой водитель, мельком глянув на Салазкина.
– Спасибо… Ох, я оставила деньги! Вы подождете минуту?
– Садитесь. Мне все равно в ту сторону…
Помчались. На полпути Надежда Яковлевна вдруг шепотом спросила:
– Мальчик, а меня пустят?
– Я добьюсь, – тихо сказал Салазкин.
Он добился. Его уже знали здесь и недолго сопротивлялись отчаянной просьбе позвать Андрея Львовича. Скоро чернобородый доктор оказался в вестибюле.
– Вот… – сказал Салазкин. – Это его… мама. Она должна…
Андрей Львович посмотрел на мальчишку, на женщину. Почему-то оглянулся на лестницу. И сказал уже ни на кого не глядя, опустив глаза:
– Хорошо, Саня, дай Даниной маме свой халат, так будет быстрее…
Вот и все. Он сделал что мог. Теперь надо было идти домой, потом в школу. Обедать, сидеть на уроках, жить…
Но Салазкин опять пришел к обгорелому клену. Тянуло его сюда, словно за каким-то утешением. За спасением. Но не было теперь ни утешения, ни спасения. Ни надежды. Понимание того, что Кинтель вот-вот умрет, надвинулось беспощадно. Уже без всякой гордой печали, без той значительности, которая была во фразе: «У меня умирает друг».
Салазкин понял, что до сих пор все-таки не верил в это до конца. Пока делали доску для дома и привязывали галстуки, пока он пробивался в больницу, и даже пока разговаривал и ехал с Надеждой Яковлевной – это все еще была какая-то игра. Это отвлекало мысли и силы от того самого страшного, что неизбежно приближалось. А теперь отвлекать было нечему. И страшное, безысходное ощущение потери обрушилось на беззащитного Салазкина со всей своей черной беспощадностью.
Он прижался лбом к обожженному стволу и зашелся в отчаянном плаче. Потому что как он будет на свете, когда Кинтель, Даня, Данилка Рафалов умрет?
…Но Кинтель не умирал.
Мало того, он и не собирался умирать. Тьма и свинцовая тяжесть еще лежали на нем, но не было в них той абсолютности, которая давила прежде.
Он не мог умереть. Иначе в каком одиночестве окажется Регишка!.. И кто будет зажигать фонарик у бронзового Тома Сойера?.. И кто расскажет, что было в спрятанном под медной ручкой письме?
И впереди столько дел! Надо строить шхуну «Тремолино-2». Надо разыскать родственников или друзей семьи Алки Барановой и узнать у них ее заграничный адрес. Надо выучить полный набор сигналов для трубы, чтобы тот, самый первый, самый главный, играть лишь в особо важные моменты… Надо вновь ощутить счастье парусного плавания… И много чего еще надо успеть и сделать…
Чашка весов, качнувшись в сторону жизни, теперь уже не могла остановиться. Потому что тепло этой жизни шло неудержимо от узкой горячей ладони, которая лежала на запястье у Кинтеля. Он знал, чья это ладонь. И она спасала его. И сердце стучало все отчетливее, все ровнее. И шевельнулись ресницы…
Эпилог
Тринадцатилетний Генри Линдерс, трубач первой роты ее величества морского десантного полка, был огорчен до крайности. Война не получалась. Она была совсем не такой, какой виделась Генри вначале, когда он, обалдевший от счастья, узнал, что по ходатайству полковника Томсона зачислен в беломорскую экспедицию.
Военная экспедиция эта состояла из трех пароходов с четырнадцатью орудиями на каждом, и командовал ею капитан королевского флота Омманей. Он держал свой флаг на пароходе «Бриск».
Это грозное плавание было частью большой войны, которая начинала разворачиваться в 1854 году на Черном море, на Балтике и даже в Тихом океане. Пока главные силы англичан, французов и турок точили зубы на Севастополь, пока флот адмирала Непира подбирался к Кронштадту и Бомарзунду, а эскадра адмирала Прайса – к Петропавловску на Камчатке, задача капитана Омманея была громить русские гарнизоны и крепости на Белом море и блокировать торговые пути.
С точки зрения Генри Линдерса, капитан Омманей справлялся с этой задачей скверно. Точнее, не справлялся совсем, пятная своей нерешительностью военный флаг Британского королевства.
Нельзя же считать всерьез боевыми действиями за-хват нескольких мелких купеческих судов, груженных рыбою и хлебом и не имеющих никакого оружия. А промеры фарватеров у острова Мудъюг для подхода к Архангельску имели скандальную развязку. Шесть английских шлюпок были встречены ружейным огнем с канонерских лодок и пальбою двух полевых орудий с берега и ни с чем вернулись на пароходы.
Желая смыть мелкие неудачи крупной победой, капитан Омманей с пароходами «Бриск» и «Миранда» 18 июня подошел к Соловецкой обители. Стены и башни монастыря, отражавшиеся в тихой воде, производили впечатление грозной крепости. Что же, тем больше славы принесет королевскому флоту и капитану Омманею штурм твердыни и ее капитуляция. Тем выше будет цениться добыча. О сокровищах монастырских церквей ходили легенды.
Генри Линдерс, однако, не думал о добыче. Единственной мечтою был геройский штурм русской цитадели. Упоенно билось сердце, когда представлял он, как первым выскочит из шлюпки, вспрыгнет на береговой валун и, заиграв сигнал атаки, жестом адмирала Нельсона укажет доблестным солдатам ее величества путь к пробитой в стене бреши. Затем он вместе с ними кинется туда, к дымному проему, чтобы не отстать от героев…
Лишь бы русские не струсили раньше времени и не вздумали поднять белый флаг до начала штурма!
Может, и не сдадутся. В ответ на тридцать орудийных выстрелов с пароходов монастырь отплюнулся несколькими ядрами из трехфунтовых пушчонок, да так удачно, что разбил на «Миранде» верхнюю часть рубки и навылет прошил ее дымовую трубу. Свистнуло ядро и над палубой «Бриска». Генри не дрогнул.
Командующий эскадрой приказал пароходам отойти, а на следующий день отправил с парламентером на берег суровое требование. Содержание письма было известно всем офицерам, матросам и солдатам. Капитан флота ее величества Омманей объявлял русским, что, произведя пальбу по английскому флагу, Соловецкий монастырь «принял на себя характер крепости» и «в удовлетворение за враждебные действия» главнокомандующий Британской эскадрою на Белом море требует безусловной сдачи. В случае же если комендант не передаст лично свою шпагу на пароход «Бриск», русская крепость подвергнется немедленному бомбардированию.
Генри молил Бога, чтобы комендант в Соловках собрал все свое мужество и не отдавал шпагу до штурма.
Вскоре парламентер привез ответ за подписью «Соловецкий монастырь». В письме сообщалось, что выполнить требование господина капитана Омманея обитель не может по двум причинам. Во-первых, в ней нет никакого коменданта, а есть лишь настоятель архимандрит Александр, который шпаги, естественно же, не имеет. Во-вторых, невзирая на отсутствие личного оружия и склонностей к бранным утехам, отец Александр тем не менее, уповая на Божью помощь, надеется постоять за веру и землю Русскую. Как стало известно позже, владыка уповал еще и на твердость своих иноков и богомольцев и небольшой инвалидной команды во главе с прапорщиком Николаевым.
В ответ на дерзость загремели орудия «Бриска» и «Миранды», посылая в крепость громадные бомбические снаряды. Десять монастырских пушек отвечали бодро и умело. В церквях зазвонили колокола.
Более девяти часов продолжалась канонада, но древние каменные стены были чересчур прочны. Мало того! В подзорные трубы можно было разглядеть, что никто из бесстрашных участников крестного хода, двигавшегося вокруг обители по стенам, ничуть не пострадал, хотя ядра не раз пробивали деревянную крышу галереи.
Генри был уверен, что наутро командующий велит повторить обстрел и затем отдаст приказ десанту. Но капитан Омманей малодушно распорядился развести пары и удалиться, признав безуспешность своего покушения на «Цитадель оф Солоффки».
Признаться, Генри даже всплакнул в уголке кубрика от сознания, что рушатся все его мечты.
Нет, он ничего не имел против русских, это были честные и храбрые противники. Но какой смысл был отправляться в экспедицию, если надежд на подвиг оставалось все меньше?
Через два дня, разграбив по пути несколько деревенек и церквей, экспедиция подошла к селению Плахты, стоявшему на невысоком берегу среди редких сосен и валунов. Около сорока дворов и деревянная церковка на взгорке. Командир первой роты майор Грей сообщил командующему эскадрой, что видит среди камней и заборов нескольких людей с ружьями.
Капитан Омманей приказал готовить десантные шлюпки.
В шлюпку, где был майор Грей, прыгнул и Генри.
Когда подходили к берегу и высаживались на песок, селение казалось обезлюдевшим. Но едва цепь стрелков двинулась к домам, как из-за валунов и сложенных штабелями бревен ударил встречный залп. Три королевских солдата грянулись замертво, еще несколько легли на землю, прижимая ладони к ранам. Ответные выстрелы, проклятия и команды смешались в ушах у Генри. И он едва разобрал, что двум десяткам солдат велено обойти противника слева и ударить ему в тыл.
– Первого же пленного офицера – ко мне! – кричал майор Грей…
Но никаких офицеров не было в Плахтах. Из военных там жили только двое: бывший уже в отставке унтер-офицер Босов и отставной же рядовой Ивлин, которые по причине начавшейся войны подали недавно прошение о зачислении их на повторную службу. А также находился в селении губернский секретарь Волков, оказавшийся там по ревизионному делу. Он тоже был ранее в военной службе и посему принял на себя командование гарнизоном, куда, кроме Ивлина и Босова, вошли два десятка поморов. Оружие их было – мушкеты времен еще государя-императора Петра Алексеевича. Зато храбрости не занимать.
Едва показались в белесом безветренном море неприятельские дымы, баб и ребятишек отправили в ближний лес, а мужики собрались в маленькой церкви на молебен о ниспослании помощи в отражении супостата.
Служил молебен отец Федор. Настоятелем здешнего храма стал он недавно. Раньше был здесь отец Пантелеймон, давний житель этих мест, для всех как родной. Но немощный и старенький, на девятом уже десятке, по весне он преставился, и селяне били челом Соловецкому владыке: пришли нового священника. Ибо невозможно церкви и селению без пастыря. Архимандрит Александр на просьбу отозвался, отправил в Плахты иеромонаха отца Федора. Тот был человек лет шестидесяти, прямой, строгий, молчаливый. Вначале смутил жителей внешней суровостью. Вскоре, однако, увидели, что вроде бы и не суровость это, а скорее какая-то неизгладимая печаль. Оказалось, за прихожан болеет душой, о недужных имеет постоянную заботу. Особенно же ласков был с ребятишками, которые раньше других разглядели за хмуростью теплое сердце…
После богослужения отец Федор не оставил защитников селения, пошел с ними, чтобы в трудный миг не дрогнули душою. Причем не только словами Святого писания поддерживал в поморах твердость духа, но и давал дельные советы, как лучше расположиться по укрытиям. Это говорило о том, что не всегда отец Федор посвящал себя монастырскому послушанию, было в его жизни и что-то иное…
К моменту высадки англичан шестеро поморов и отец Федор оказались на правом краю позиции в некотором отрыве от других сил гарнизона. Отец Федор рассудил, что в этом месте, под прикрытием кустарника, противник может обойти защитников и перерезать дорогу к лесу.
Оно и правда, такая попытка случилась. Десятка два англичан, укрываясь меж валунов и в сосновой поросли, хотели тайно пройти в тыл. Красные мундиры их, однако, выдавали движение. Отбить превосходящего по числу и оружию врага можно было лишь дружностью неожиданного огня. У каждого помора было на этот случай по два ружья, а у солдата Ивлина к тому же и пистоль. И только отец Федор был без всякого вооружения, лишь тяжелый наперсный крест сжимал в правой ладони.
– Готовсь, братцы, – приказал Ивлин, и стволы, качнувшись, замерли над ветками и камнями. Теперь оставалось ждать, когда солдаты выйдут на открытое место перед засадой.
Первыми вышли трое – два высоких стрелка и солдатик в непомерно большой мохнатой шапке, с изогнутым блестящим горном в руке. Кто-то из поморов неловко шевельнулся в засаде. Два солдата вмиг упали ничком, боясь огня. Маленький же скачком взлетел на валун и затрубил, указывая левою рукою туда, где заметил опасность. Михайло Батюхин, молодой, быстрый на руку помор, укрывавшийся рядом с отцом Федором, вскинул фузею. Грянул выстрел. Но за миг до того отец Федор снизу ударил крестом по оружию:
– Опомнись! Мальчонка же!
Пуля рванула с мундира трубача красно-золотой полосатый наплечник. Мальчик уронил трубу и стал медленно падать с камня.
Выстрел, вскрик отца Федора смешались тут же с другими выстрелами и криками. Англичане кинулись было в атаку, но второй залп погнал их назад. Нападавшие отступили, не подобрав даже горниста и еще двух упавших товарищей. Видимо, сочли, что противостоящий им враг весьма силен.
Сделав свое дело, засадная группа готовилась отойти к лесу. Но прежде подошли к упавшим. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять: оба солдата сражены наповал. Отец Федор и Михайло Батюхин наклонились над трубачом. Тот был с белым лицом, закрытыми глазами. Шапка отлетела. Волосы светлые, как у здешних ребятишек.
– Палишь, не глядя в кого… – глухо сказал отец Федор.
– Сгоряча не разглядел, что малой. Вижу, своим на нас кажет… Неужто насмерть? Вот грех-то на душу…
– Да нет, оцарапало малость, вот и обмер. Видать, первый раз в таком деле…
– Чего же они, басурманы, детишек-то на смертоубийство.
– Бывает такое… В герои рвался мальчик…
– Ресницами шевелит, – прошептал Михайло…
Генри поднял ресницы и увидел над собой бородатое лицо с темными глазами. Очень болело плечо. Но страха не было.
– Я ранен? – спросил он через силу.
– Да. Но, надеюсь, не опасно. – Бородатый говорил по-английски довольно хорошо, хотя и с акцентом. – Вы совершили славный поступок и своим сигналом спасли жизнь многим товарищам. Теперь, однако же, вы в плену, таковы превратности войны…
– Меня расстреляют?
Бородатый чуть улыбнулся:
– Вас отправят в один из городов и вылечат. Думаю, жизнь в России не будет для вас суровой, русские не обижают пленных. Особенно таких… юных и храбрых…
– Тогда дайте попить, – сказал Генри, но тут опять стало темно и тихо…
– Возьми его на руки, – велел отец Федор Михайле. – И пошли… Отходим все!
Через час отец Федор вернулся в селение. Один. Так он решил, запретив кому-то идти с ним.
Дома горели, едкая гарь висела в жарком безветренном воздухе. Солдаты тащили к шлюпкам награбленные вещи.
Никем не остановленный отец Федор подошел к церкви. У нее горела ветхая крыша, и было ясно, что скоро церковь заполыхает вся. Несколько солдат и пожилой офицер стояли у крыльца. Из церкви выскочили еще двое. Один с парчовым покрывалом, другой с большим образом Богородицы с Младенцем в посеребренном окладе.
Отец Федор шагнул к рыжему детине, взялся за икону. Сказал по-английски:
– Отдайте. Вы же солдат, а не грабитель. Божье достояние не может быть военным трофеем.
Рыжий выпустил икону, отступил на два шага, взял штуцер, который держал под мышкой, и выстрелил навскидку.
Отец Федор сел на землю. Выпустил икону. Прижал руки к пробитому пулей боку, лег навзничь. Закусил губу.
– Джон Робертс! – закричал пожилой офицер. – Вы с ума сошли! Это же священник! Вы забыли, в какой вы армии!
– Господин майор, я не нарочно! Я хотел попугать! – завопил рыжий детина. Кажется, искренне.
– Сержант, арестуйте солдата Робертса. Он нарушил закон…
– Оставьте, майор. Какие у войны законы… – отчетливо сказал священник.
Майор Грей нагнулся:
– Я надеюсь, ваша рана не опасна.
– Думаю, что наоборот… Если не трудно, прикажите солдатам положить меня на ровное место. На доски… И еще прошу вас: не трогайте икону. У вас и без нее довольно добычи, а для здешних людей это реликвия…
Неподалеку сложен был широкий штабель свежего теса: думали к осени сделать на церкви новую кровлю. Отца Федора уложили на доски, икону пристроили рядом. Солдаты были смущены и отходили один за другим.
– Я прикажу перевезти вас на пароход, – сказал майор Грей.
– Вот уж не думал… что офицеры ее величества берут в плен священников.
– Я не для того! У нас на судне доктор!
– Не надо. Едва вы отойдете, как наши люди вернутся из леса и окажут помощь… если она будет нужна… – Отец Федор слегка задыхался.
– Но разве есть у вас врач?
Отец Федор опять улыбнулся. С усилием.
– Зачем врач, если Господу угодна будет моя кончина. А если нет… Не утруждайтесь, майор, я у себя дома…
Майор Грей сказал нерешительно:
– Мы подобрали на месте стычки двух солдат, но не нашли трубача. Вам известна его судьба?
– Да. Слегка поцарапан и отправлен в тыл…
– Если вы в силах, то не могли бы способствовать его возвращению? Мы пришлем парламентера…
– Боюсь, что поздно. Скорее всего, его уже повезли в Холмогоры.
Это была правда. На укрытой в лесу бричке губернского секретаря собирались отправить ближнему начальству донесение и пленного.
– Плен – слишком тяжкое испытание для ребенка, – сказал майор Грей.
Отец Федор слегка поднял голову:
– А пули? Не слишком тяжкое… испытание? Посылать детей на войну – совместимо ли это с христианскими заповедями?
Майор ответил неохотно:
– Это его судьба. Он сирота, воспитанник полка…
– Он ребенок… И счастливая судьба его, может быть, в том, что плен спасет от смерти… Успеет еще повоевать, когда вырастет.
– Может быть, вы и правы, – помолчав, отозвался майор. – Тогда прощайте, ваше преподобие. И еще раз примите мои соболезнования… Не думал, кстати, встретить здесь кого-то, знающего наш язык. Судя по всему, вы джентльмен.
– Что вы имеете в виду? Дворянство? Был когда-то…
Майор Грей слегка поднял брови.
– Мало того, майор, я был, как и вы, офицером. Только плохим…
Майор Грей сказал учтиво:
– Я не заметил в вас недостатка храбрости.
– Этого мало. Чтобы быть хорошим офицером, надо уметь без колебаний посылать на смерть множество других людей. У меня это не получилось. И государь не простил. Вот и вышло: сперва матросская лямка, потом ушел в монастырь, ибо в Господе единственное видел утешение и спасение. И оправдание, если хотите… Простите, что открываю душу незнакомому человеку. Боюсь, что другому уже не успею.
– Давайте все-таки на пароход!
– Нет, благодарю вас, майор… О судьбе мальчика при случае вас известят через парламентера… Главное, что мальчик остался жив…
…Мальчик остался жив!.. Мальчик жив! Эта летучая весть пронеслась по коридорам больницы, вырвалась за ее стены, сделала счастливыми многих людей. Ушел от них изматывающий душу страх, ушла тоска…
И женщина, которая неотрывно провела у его койки множество часов, наконец расслабила плечи, откинулась на спинку стула, закрыла глаза.
– Вам надо поесть и поспать, – сказал ей чернобородый доктор Андрей Львович.
– Как? Уйти?.. Нет. Еще нет!
– Вам сюда принесут еду. И поставят раскладушку.
– Но я еще посижу. Немного…
Доктор наклонился над мальчиком. Почти все провода и шланги были уже убраны. Щеки порозовели. Ресницы иногда дрожали, и дважды сомкнулись и приоткрылись губы, неслышно обрисовав звуки «м» и «а».
 Женщина оглянулась на врача, сказала просительно:
Женщина оглянулась на врача, сказала просительно:
– В конце концов, разве дело в кровном родстве…
– Конечно, конечно… Вы все же поешьте и отдохните, прошу вас. А я пришлю медсестру для укола.
– Зачем?! Разве ему хуже?
– Не для него. Для вас. Иначе вы сляжете…
– Ну хорошо… – Она с трудом заставила себя убрать ладонь с запястья мальчика. Тот опять шевельнулся.
– Кстати, – вспомнил Андрей Львович, – давайте я хотя бы задним числом выпишу вам пропуск. Надежда Яковлевна… а, простите, как ваша фамилия?
Она улыбнулась. Теперь, когда страшное осталось, кажется, позади, в ней появилась излишняя суетливость и нервная разговорчивость.
– Да-да, пропуск, конечно… Моя фамилия Линдерс. Девичья. Когда я развелась, взяла ее снова… Говорят, у нас предок был англичанин и в середине прошлого века попал к русским в плен. Это в ту пору, когда Севастопольская оборона и так далее… Он так и остался жить в России. Странные бывают судьбы, верно?
– Бывают, – вежливо согласился доктор.
А женщина вдруг опять резко нагнулась над койкой:
– Что с ним? Так замер…
– Он просто спит, – сказал Андрей Львович.
Кинтель спал. И видел сон. Будто он с Салазкиным, с ребятами, с Корнеичем и даже с Алкой Барановой плывет на пароходе по неширокой реке с низкими берегами. Пароход старинный, неторопливый, позванивает медным колоколом и на поворотах задевает берег то одним, то другим гребным колесом. Стаями поднимаются из камышей крикливые журавли.
День без солнца, с плотными синеватыми облаками, но ветер ласковый и теплый. А река впереди распахивается – там то ли озеро, то ли морской залив.
От пасмурного горизонта, быстро вырастая в размерах, спешит навстречу кораблик. И очень белыми кажутся на фоне темных облаков его паруса. Все, кроме кливера. Тот – как пунцовый проблеск. Под кливером искрится на бушприте фонарик.
Кинтель знает, кто на этом кораблике.
А машина парохода стучит спокойно и ровно, как одолевшее невзгоды сердце.
© Владислав Крапивин, 1992 г.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: © Евгения СТЕРЛИГОВА









