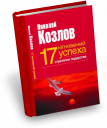Быстро укреплялась во мне вера в себя, в свои способности к научной работе, и, право, чуть ли не наивными казались былые опасения, по-новому представлялся немалый практический опыт, накопленный в Киренске: сколько всего видел, сколько всего освоил! В клинике мне, как аспиранту, разрешалось оперировать при грыже или аппендиците. Я, имевший уже навыки в большой хирургии, в таких случаях охотно уступал свою очередь моим новым товарищам, тоже аспирантам, которые только и мечтали, как бы лишний разок постоять у операционного стола. Они верили и не верили, что я уже самостоятельно проводил десятки сложнейших операций, и боялся, что пока не продемонстрировал свои способности, считали, что привираю… А продемонстрировать их довелось лишь через полгода. Прослышав, что Углов отлынивает от легких операций, Николай Николаевич порекомендовал дать мне возможность показать умение на желудочной операции. Когда больной с неподвижной опухолью желудка, которого я вел как ординатор, был доставлен в операционную, заместитель Петрова профессор А. А. Немилов внезапно предложил мне стать на место хирурга, а сам приготовился ассистировать.
Ни неуверенности, ни растерянности я не ощущал, было лишь легкое волнение, как всегда при экзамене.
Когда вскрыл брюшную полость, стало ясно: большая опухоль тела желудка проросла в нижний край печени, что и делало желудок неподвижным. Я сказал профессору, что тут можно резецировать желудок вместе с краем печени. Александр Александрович согласно кивнул головой. При этом он думал, как рассказывал позже, что я, увидев сложность предстоящей операции, освобожу ему место, попрошу, чтобы он сам делал ее. Однако я без колебаний приступил к операции, успешно справился с ней, ни разу не обратившись к профессору за советом или специальной помощью.
Это было, конечно, не от чрезмерной самонадеянности, а от привычки, усвоенной на самостоятельной работе, где возле меня не имелось консультантов, советчиков, все приходилось решать самому. Я не брался за операцию, пока не продумал каждую ее деталь от начала до конца, не разработал тактику ассистента, которого затем подробно инструктировал, когда, что и как делать… Привыкнув брать всю ответственность на себя, я, естественно, научился обходиться без подсказки со стороны. Это сразу понял и одобрил Александр Александрович Немилов.
Тут я должен сказать о самом Александре Александровиче. Смелый хирург, отличный диагност, он ведал в клинике, по существу, всеми практическими вопросами, касающимися лечения больных, подготовки молодых аспирантов и ординаторов. Мы ценили его за справедливость: у него не было любимчиков и нелюбимчиков. Он с радостью отмечал наши успехи и вежливо, но твердо указывал на недостатки. Совершенно седой, хотя ему тогда едва перевалило за пятьдесят, с молодыми острыми глазами, он создавал вокруг себя обстановку жизнерадостности. Даже не очень-то прилежные при виде его невольно подтягивались, любое дело при нем шло споро и уверенно. С глубоким уважением относясь к Николаю Николаевичу, он всячески поддерживал его авторитет, и в то же время в нем не замечалось ни тени заискивания. Отношения Немилова и Петрова были теплыми, дружескими и одновременно чрезвычайно корректными, с соблюдением субординации…
В войну, в самое трудное время блокады, Александр Александрович ни на день не покинул клиники, да еще консультировал в больнице имени Софьи Перовской, в которой долго работал до прихода в клинику. В период всеобщего блокадного голода у него обострились приступы стенокардии, но, скромный и отважный по натуре, он в грозный час меньше всего думал о себе, о необходимости поберечься. Скончался внезапно, на работе, во время сердечного приступа. Его смерть мы все очень переживали… Об этом чудесном человеке у меня остались самые прекрасные воспоминания.
Тогда же, после первой моей операции в клинике, к концу которой, кстати, в операционную пришел Николай Николаевич и тоже наблюдал за моей работой, профессор Немилов заметил:
— На вас приятно было смотреть. Хорошие руки!
А Николай Николаевич, как позже узнал я от старшей операционной сестры Людмилы Николаевны Курчавовой, сказал ей:
— Как ты считаешь, Федя-то неплохой хирург? Дай-то бог, дай-то бог…
Вскоре после этого Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, стал подробно расспрашивать о работе в Сибири. А выслушав, предложил написать научную статью о деятельности врача на периферии.
— Не знал, не знал, что вы у нас, папенька, гигант, — пошутил он. — Такой опыт грешно за пазухой носить. Пусть читают, на ус мотают…
Предложение учителя обрадовало меня. Ведь и сам, разговаривая с аспирантами, а также с врачами-курсантами, приезжающими к нам из различных хирургических учреждений страны, я все больше убеждался: объем работы, проведенный мною в Киренске, необычен. И если рассказать о нем в печати, раскрыв условия жизни и те трудности, что встретит молодой врач, едущий на периферию, статья будет поучительной для многих. А все документы о проделанных мною операциях, весь фактический материал у меня с собой.
К тому времени, изрядно помучившись с жильем (не очень-то охотно пускали на квартиру с маленькими детьми), мы наконец получили комнату на Охте, в одном из бараков, построенных наспех для сезонных рабочих. Это было шаткое, сырое, полутемное сооружение. Но когда ничего другого не предвиделось, и такой дом почитался нами за счастье. Кстати, я прожил в нем до блокады, когда его разобрали на дрова.
…Дети, угомонившись, заснули, а я сел за статью. Через стенку было слышно, как шипел примус, кто-то громко играл на гармони, под окнами бранились подвыпившие соседи, а я увлеченно писал, заставив себя отключиться от всего другого. Наверно, с тех дней научился работать при любом шуме, приходилось порой писать выступления для научных конференций и статьи для журналов на каком-нибудь скучном, но обязательном собрании, под многоголосый говор, и сейчас уже настолько натренирован, что могу даже работать под грохот современного джаза… Эта привычка не обращать внимания на звуковые раздражители спасла мне в дальнейшем много дорогого времени.
Та статья — я ей посвятил несколько вечеров и ночей — получилась большой и, как мне думалось, очень убедительной. Подробно рассказав в ней об условиях, в которых довелось работать, об организационных мероприятиях, которые необходимо было осуществить до начала непосредственно хирургической деятельности, я, наконец, детально изложил вопрос желудочной хирургии… Николай Николаевич быстро прочел ее, вычеркнул все лишнее, сократив этим самым количество страниц чуть ли не вдвое, и сказал: «Хвалю, папенька!» — и порекомендовал послать статью в «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова».
Вскоре меня пригласил к себе редактор этого журнала профессор Юстин Юлианович Джанелидзе.
— Мы послали вашу статью на рецензию профессору Заблудовскому. Он сомневается, чтобы в глуши, в Сибири, в районной больнице, смертность от резекции желудка была вдвое ниже, чем средняя по Ленинграду.
И добавил с легкой улыбкой:
— Профессор Заблудовский уверяет, что это выдумки барона Мюнхаузена.
— Еще бы! — вскипел я. — Если б такую статью прислал вам профессорский сынок, сомнений не было б! А то какой-то Углов!
У Юстина Юлиановича от гнева лицо побагровело, и я уже был не рад, что сорвался.
— Вот что, молодой человек, — сказал он сердито, — за такие слова я должен был бы попросить вас из кабинета и в печатании статьи отказать… да-да! Но я хочу вам все же дать возможность доказать справедливость ваших данных. Пошлите свою статью по прежнему месту работы. Пусть там подтвердят или опровергнут ваши данные…
Несколько месяцев ходила моя статья в Киренск и обратно, и на страницах журнала появилась лишь в 1938 году. Я смотрел на строгие печатные строчки, на свою фамилию, забранную полужирным шрифтом, и было тревожно-радостное ощущение, что сделан первый шажок в большой работе. Даже пожалел на миг, что «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова» не продают в газетных киосках: сколько людей лишены удовольствия собственными глазами увидеть «великолепную» статью Федора Углова! Несправедливо!
И был уже окончательно убежден: даже кандидатскую диссертацию сумею написать не хуже других. Но Николай Николаевич почему-то не спешил дать мне тему для диссертационной работы, а когда я робко заикнулся об этом и раз, и другой, он не прореагировал. Опять пал я духом, замкнулся, решив, что учитель считает меня еще слишком зеленым. И вдруг однажды, когда я на обходе докладывал ему о больной с тератомой [тератома — врожденная опухоль сложного анатомического строения] крестцово-копчиковой области, он сказал:
— Вот она, папенька, тема. Опишите данный случай. Разовьете, будет диссертация.
Мне было достаточно этих, сказанных походя, слов учителя. Собственной энергии не занимать! В основу работы положил статью самого Николая Николаевича, который еще в 1899 году писал о тератоме крестцово-копчиковой области, но многие вопросы эмбриогенеза оставались невыясненными, и во всей отечественной литературе я не мог разыскать ответа на них. Николай Николаевич дал мне записку к профессору Хлопину. Тот долго беседовал со мной, я даже устал его слушать, но, кроме уже известного мне, ничего не вынес из этого посещения. Как в стену уперся!
Стал читать статьи в немецких медицинских журналах, и однажды попалась одна, как раз по моей проблеме, но я никак не мог ее перевести! День бился, другой — ни в какую. Не помогла и учительница немецкого языка. А я, можно сказать, интуитивно чувствовал, что в этой статье как раз необходимая мне разгадка… Кто-то подсказал, что на Фонтанке живет немец-лингвист, в совершенстве владеющий родной речью. Поехал к нему, нашел нужную квартиру. Немец в драном халате и ночном колпаке на седой голове варил на кухне кофе. Пробежав глазами статью, он поднял кверху желтый от курения палец и со значением в голосе сказал:
— Это отшень трудный текст. Чтобы я прочиталь, нужен бутылка русский шнапс!
Намек, как говорится, я понял — куда как прозрачный! И когда через три дня снова наведался к своему переводчику, он торжественно в обмен на бутылку протянул мне аккуратно переписанный перевод статьи: с грамматическими ошибками и стилистическими несуразицами, но в целом приемлемый. Прочитав, я возликовал: это действительно то, чего мне так недоставало. Теперь можно составить полное представление о сущности врожденной патологии — тератомы…
Отдавая много времени изучению медицинских источников., справочного материала, я стремился строить работу так, чтобы как можно активнее участвовать в жизни клиники и — лишь бы представлялась такая возможность — экспериментировать. С ассистентом А. Д. Картавовой вели опыты по клиническому и экспериментальному изучению внутривенного наркоза, испытывали и проверяли действие импортного и отечественного препаратов. Тут же, в экспериментальной лаборатории, я заинтересовался отравляющими веществами, действующими прижигающе и в то же время отравляюще на организм. Думал, что если при поражении конечности наложить жгут, то это, возможно, замедлит всасывание и человек не умрет… На кафедре токсикологии эта гипотеза показалась интересной, и в мое распоряжение предоставили токсический препарат. Вечера я проводил в лаборатории, а перед уходом домой успевал еще посидеть в читальном зале библиотеки, откуда, как правило, перед закрытием изгонялся уборщицей. «Сидит, сидит, — ворчала она, — а чего высидишь-то? Один вот так же сидел, теперь его поводырь водит. Иль глаз не жалко?»
Опубликованная в «Вестнике хирургии им. Н. И. Грекова» статья заставляла меня снова и снова возвращаться мыслями к своему злополучному докладу на Оппелевском кружке. Ведь тогда лишь один профессор Самарин отнесся беспощадно к нему, а другие — они, напротив… Было искушение порыться в старых бумагах, отыскать те давние листки, перечитать их. Я так и сделал. И показалось, что написано убедительно, ничего лишнего нет, не нужно даже править. Отдал машинистке перепечатать, а потом понес на суд Николаю Николаевичу. Он возвратил мне материал уже на следующий день со словами: — Я написал свое решение, рекомендую в печать. Посылайте в хирургический журнал.
Я будто внезапное помилование получил, вроде бы сняли с меня многолетний гнет, под которым ходил… Слово ранит и слово лечит!
Вскоре эта работа была напечатана в журнале, не устарела она нисколько, хотя писал ее шесть лет назад.
В клинике Н. Н. Петрова я с ненасытностью наголодавшегося интересовался всем. За четыре года работы, когда был оторван от большой медицины, накопилась уйма вопросов… И как мне повезло, что теперь я возле мудрого человека, который является учителем в самом глубоком и светлом значении этого слова! Я упорно следовал за ним, чуть ли не по пятам всюду ходил, боясь что-то пропустить, чего-то не услышать. И он однажды шутливо сказал мне: «Отчего это ты, папенька, бродишь за мной, словно тень отца Гамлета?» Я лишь растерянно пожал плечами: как объяснишь жадное стремление знать, знать и знать!..
За время учебы в аспирантуре не пропустил ни одной лекции Николая Николаевича, всегда присутствовал на обходах больных, которые он проводил.
Как он умел быть со всеми вежливым, внимательным, заботливым! Нет, не то слово «умел»… Это составляло сущность его характера. Я никогда не видел его в раздраженном состоянии. Он был удивительно терпелив, даже когда больной «капризничал». Если кто-нибудь упрямо отказывался от операции, а она была необходима, Николай Николаевич не жалел ни времени, ни слов, чтобы убедить такого маловера, и тот в конце концов соглашался с профессором. На вопрос больного: «Что мне сделали?» — ни себе, ни помощникам не позволял ответить так, как нередко можно услышать от невежественных, грубых врачей: «Сделали то, что нужно!» Николай Николаевич обязательно разъяснял человеку особенность его болезни, значение тех мероприятий, которые уже осуществлены или готовятся. Он внушал нам: «Добивайтесь того, чтобы больной верил и охотно помогал вам. Болезнь — общий враг, бороться против нее должны совместно, плечом к плечу, и врач, и больной. Если же они станут действовать врозь или — что вообще худо — будут противодействовать друг другу, то им болезни не победить».
Ясно, что такое доверие к больному, правдивость по отношению к нему, в ответ вызвала беззаветную любовь сотен излеченных людей: имя выдающегося русского врача Николая Николаевича Петрова с уважением произносилось в разных концах нашей необъятной страны.
А правдивость Николая Николаевича была поистине удивительной. В ней было что-то от благородного донкихотства и самой чистой веры во всесильность человеческой справедливости. Расскажу лишь об одном факте…
Однажды Николай Николаевич сделал операцию по поводу туберкулеза почки и удалил ее. Операция была тяжелая, больную после долго приводили в себя. А у самого профессора возникло неясное ощущение допущенного промаха: не оставил ли в операционном поле салфетку? Когда больная обрела ясное сознание, он пришел к ней и сказал:
— Вы знаете, мамаша, у меня такое впечатление, что у вас в ране мы забыли салфеточку. Забыли и зашили. А это нехорошо, даже очень плохо. Как вы смотрите, если снова дадим вам наркоз, раскроем рану и поищем эту салфеточку?
— Что ж, — ответила больная, — раз считаете нужным, я согласна.
Так и сделали. После наркоза распустили швы, раскрыли рану, но никакой салфетки не обнаружили!
Через несколько лет эту женщину привезли в клинику на машине «скорой помощи» с опухолью желудка, вызвавшей непроходимость. Николай Николаевич, как услышал об этом, сразу же воскликнул:
— Это моя салфетка!
Когда больной произвели резекцию желудка по поводу опухоли выходного отдела, вскрыли препарат, там и вправду была она, замурованная салфетка! Проникнув в забрюшинное пространство и в просвет желудка, она явилась причиной непроходимости.
Николай Николаевич сокрушенно руками развел, а потом задумчиво сказал:
— Разумеется, эта салфетка не могла исчезнуть. Только зачем она пряталась так долго?
А когда женщину выписывали из клиники, она, улыбаясь, спросила у Петрова:
— Может, Николай Николаевич, история со мной будет чем-то полезна науке?
— Разумеется, — согласился профессор. — Это наука. Мне!
Они расстались друзьями, у больной хватило воспитанности понять, что от оплошности никто не застрахован, а откровенность хирурга только укрепила и так высокое уважение ее к нему. Ведь в любой жизненной ситуации откровенность всегда требует ответной откровенности, и на этой основе вырабатывается доверие одного к другому…
И, конечно, там, в клинике, с первых же дней впитывая все хорошее, я стремился освоить главное — методику операций, которые проводил сам Николай Николаевич и его ученики.
После памятных мне «шумных» операций В. А. Оппеля я прежде всего был очарован той тишиной, тем спокойствием, что царили в операционной у Николая Николаевича. Даже в самые ответственные моменты операции его голос бывал ровным, мягким, доброжелательным по отношению к помощникам. Можно лишь было услышать:
— Папенька, вытри тут хорошенько… молодец! Папенька, не тяни — порвешь… Не отвлекайся, папенька…
Я уже писал, что спокойная обстановка при операции куда эффективнее той, когда хирург бывает несдержанным, заставляет нервничать ассистентов.
Никогда не забывал я слов Николая Николаевича:
«За все, что происходит в операционной, отвечает хирург. Если чего-то нет, он виноват, что перед операцией не проверил. Если ассистент не знает хода операции, плохо ассистирует, тоже он, хирург, виноват: вовремя не научил… И так во всем!»
При операциях, которые проводил Николай Николаевич, поражали исключительная красота движений рук хирурга, четкость в работе, самое бережное, прямо-таки ласковое обращение его с тканями. Он брал в пальцы каждый орган, каждую петлю кишки так, будто они из самого тончайшего хрусталя. Никакого разминания, расковыривания тканей. Закончит, бывало, двухчасовую операцию, на органах никаких следов от его пальцев нет: все ткани нормального цвета, без кровоподтеков и измятин, как будто брюшная полость только что вскрыта… Он совершенно не переносил страданий людей, и его сердце, как самый чуткий барометр, моментально реагировало на чужую беду. Не мог терпеть, когда больной на операционном столе кричал. Немедленно отправлял кого-либо из нас узнать: «Кто это там оперирует по методу Малюты Скуратова? Попросите его прекратить безобразие!»
И когда Николай Николаевич оперировал, я, затаив дыхание, старался ничего из его действий не пропустить, запомнить каждую деталь. Большинство операций, наблюдаемых мною в тот период, я уже самостоятельно проделал в том же Киренске, учась, как известно, по книгам, в том числе и по написанным профессором Н. П. Петровым. И, мысленно сравнивая технику и методику Николая Николаевича со своей, я давал себе жестокую оценку. Тогда еще подмастерью было далеко до мастера! Вот здесь, оказывается, нужно было делать так, а в этом месте тоже необходим был совсем другой подход… И какая точность рук при быстрых манипуляциях!
Когда же в редких случаях мне вдруг казалось, что какой-то момент техники у меня лучше отработан, я не стеснялся показать его Николаю Николаевичу, спросить его мнение, зная, что он никогда не покривит душой, оценит объективно. И если у меня что-то на самом деле было лучше, так и скажет. Вслух, при всех.
Чтобы не пропустить ни одной операции учителя, я взял за правило являться в клинику раньше всех. Проведя обход больных, сделав перевязки, записав данные в истории болезней, я к началу операции бывал уже свободен… Это во многом способствовало тому, что за два с половиной года узнал все основные установки и правила клиники Н. Н. Петрова не хуже, чем любой его ассистент, проработавший тут добрый десяток лет.
Вот почему, когда в конце аспирантуры меня мобилизовали в армию и пришлось стать полевым хирургом, я с гордостью говорил своим боевым товарищам-военврачам, что являюсь учеником Петрова и представляю его школу. А это значило — уметь оперировать по Петрову и жить по Петрову.
Для врача-хирурга, понимал я, это был самый правильный путь.
Потому-то когда еще в первый год моего пребывания в клинике профессор А. М. Заблудовский сделал мне заманчивое и в чем-то даже почетное предложение пойти к нему ассистентом, я ответил, что остаюсь простым аспирантом у Н. Н. Петрова.
КОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫ ОНИ, суровые житейские заботы, когда в семье у тебя маленькие дети, и при скудных деньгах любая, самая необходимая покупка оборачивается проблемой! Аспирантские стипендии не позволяли даже концы с концами сводить. Заботы наплывали одна за другой.
«Уже осень, дожди холодные, а у дочек ботиночек нет…» — думал я.
«У тебя такой пиджак, ходить в нем совестно…» — говорила жена.
А спустя несколько дней напоминала: «Три рубля всего… Как их растянуть до получки?»
И я при напряженных занятиях в клинике, трудясь в поте лица над диссертацией, вынужден был искать себе оплачиваемую работу на стороне, по совместительству. Это съедало уйму драгоценного времени, но другого выхода у меня не было.
Однако, несмотря ни на что, кандидатскую диссертацию положил учителю на стол ранней весной 1938 года, через полтора года после того, как начал учиться в аспирантуре. Но у Николая Николаевича в то время оказались неотложные дела, и лишь осенью он одобрил мою работу, а позже, выступая на защите, дал ей самую высокую оценку, тепло отозвался о ее авторе. Ученый совет единогласно присудил сибиряку Федору Углову ученую степень кандидата медицинских наук. Поистине — терпенье и труд все перетрут!
Тут же, в пору летних каникул, мне предложили на два месяца занять место главного врача с совмещением обязанностей хирурга в больнице рабочего поселка Нива-II, что поблизости от Кандалакши. Я согласился на это с великой охотой и вдруг узнал: на имя директора Института усовершенствования врачей пришло указание откомандировать врача Ф. Г. Углова в распоряжение отдела руководящих кадров Наркомата здравоохранения. Я понял, какая опасность грозит мне: посадят в административное кресло, оторвав от больных и хирургии.
И, не оставив никому своего адреса, я срочно выехал в поселок Нива-II.
Как волновалось сердце, когда делал первый обход больницы! Словно незабываемые киренские дни вернулись ко мне! Снова знакомая обстановка, по которой тосковал, — с полной самостоятельностью во всем, с обостренным чувством ответственности… И если в Киренске мне приходилось лечить рабочих затонов и судоремонтных мастерских, то здесь, на Ниве-II, тоже были рабочие — со строительства электростанции. Первые же успешные операции на желудке, на щитовидной железе заставили людей поверить в меня, и немалую роль, конечно, играло мое кандидатство. Так уж бывает: не на профессиональное умение порой смотрим, а на титулы! И слава богу, когда второе подтверждается первым…
Диапазон операций был самый широкий, даже больший, чем в Киренске: в больнице не было акушера. В Киренске гинекологические операции выполнялись Верой Михайловной, а тут пришлось их делать самому. Опять книги! В них, как прежде, искал ответ на то, чего не знал.
Как-то ночью меня вызвали в родильное отделение. Туда поступила роженица в состоянии тяжелой эклампсии — с высоким артериальным давлением, рвотой, почти полной потерей зрения. Беременность — девять месяцев. Операцию нужно было делать немедленно.
Приказав сестре и моему помощнику, студенту четвертого курса, приехавшему на летнюю практику, готовить больную, я раскрыл учебник, чтобы познакомиться с методикой предстоящей операции. Там подробно описывалось несколько способов, но в заключение было сказано: на современном этапе лучшим из них при «кесаревом сечении» признан шеечный, то есть такой, когда для извлечения ребенка матку рассекают не в области дна, а шейки. Этот метод надежнее других спасает матку от разрывов при последующих беременностях.
Операцию осуществил без труда. Когда раскрыл матку, увидел торчащие ножки. Вынул ребенка, передал его сестре. Господи, еще одна пара розовеньких ножек! Извлек другого малыша и с опаской уже посмотрел снова: все ли?
В вестибюле нервно мерил пол широкими шагами высокий худой мужчина в форме младшего командира Красной Армий.
— Поздравляю с двумя чудесными сыновьями, — сказал я.
— Она… она как?
— Вне опасности. Завтра сами поговорите с ней.
— Двое, доктор?
— Мальчики.
— Ух ты! Вот это да… Какой замечательный ты человек, доктор, сразу мне двух!
— Я, пожалуй, тут ни при чем…
— А все же! — засмеялся мужчина. С него сходило недавнее напряжение, мягко светились глаза. — Как звать-величать тебя, доктор?
— Федор Григорьевич.
— Будет тогда в самый раз! Одного сына, доктор, называю Ваней, чтоб не переводились на нашей Руси Иваны, а другого в твою честь — Федором. Пусть растут Иван Иваныч и Федор Иваныч Смирновы! На радостях нам, на страх врагам!
Он с чувством пожал мне руку.
А через восемь дней крепенькие, звонкоголосые Иван Иванович и Федор Иванович вместе со своей счастливой матерью были выписаны из больницы. Запомнилось, что отец приехал за ними на бронированной военной машине с охапкой синих васильков в руках, и это тоже осталось в памяти — синеглазые малыши, синие полевые цветы, высокое синее небо… Какой сокрушительный ураган прошумит чуть позже над ленинградской землей, надо всей страной! Трудно гадать, уцелел ли в огненных битвах защитник Родины
…Не без сожаления покидал я эту больницу. Неизвестность тревожила. Сотрудники наркомата все же разыскали меня и на Ниве-II: я получил телеграфное распоряжение оставить работу на участке и срочно выехать в Москву. Затем последовала еще одна бумага — опять на имя директора Института усовершенствования врачей: немедленно откомандировать врача Углова, с тем чтобы он прибыл в отдел руководящих кадров Наркомата здравоохранения точно 10 октября 1939 года.
А 9 октября я был мобилизован в армию.
Николай Николаевич Петров, написавший в наркомат ходатайство, чтобы меня оставили при клинике ассистентом, лишь сожалея руками развел… А мне тем более было тяжело расставаться с клиникой и со своим наставником, в котором я видел идеальный пример настоящего ученого, передового врача, великолепного человека. В известном руководстве о правилах поведения хирурга, написанном Николаем Николаевичем, есть слова, хорошо отражающие, по-моему, сущность характера самого профессора Петрова. Вот они:
«В хирургии, как и в жизни, имеются два способа возвыситься над окружающими. Один способ заключается в непрерывном росте, в совершенствовании своих знаний, опыта, гуманного отношения к больным, в совершенствовании хирургической техники. Другой способ заключается в том, чтобы унижать и оскорблять других с тем, чтобы этим возвысить себя. Однако только первый способ украшает человека и возвышает его над окружающими».
Тут, думаю, комментарии не требуются.
И люди, что окружали Николая Николаевича, в большинстве своем отличались именно стремлением к профессиональному совершенствованию и высокой добропорядочности. Выше я рассказывал о профессоре Немилове. Много хороших слов можно сказать о профессоре Топровер и профессоре Ковтуновиче. Первый успешно разрабатывал методику лечения Рубцовых сужений пищевода, предложил оригинальный способ желудочной фистулы. Второму принадлежат труды по вопросам кишечной непроходимости и онкологии… Большие надежды подавал заведующий отделением А. С. Федореев, защитивший в 1939 году докторскую диссертацию на тему о превращении язвы в рак. И, конечно же, его гибель на фронте в конце финской кампании, была ощутимой потерей для отечественной хирургии.
Среди тех, кто, как и я, был предан врачебным идеям Н. Н. Петрова, кто любил его, снова должен быть назван А. С. Чечулин. О нем уже не раз упоминалось на страницах этой книги как о первоклассном враче и славном человеке. Что-то гусарское подмечалось в его облике, если, разумеется, этот эпитет применителен к особенной во всех отношениях профессии хирурга. Он был упорным, смелым, точным и бесстрашным в хирургической работе, и в то же время не мог представить себя без шумных компаний с веселым застольем, на сумасшедшей скорости гонял на мотоцикле, в штормовую погоду выходил в залив на парусной лодке, превосходно танцевал, пел под гитару и, что прискорбно, уже тогда мог позволить себе выпить когда угодно — был бы повод!
Я с болью сейчас пишу про это, с болью и, не скрою, в назидание тем, кто небрежно относится к своему таланту, своим способностям. Ведь Чечулин, не обременяй он свой мозг винными парами, не окажись, в конце концов, в тягостном алкогольном плену, наверняка бы стал видным ученым в области хирургии. Все данные для этого у него были. Водка, к которой, по его признанию, он окончательно пристрастился в войну, помешала защитить диссертацию, помешала по праву занять место своего учителя, чтобы продолжить завещанную им работу. Табак, а курил Александр Сергеевич тоже без меры, привел в сравнительно молодом возрасте к раку легкого… Так погиб для науки, а затем физически ушел из жизни, одаренный, чистой души человек. За свою многолетнюю врачебную деятельность я видел столько разбитых судеб, столько несчастий, виной которых были водка и никотин, что, поверьте, готов без устали кричать: опомнитесь, остановитесь, пока не поздно! Вы же не хотите, чтобы курил и пил ваш сын, почему же сами не откажетесь от этого? Безволие? Но где же ваш разум, голос рассудка?
Врач, поднимающий стакан с водкой или закуривающий папиросу, достоин осуждения вдвойне. Раз позволяет себе такое врач, на которого другие привыкли смотреть как на авторитет в вопросах профилактики здоровья, обесцениваются все призывы и предупреждения о вреде алкоголя и курения. Пример всегда сильнее слова.