
 Сергей Иосифович Гессен.
Сергей Иосифович Гессен.
Основы педагогики
Введение в прикладную философию
Учебное пособие для вузов
1923, КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО», БЕРЛИН
© Составление. Издательство «Школа-Пресс», 1995
Ответственный редактор и составитель доктор философских наук П. В. Алексеев
От издателей
Уважаемый читатель! Если Вам трудно решить вопрос о необходимости для Вас этой книги, загляните в оглавление: оно поможет вам понять, что издание этого уникального по глубине и фундаментальности исследования — не дань моде извлекать из забвения все новые и новые имена. Нет! Это попытка найти пути решения многих педагогических проблем, которые сегодня, когда происходит ломка старой образовательной системы, обнажились особенно остро.
Вспомним недавнее прошлое. Мы переболели и «опорными сигналами», и «теорией погружения», и «педагогикой сотрудничества», и разного рода системами. Эта волна новаторства сегодня захлестывает нас «вальдорфскими методиками», теориями «гуманитаризации образования»… Но мы все с большей очевидностью видим, что эти «волны» способны только размыть старые постройки, но создать новое — вряд ли. И что стоят всякие новации, если дети наши вырастают безнравственного стержня. И сейчас становится ясно, что происходит это не потому, что мы забыли пути назад, как, кстати, казалось совсем недавно, а потому, что не умеем двигаться вперед, не знаем, как строить.
Предлагаемый Вашему внимательному изучению труд С. И. Гессена, мы надеемся, поможет в этом движении вперед, чтобы построить наконец здание народного образования по всем архитектурным нормам — прочное, на века, потому что этот труд есть прежде всего метод — педагогического поиска, педагогического исследования, педагогического строительства и практики. То есть это и есть тот фундамент, на котором могут основываться педагогические творчество и опыт, системы и методики. Это есть и основа нравственного образования, где все цели, а не одни лишь элементы системы, обращены на развитие и становление человека, не только культурного и цивилизованного, но прежде всего свободного, а значит, и нравственного.
Прочность данного фундамента в его вневременной, вне идеологической сущности, что позволило самому Сергею Иосифовичу назвать педагогику прикладной философией, то есть наукой, основанной на знании основ бытия.
Строить новое здание мы будем сообща, и поэтому книга эта, мы верим, станет настольной не только для ученого-исследователя, но и для вузовского преподавателя (как путеводитель в его творческих исканиях), и для тех, кто только готовится к педагогической деятельности, (как компас верно выбранного пути), и для родителя (как ориентир в сложных проблемах семейного воспитания), и вообще для всех, кому небезразличны судьбы наших детей, нашего отечества, пути собственного «образовательного странствия».
ЖИВОЙ ИСТОЧНИК: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ С. И. ГЕССЕНА
Книга С. И. Гессена «Основы педагогики» по праву может быть названа сейчас, на исходе XX века, одной из лучших книг этого столетия по педагогике. Подготавливавшаяся еще до революции в Петрограде и в первые послереволюционные годы в Томске, законченная и изданная автором в эмиграции (1923), она широко использовалась при организации системы образования в Русском Зарубежье в течение ряда десятилетий. Известный педагог и философ, профессор Богословского Православного института в Париже В. В. Зеньковский назвал ее в 1950 году «выдающейся книгой» (Зеньковский В. В. История русской философии. — Л., 1991. —Т. II. — Ч 1. — С. 246). В ней осмысливаются многовековой опыт мировой педагогики и лучшие традиции России, дается анализ важнейших направлений педагогической мысли первой четверти века в России, Европе и США, обосновываются перспективные идеи педагогики. В современных условиях России, когда радикально пересматриваются прежние ценности и установки и идет поиск новых идей, знакомство с книгой С. И. Гессена (а она издается у себя на родине впервые) способно помочь в размышлениях над далеко не простыми проблемами педагогики и образования.
Автор книги — Сергей Иосифович Гессен (1887 — 1950) — к моменту издания своей книги уже был известен в России и за рубежом своими выступлениями в печати как ученый-педагог, философ, публицист и переводчик. Особенно плодотворными для С. И. Гессена были 20-е годы, прежде всего в организаторской его деятельности. Он был одним из инициаторов издания, а затем и одним из редакторов журнала «Русская школа за рубежом», выходившем в Праге с 1923 по 1931 год. Если не считать нескольких журналов по педагогике, появлявшихся на короткий срок в отдельных местах Русского Зарубежья, то этот журнал был едва ли не единственным постоянным органом эмигрантской педагогической мысли того времени. С. И. Гессен был также одним из активных организаторов и участников педагогических съездов русской эмиграции 20-х годов.
С. И. Гессен не прерывал и своей педагогической деятельности в высшей школе. Переехав из Берлина в Прагу, он с 1924 года работал в Русском институте педагогики, занимая в течение нескольких лет кафедру педагогики. В 1934 году он получил приглашение на кафедру философии педагогики в Вольной Всепольской школе в Варшаве и принял польское подданство. После войны некоторое время был профессором педагогики в университете Лодзи.
Идея единства национального и общечеловеческого (по И. С. Гессену — «сверхнационального») была одной из стержневых идей его педагогической концепции, как и общей его социальной позиции. Еще в 1910 году, в редакционной статье первого номера международного ежегодника по вопросам культуры «Логос» (написанной совместно с Ф. А. Стенуном), С. И. Гессен подчеркивал недопустимость узкого национализма и космополитизма в решении вопросов духовной культуры. В редакционной статье отмечалось, что сверхнационализм нисколько не умаляет национального, но, наоборот, требует его многообразия. В книге «Основы педагогики» С. И. Гессен убедительно показал неприемлемость национализма в системе общего образования. Как часть, оторванная от целого, сама распадается затем на множество между собой не связанных частей, так и национальное, становясь самодовлеющим, начинает дробиться, переставая вообще быть национальным. Национализм германский, пишет С. И. Гессен, в этом случае вырождается в прусский, этот последний — в гогенцоллерно-бранденбургский; российский национализм, переходя в великорусский, постепенно мельчает до московско-суздальского. «В этом раздроблении и измельчении нации как бы продолжается движение распада и раздробления, усвоенное нацией через отрыв ее от целостности человечества. Нация… распадается… И это измельчение нации в национализме приводит к тому, что все своеобразие нации утрачивается». Подлинное «национальное образование» не исключает ни «сверхнационального» (общечеловеческого), ни «федерального» (или «областного») образования. «Всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а не разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное нравственное, научное и художественное образование». Проблемы «областной педагогики», учитывающей диалектические особенности языка, природу и историю местного края И т. п., должны быть тесно связаны с проблемами национального образования. «Приобщение к мировой культуре отдельных ветвей русского народа гораздо легче, конечно, будет осуществляться через посредство общерусской культуры, охватывающей областные разветвления и ими питаемой, чем при самодовлеющем существовании областных национальностей в их неприступной и враждебной целому обособленности».
Подобно тому, как при организации системы образования необходимо свободное состязание наций, предоставление широкого простора частной и общественной инициативе (в том числе на уровне «областной педагогики»), так и во взаимоотношениях учителя и ученика ведущим нужно иметь принцип свободы, не отвергающий ни понятия авторитета, ни понятия долга, принуждения, но трансформирующий их в моменты свободной воли ученика. Дисциплина возможна через свободу, а свобода — через закон долга.
Свобода индивида, по С. И. Гессену, не есть только познание необходимости, как не есть даже выбор возможности. «Свобода есть творчество нового, в мире дотоле не существовавшего… Свобода не есть произвольный выбор между несколькими уже данными в готовом виде, хотя и возможными только путями, но создание нового особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода».
Понимание сути свободы как творчества применительно к дидактике проявляется, в частности, в том, что учитель в своей работе с учениками делает акцент на методе и его самостоятельном применении. Задача обучения, указывает С. И. Гессен, — овладение методом. Всякое отдельное знание передается здесь не ради себя, а ради некоего более глубокого начала, лежащего позади того, что преподается, и его порождающего. Так, можно чисто формально изложить теорему о равенстве треугольников. Но эту же теорему можно преподать ученику так, что позади нее ученик почувствует тот метод, которым она была найдена и доказана. Увидев путь, которым была построена эта геометрическая теорема, ученик сможет уже сам продолжить полученное движение мысли, самостоятельно прийти к нахождению и доказательству новых теорем аналогичного рода.
Второй тип обучения формирует в ученике способность к творчеству, к порождению нового. Сила слова учителя — не только в том, что оно говорит, но и в том, что оно подразумевает. «Слово, которое сполна высказало все, что оно хотело сказать, за которым слушатель не чувствует ничего невысказанного, есть поверхностное и мелкое, мало говорящее слово… Отдельное знание как знание возможно… тоже через нечто высшее, чем оно, — через порождающий его метод, просвечивающий в нем как в своем явлении».
Незаменимость учителя, однако, не только в искусстве передачи знаний, но и в примере — как применять метод. Задача учителя — мыслить научно, применять метод как орудие мысли. «Только постоянная напряженность мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научного познания, ставит перед учениками проблему, разрешая с его помощью вставшие перед классом вопросы, встречая им неожиданные затруднения, указывая путь для решения возникающих то у одного, то у другого недоумений, только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к методу знания… Руководить этой совместной работой класса, указывать ей направление, отзываться на всякий обнаруженный в течение работы вопрос и вариант в его решении, ободрять ищущих своего решения — вот подлинная задача учителя». Целью образования, по С. И. Гессену, является не только приобщение ученика к культурным, в том числе научным, достижениям человечества. Его целью является одновременно формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности. Своеобразие личности, прежде всего, — в ее духовности. Могущество индивидуальности, подчеркивал С. И. Гессен, коренится не в природной мощи ее психофизического организма, но в тех духовных ценностях, которыми проникается ее душа. Личность «обретается только через работу над сверхличными задачами. Она созидается лишь творчеством, направленным на осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, религии, хозяйства и измеряется совокупностью сотворенного человеком в направлении этих заданий культуры».
Следует отметить еще одну важную особенность книги С. И. Гессена — тесную связь основных идей его педагогической концепции с философией. Если в СССР в тот период совершался резкий переход системы образования на позиции пролетарски классовости, индустриализма и естественнонаучного рационализма и шло открытое наступление на «буржуазную», «умозрительную», «философскую» педагогику, то С. И. Гессен, опираясь на передовую русскую традицию, призывал к проникновению в педагогику, в начальное, среднее и высшее образование духовности и общечеловеческих ценностных ориентаций. Принимая в основном идею трудовой школы, он полагал, что образование должно базироваться, прежде всего, на широких философских представлениях. Вся его книга «Основы педагогики» пронизана философским содержанием. Саму педагогику, что видно уже из подзаголовка книги («…Введение в прикладную философию»), он считал философской по своему существу. Он писал, что его «привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое жизненное значение, и что пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее, чем игнорирование законов природы». С этой позиции С. И. Гессен рассмотрел в своей книге теорию нравственного и правового образования, теорию научного образования (включая теорию университета), искажения концепции трудовой школы и др. Он многосторонне осветил вопросы соотношения школы и государства, проблемы эффективного учебного плана, многопредметности, вопросы самоуправления в школе, соотношения свободы и авторитета, урока и игры, проблемы поощрения и наказания, проблемы школьной традиции и многие другие вопросы. Педагогические идеи С. И. Гессена во многом лежат в русле недавно лишь заявившего о себе нового направления в западной, да и в российской науке и называемого ныне «философией образования».
П. В. Алексеев
Памяти
Историко-филологического Факультета
Томского Университета (1917- 1921)
ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу этой книги легли лекции, читанные мною впервые в Петроградском Университете, а затем (с 1917 по 1921 г.) в Томском Университете, на Педагогическом Отделении Сибирских В. Женских Курсов, так же как на многочисленных учительских курсах Томской и Новониколаевской губерний. Отсутствие на русском языке подходящего руководства, которое я мог бы дать в руки моим слушателям, а также внимание, которым они меня неизменно награждали, побудили меня взяться за работу изложения лекций в виде книги. Участие моих слушателей в этой работе не ограничилось, однако, указанным моментом побуждения и ободрения. Многочисленные беседы, которые мне пришлось вести с ними по поводу моих лекций, были для меня тем более поучительными, что мои слушатели были не только студенты, но люди практики, имевшие за собой часто долгий опыт учительской работы. Эти беседы, знакомя меня с волнующими учительство вопросами и указывая мне пробелы в моих лекциях, заставляли меня углублять свои взгляды более детальной их разработкой и дали мне возможность наполнить мои часто слишком отвлеченные построения конкретным жизненным содержанием. Если книга эта попадет в руки моим слушателям, то многие из них увидят в ней ответы на именно ими поставленные вопросы, найдут в ней ими высказывавшиеся взгляды и поймут, почему теперь, заканчивая свой труд, я с благодарностью обращаюсь душой к тем счастливым часам моих лекций, каждая из которых была для меня источником новых педагогических открытий. — Однако ни это общение преподавателя с его аудиторией, ни кропотливая работа над объединением отдельных частных педагогических знаний в единое научное целое не были бы возможны вне той атмосферы научного воодушевления, которая составляла отличительную черту Томского Историко-филологического Факультета и сделала его за четыре года его существования одним из главных центров научной и, в частности, научно-педагогической мысли Сибири. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все те, кому выпала на долю честь быть членами этой на редкость сплоченной и крепкой своим духом научного воодушевления коллегии, с благодарностью признают, что именно принадлежность к ней позволила им пронести неумаленным свой интерес к науке сквозь те невзгоды личного существования и сквозь те общие бедствия, которые — увы, слишком часто — омрачали их томскую жизнь. Поэтому, посвящая свою книгу Томскому Историко-филологическому Факультету, всегда понимавшему себя как нераздельное единство учащих и учащихся, я только выполняю очевидный долг благодарности по отношению к тому незабвенному для всех, кто составлял его живое тело, лицу, без деятельной помощи которого эта книга не могла бы никогда быть написана.
Происхождением этой книги объясняются ее внутренние и внешние особенности. Как теоретика педагогики меня привлекала задача показать, что даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в последних своих основах к чисто философским проблемам*, и что борьба различных педагогических течений между собою есть только отражение более глубоких философских противоположностей. Изложить философские основы педагогики — это значило для меня не ограничиться общими положениями, но, оставаясь в области чисто педагогических вопросов, вскрыть заложенный в них философский смысл. И если отдельные частности тем самым смыкались в тройную научную систему, то это служило для меня только подтверждением правильности и плодотворности употребленного мною философского метода исследования. Поэтому в настоящей книге нет ни одной главы, которая, как бы ни были отвлеченны иногда ее исходные рассуждения, не кончалась бы исследованием конкретных педагогических вопросов. С другой стороны, в ней также мало глав, которые не содержали Бы в себе анализа чисто философских проблем. Как философа меня Именно привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое жизненное значение, что пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее, чем игнорирование законов природы. И хотя я старался ограничить изложение чисто философских проблем минимумом, необходимым для решения стоящих в центре книги педагогических вопросов, логика исходной точки зрения сама собою привела к тому, что в ней оказались затронутыми все те вопросы, которые составляют обычный предмет рассмотрения так называемых «введений в философию». Правда, задача философской педагогики выполнена в этой книге лишь наполовину: в ней изложены мною только прикладная этика и философия права и прикладная логика. Постольку она представляет собою только первый том системы научной педагогики, который должен быть дополнен со временем изложением философских начал художественного, хозяйственного и религиозного образования.
__________________
*Здесь и далее мы сочли целесообразным для удобства работы с книгой основные мысли автора выделять курсивом. — Прим. ред.
Что всякая педагогическая система — даже там, где она выдает себя сама за чисто эмпирическую науку — есть приложение к жизни философских воззрений ее автора, — есть основное положение этой книги. И если в истории педагогических учений мы, начиная с Платона и кончая Шлейермахером, имеем достаточно примеров чисто философской педагогики, то в современной педагогической литературе сознательное и последовательное построение педагогики, как прикладной философии, дано, пожалуй, в одном только труде Н а т о р п а. К типу его труда и приближается более всего настоящее исследование. Однако, в отличие от «Социальной педагогики», в этой книге я пытаюсь в большей мере, чем это хотел или считал возможным сделать Наторп, остающийся в пределах самых общих педагогических проблем и при том преимущественно проблем нравственного образования, подойти к конкретным вопросам педагогики. С другой стороны, тем, что все эти вопросы возводятся в моей книге к основным философским проблемам, она отличается от недавно вышедшей книги Кона, которая, будучи наполнена конкретным педагогическим материалом, не ставит себе задачей исчерпывающего философского обоснования педагогических вопросов, хотя и стоит принципиально на почве философской педагогики. — Хотя в самой книге у меня не было возможности остановиться подробно на проблеме философского метода, я надеюсь, что читатель уловит существо защищаемой мною философской точки зрения из тех конкретных приложений ее к педагогическим вопросам, которые составляют собственный предмет настоящего исследования. Эту точку зрения можно было бы обозначить как попытку синтеза разума и интуиции, монизма и плюрализма, рационализма и иррационализма. Постольку она приближается к «принципу гетерологии», развиваемому Р и к к е р т о м в его последних трудах и намеченному в своеобразной форме безвременно погибшим на войне Л а с к о м. Впрочем, если существо «гетерологии» видеть в том, что противоборство двух начал она превращает в единство двух моментов, и что для нее «одно» постигается и сохраняет себя, как то же самое, лишь через обнаружение в нем «другого», то можно сказать, что в ней в сущности обновляется вечный мотив философской мысли, мотив диалектики, который еще Платон выразил устами Диотимы, определивши философов как тех, кто пребывает «посреди обоих начал», в самой своей двойственности составляющих неразрывное единство.
Возникновением этой книги из лекций я просил бы читателя извинить ее внешнее несовершенство. Притязая быть научным исследованием, она вместе с тем обращается к широким кругам педагогически заинтересованной публики. Этим объясняются некоторые повторения, устранить которые я был не в силах, а также и частые экскурсы в область истории образования и истории педагогических учений. Опустить последние я не хотел не только потому, что всякое философское исследование, чтобы быть плодотворным, должно быть насыщено историческим материалом, который оно осознает в его сверхисторическом смысле, но и потому, что история педагогических учений слишком еще понимается большинством педагогов-практиков как собрание устарелых и опровергнутых жизнью воззрений. Показать, что современные взгляды являются только углублением и дальнейшим развитием этих «устарелых» воззрений, продолжающих жить в них в своем очищенном жизнью и мыслью виде, и что, напротив, многие из современных кичащихся своею новизною взглядов представляют собой простой перепев действительно устарелых теорий, — представлялось мне слишком уже заманчивой и поучительной задачей.
Наконец, тем обстоятельством, что книга эта была задумана и разработана в отрезанной от Европы России, я просил бы оправдать пробелы в использованной мною современной иностранной литературе, а тем фактом, что она заканчивалась в Германии, — некоторые неточности и неполноту моих ссылок на русскую педагогическую литературу.
Фрейбург, июль 1922 года.
ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
1
Задача этой книги — выяснение понятия и сущности образования. Не различая пока между понятиями образования и воспитания (впоследствии мы постараемся за каждым из этих слов установить точное и строго определенное значение), мы можем сказать, что задача эта имеет общий интерес. Ведь все мы воспитываем или образовываем кого-нибудь, в крайнем случае хотя бы только самих себя. Все мы — участники этой всех нас бессознательно охватывающей деятельности образования. Всем нам поэтому хорошо знаком процесс образования, так же как мы все хорошо знаем ту жизнь, в которую мы погружены по своей ли воле или по прихоти обстоятельств. Большей частью, однако, знание нами образования бессознательно, ежечасно образовывая других и себя, мы не даем себе отчета в нашей собственной деятельности, так же как и в окружающей нас жизни. Только наука вносит сознательность и критическое отношение туда, где без нее господствует неизвестно откуда полученный навык и безотчетность не нами творимой жизни. Для образования наукой этой является педагогика. Она есть не что иное, как осознание воспитания, т. е. этого всем нам бессознательно уже известного процесса.
Педагогика — наука. Этим она отличается от самого образования, служащего ее предметом. Что же это за наука? Все науки мы можем в общем разделить на две большие группы: науки теоретические и практические. Первые исследуют бытие, как оно существует независимо от наших человеческих целей и желаний. Они относятся к своему предмету созерцательно (теоретически), бесстрастно, и даже страсти человеческие они изучают так, как будто бы это были линии, плоскости и тела1. Цель свою они видят в установлении законов сущего, которым это сущее следует часто вопреки нашим желаниям и ожиданиям. Поэтому теоретические науки мы может также назвать чистыми науками, или науками законосообразными. От них резко отличаются практические науки, устанавливающие правила, или нормы нашей деятельности. Это науки не о сущем, а о должном, исследующие не то, что есть, а то, как мы должны поступать. Цель их сделать нашу безотчетную деятельность — сознательной, безыскусственную работу — искусной, внести знание и искусство туда, где царят навык и рутина. Это — науки об искусстве деятельности. Поэтому практические науки мы можем назвать прикладными или нормативными, часто мы их называем также техническими. Очевидно к этим именно наукам относится педагогика.
Если мы присмотримся ближе к наукам теоретическим, мы увидим, что основное отношение, которое они преследуют, это — отношение основания и следствия или причины и действия. Площадь треугольника равна полупроизведению основания на высоту. Каковы основания этого явления? Тепловая энергия не превращается сполна в полезную работу. Каковы причины этого факта? — Напротив, основное отношение, преследуемое техническими науками, есть отношение цели и средства. Дана цель: измерить площадь данного треугольника. Какими средствами достичь этой цели? Какими средствами воспользоваться для того, чтобы максимум данной тепловой энергии превратить в полезную работу? Но уже из этих примеров видно, что, несмотря на все различие направления интереса ученого в обеих группах наук, науки эти находятся в тесном между собою взаимодействии. Науки чистые как бы ждут своего приложения к жизненной деятельности. Под ее влиянием они развиваются. И нет ни одной чистой науки, как бы отвлеченна она на первый взгляд ни казалась, которая не могла бы получить своего практического применения. Напротив, науки практические предполагают чистое знание. Чтобы установить правила должного поведения, необходимо знать законы бытия. Ведь деятельностью нашей мы преобразуем бытие. Как же можно преобразовывать его, не зная его законов? Прикладная наука живет и развивается там, где господствует чистый интерес к познанию действительности. Если, таким образом, всякая теоретическая наука м о ж е т быть приложена к жизни, то с другой стороны, нет ни одной практической науки, в основе которой не лежат н е о б х о д и м о чисто-теоретические предпосылки. Так в основе практической науки архитектуры лежат теоретические сведения, почерпнутые из механики, физики, химии, геологии, даже политической экономии и других чистых наук. В основе медицины лежат анатомия, физиология, ботаника, зоология и другие естественные науки. Какие же теоретические науки лежат в основе практической науки педагогики?
У большинства читателей на этот вопрос имеется, вероятно, уже вполне готовый и нельзя сказать, чтобы совсем неправильный, ответ. Теоретические предпосылки педагогики — это психология и физиология. Ведь педагогика устанавливает правила для искусства образования человека. Живой человек есть материал работы учителя и воспитателя. Как же можно установить правила какой-нибудь деятельности, не зная законов жизни того материала, который эта деятельность так или иначе преобразует? Но науки о живом человеке и суть психология и физиология человека. Очевидно они лежат именно в основе педагогики, как ее теоретические предпосылки. Ведь всякий воспитатель, дающий себе хотя бы некоторый отчет в воспитании, необходимо руководствуется, часто сам того не зная, некоторыми психологическими и физиологическими сведениями. Бог знает, — откуда и когда он почерпнул их. Часто просто из окружающего его духовного воздуха, именуемого культурным сознанием среды. Его искусству воспитания, безотчетно им осуществляемому, соответствуют столь же бессознательно им воспринятые психологические и физиологические сведения. В основе его домашней педагогики лежат столь же домашние психология и физиология. Но если педагогика, как наука, отличается от безотчетного искусства воспитания, она должна основываться на научно проверенных психологических и физиологических знаниях. В основе н а у к и педагогики должны лежать н а у к и психология и физиология. Все это рассуждение кажется очевидным. Мы и не думаем его оспаривать. Мы хотим только поставить дополнительный вопрос. Д о с т а т о ч н о ли знания материала для построения педагогических норм? И с ч е р п ы в а ю т с я ли психологией и физиологией теоретические предпосылки педагогики?
Многие представители педагогической науки так действительно и полагают. Сюда относится, например, целое течение «экспериментальной педагогики», думающее установить научные правила воспитания исключительно на основании научных данных психологии и физиологии2. Все свое своеобразие и научное достоинство это направление полагает именно в том, что им впервые под педагогику подводится настоящий научный фундамент в виде точных, на опыте проверенных психологических и физиологических фактов. Однако, стоит только поставить общий вопрос о логическом существе нормы, чтобы убедиться в том, что одного знания материала, с которым имеет дело данная деятельность, часто совершенно недостаточно для того, чтобы установить правила этой деятельности. В самом деле, правила строительной деятельности будут очевидно видоизменяться не только в зависимости от того, из какого материала (дерева, бетона или кирпича) строится здание, но и в зависимости от того, какое здание (жилой дом, школа, храм, театр) возводится, т. е. какова та цель, которая им преследуется. Всякая норма деятельности имеет в виду какую-нибудь цель, которую она осуществляет на каком-нибудь материале, пользуясь в зависимости от последнего теми или иными средствами. Следующая схема представляет логическую сущность всякой нормы:
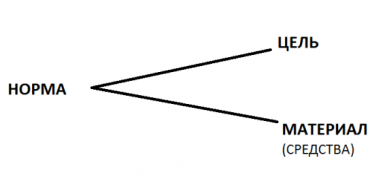 |
Всякий воспитатель преследует какую-то цель, бессознательно ему известную, но большей частью не проверенную им критически. То это — воспитание будущего офицера, учителя, мастера; то — воспитание просто хорошего человека, а иногда — подготовка к какому-нибудь высшему учебному заведению. Неведомо откуда получил он эту цель: скорее всего — из окружающего его духовного воздуха, из миросозерцания той среды, в которой он живет чаще всего не по своей воле, и домашней философии, которую он безотчетно усвоил. Над целями образования мы не задумываемся именно потому, что эти цели представляются нам слишком очевидными. Они слишком близки нам, обманывают нас своей видимой несомненностью. Потому-то они так нелегко уловимы, с таким трудом поддаются формулировке. Однако очевидное не значит несомненное. Именно очевидное часто кроет в себе трудные проблемы, требующие особо тщательного исследования. Самое близкое нам и самое далекое позже всего становятся предметом научного исследования, ибо если удивление есть мать науки, то по поводу близкого нам мы имеем меньше всего поводов удивляться. Но если педагогика как наука перестала довольствоваться домашней психологией и физиологией, может ли она по-прежнему довольствоваться домашней психологией и физиологией в определении целей образования? Не требуют ли цели образования специального научного исследования? Что же это за цели? Каковы те науки, которые их изучают? Ответить на эти вопросы значит определить ту вторую группу теоретических наук, которая лежит в основе педагогических норм.
2
Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны с целями жизни данного общества. Жизнь определяет образование, и обратно — образование воздействует на жизнь. Понять систему образования данного общества — значит понять строй его жизни. Каковы же цели, преследуемые человечеством? Если мы обратимся к жизни первобытного человека, то мы увидим, что главной, если не единственной целью его жизни является самосохранение, точнее сохранение своей особи и рода. Эта цель существования дана самой природой, она объединяет первобытного человека с другими природными существами. Это — общая биологическая цель, преследуемая всем животным царством в целом. Правильно или нет, но современный человек, отмежевывая себя от первобытного, думает, что цели его жизни превышают голую цель самосохранения. Не простая жизнь, но достойная жизнь предносится ему как цель существования. В отличие от первобытного человека он привык называть себя культурным. Культура представляется, таким образом, целью существования современного человека, самосохранение же — только необходимым предусловием культуры. Что такое культура, какие цели она включает в себя, и действительно ли превышают эти цели элементарную цель самосохранения?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала к синонимам слова «культура». Ведь слово «культура» принадлежит к одним из самых многозначных. Поэтому попробуем сопоставить его с другими, часто вместо него употребляемыми словами. Быть может нам удастся каждым из этих слов закрепить определенный оттенок смысла и таким путем различить как бы несколько слоев культуры. Вместо «культуры» нередко говорят «цивилизация». Это слово, до самого последнего времени преимущественно употребляли французские и английские авторы. Если перевести «цивилизацию» на русский язык, мы получим «гражданственность» — слово, часто встречающееся у русских авторов первой половины XIX века. Наконец, у старых же авторов мы находим прекрасное выражение «образованность», — термин ныне мало употребляемый. Нельзя ли расслышать в каждом из этих четырех слов определенный, ему только присущий оттенок смысла? Возьмем для примера один из городов новой формации — из тех, которые в колониях богатых капиталом метрополий с поразительной быстротой возводятся как новые промышленные или торговые центры. Эти города наделены всеми благами внешней культуры: прекрасными удобными для жилья зданиями, водопроводом, канализацией, электрическим трамваем, оборудованными по последнему слову современной техники. Вы не найдете в них узких улиц, газового или керосинового освещения, парового трамвая или даже простой конки, — всех этих анахронизмов современной жизни, так часто встречающихся в столицах старой Европы наряду с самыми новейшими приспособлениями, свидетельствующими о торжестве новой техники. Но вы не найдете в них также никаких печатных изданий, кроме газет и прейскурантов, никаких ученых или художественных обществ, никакой самостоятельной политической жизни, никакого серьезного репертуара в их театрах. Тщетно будете вы также искать в них своеобразного архитектурного стиля. Вы не сможете отказать такому городу в названии «цивилизованного», но «образованным» вы его, конечно, не назовете. Это значит, что слово «цивилизация» вы резервируете для низшего или, во всяком случае, для более внешнего слоя культуры, для того, что скорее всего поддается пересадке, что не требует для своего роста долговременной местной традиции. Сюда относятся хозяйство и техника. Слово «образованность», напротив, правильнее было бы закрепить за более внутренним, или «духовным» содержанием культурной жизни, включающим в себя науку, искусство, нравственность и религию. Все эти области деятельности человека не могут быть просто пересажены с одной почвы на другую, они могут быть только «привиты» к дичку местной жизни и медленно, постепенно взращиваемы. Между образованностью и цивилизацией несомненно существует теснейшее взаимодействие: образованность предполагает определенный уровень цивилизации, развитие цивилизации влечет за собою и развитие образованности. Но для данного места в данный момент времени образованность не всегда измеряется цивилизацией. Развитой цивилизации не всегда соответствует высокая образованность, и высокая образованность расцветает иногда при сравнительно низком уровне цивилизации. Между образованностью и цивилизацией имеется, однако, еще один промежуточный слой культуры: это — право, регулирующее внешние отношения людей между собою, и государственность, обеспечивающая обязательность правовых норм и организующая совокупную деятельность данного общества. Слово «гражданственность» правильнее всего было бы закрепить именно за этими областями культуры. Более «внутренняя», чем цивилизация, гражданственность является все же совокупностью тех внешних условий, при наличии которых только и может развиваться образованность.
Таким образом в составе жизни современного человека мы различили как бы три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. Слово «культура», как наиболее общее и неопределенное, мы сохраним поэтому для обозначения совокупности всех трех слоев. Следующая схема лучше всего представит произведенные нами различения:
 |
Эта схема пока представляет собою как бы только внешний каталог культуры. Задачей дальнейших глав будет развить ее подробнее, установить отличительные черты каждой из поименованных в ней культурных ценностей и обосновать всю схему, поскольку это необходимо для педагогической теории. Сейчас нам важно дать предварительное понятие о культуре и указать на тесную связь, существующую между понятиями культуры и образования. Установленное нами различение вряд ли может кем-нибудь оспариваться. Атеисты могут отвергать религию как самостоятельную культурную ценность, анархисты могут отвергать право и государственность, Руссо и Толстой могли в известном смысле отвергать науку и искусство, но что до сих пор культура включала в себя все эти деятельности, — это факт, не подлежащий сомнению. Мы не входим также пока в обсуждение сравнительной ценности или существенности перечисленных в нашем каталоге культуры целей человеческой деятельности. Быть может, цивилизация только необходимая почва для развития образованности. Быть может, хозяйство напротив есть фундамент, определяющий собою состояние всей культуры. Во всяком случае цивилизация, гражданственность и образованность суть три ясно различимые слоя культуры, находящиеся между собою в несомненном взаимодействии и отличающиеся друг от друга вышеуказанными чертами3. До сих пор культура была там, где в большей или меньшей степени человечество преследовало цели науки, искусства, права, хозяйства и другие, тесно с ними связанные. Наличность этих целей и отличает культурного человека от первобытного.
Так ли это однако? Разве не принято говорить о «первобытной культуре»? Неужели у первобытного человека не было ни науки, ни искусства, ни нравственности, ни религии? Нельзя отрицать, что у известных нам представителей первобытных народов мы находим большой, иногда поражающий нас своим богатством, запас самых разнообразных сведений об окружающем мире. Тут и ботанические сведения и поразительное знание привычек и особенностей окружающего дикаря животного царства, много физиологических и фармакологических сведений, иногда большой запас астрономических и климатических наблюдений. Но вся эта масса известного не объединена в систему, не получена в результате методического искания истины, она представляет собою лишь груду сведений, полученных случайно в результате одной только борьбы за существование и имеющих своей единственной целью самосохранение индивида и рода. В меру этой цели самосохранения сведения приобретаются, запоминаются и передаются от поколения к поколению. Отдельные сведения не связаны между собою внутренней, органической необходимостью научного метода, но чисто внешним механическим образом положены рядом друг с другом, будучи все только орудиями самосохранения. В них нет дифференциации, нет развития, продолжения старого в новом, есть только механическое накопление разрозненного. Но научное знание есть организованная система сведений. Наука развивается хотя и под влиянием внешних условий, но следуя своему закону, внутренней необходимости присущего ей метода. Служа жизни и находясь под непрерывным ее воздействием, наука существует лишь там, где исследователь исследует ради знания, свободно вопрошая природу, а не рабски следуя ее толчкам, стараясь только оградить себя от таящихся в ней опасностей. Поэтому наука появляется впервые только там, где человек, отрешившись от страха перед природой и от гнетущей заботы самосохранения, поставил вопрос о существе мира ради его познания, из чистого интереса к знанию. В этом смысле можно сказать, что, несмотря на массу накопленного опыта, у первобытного человека мы находим груду сведений, являющихся лишь орудиями самосохранения, но не находим науки.
То же самое можно сказать и про художественное творчество дикаря. Предметы, по которым мы судим о нем, представляют собою исключительно орудия повседневной борьбы за существование. Это — утварь и другие предметы домашнего обихода, оружие, украшения, имеющие в значительной мере тоже утилитарную цель амулета или привлечения самца или самки. Нас поражает иногда наблюдательность дикаря, сильно выраженное у него чувство ритма и гармонии. Но изображения мира ради радости изображения, просто потому, что человек увидел нечто новое в мире и не может не выразить этой своей интуиции в вещественном образе, — мы у первобытного человека не находим. Не изящное оружие и не красивая утварь суть первые произведения искусства. Художественное творчество в подлинном смысле слова впервые возникает тогда, когда, пораженный открывшейся ему красотою мира, человек неуверенной еще рукой пытается Изобразить эту красоту ради самого изображения, подчиняя этому стремлению возможные полезные следствия своего дела. С этой только поры искусство, продолжая служить и утилитарным целям жизни, начинает развиваться сообразно внутреннему, ему присущему закону. Как таковое, оно отсутствует у первобытного человека, несмотря на массу накопленных им навыков изображения действительности. Все эти технические навыки остаются связанными железным законом самосохранения, они накопляются беспорядочно и случайно, будучи подчиненными внешней необходимости, а не внутренним целям художественного творчества4.
И в области нравственных отношений мы наблюдаем то же самое: добро и зло не различаются еще от благополучия и неблагополучия. Если я уведу чужого вола и жену, это добро; если у меня уведут вола и жену, это зло, — так гласит «готтентотская мораль», т. е. мораль первобытного человека. А это значит, что нравственные представления всецело связаны целью самосохранения, являются исключительно орудиями биологической борьбы за существование. Понятие добра, как особого веления поведения, иногда расходящегося с требованиями сохранения индивида или племени, но и при этом расхождении все же сохраняющего всю свою обязательность, отсутствует у первобытного человека. То обстоятельство, что и в нынешнем «культурном» обществе поведение отдельных людей или даже целых народов определяется по прежнему «готтентотской моралью», не колеблет того факта, что понятие Добра отделилось в нем от простого Благополучия. Быть может это иллюзия культурного человека, быть может «добро есть лучшая политика», как говорит английская пословица, и притом т о л ь к о лучшая политика и ничего более. Доказать это есть дело утилитарной философии. Но культура тем именно и отличается от жизни первобытного человека, что, вопреки всем утверждениям философов (может быть истинным, быть может ложным), нравственность сознается в ней как особая, отличная от цели простого самосохранения ценность.
Не иначе обстоит дело и с религиозными представлениями дикаря. Боги его являются для него только силами, вредящими ему или благоприятствующими. В меру ограждения себя от их гнева и обеспечения себе их помощи в борьбе за существование, он их умилостивляет или грозит им и даже наказывает их. Этот фетишизм богопочитания показывает, что и богопочитание дикаря всецело определяется целью самосохранения. Богопочитание есть орудие борьбы за существование. Человек не поклоняется Богу из благоговения к Верховному Существу. В этом смысле религии, как особой сферы проявления человечности, у первобытного человека не существует. И опять-таки факты фетишизма, еще слишком часто встречающиеся в современном обществе, не опровергают защищаемого нами здесь взгляда, согласно которому религия, как особая культурная ценность, имеется лишь там, где цель самосохранения, раньше всецело определявшая собою богопочитание, отступила перед бескорыстным поклонением Божеству. Не колеблет его и тот факт, что религия служит в нынешнем обществе т а к ж е и орудием самосохранения. Все может служить предметом самосохранения: так из того, что наукой пользуются в целях самосохранения, не следует, что она не что иное, как такое орудие. И если кто-нибудь, пренебрегая несомненным различием, существующим между религией культурного общества и фетишизмом дикаря, все же будет утверждать, что в последнем счете, в глубочайшем своем существе религия есть только расширенный фетишизм, утонченное средство в борьбе за существование, — то это будет уже философское истолкование религии, быть может верное, быть может ложное, но не стирающее того видимого различия, которое существует между наблюдаемыми в жизни явлениями.
Но еще яснее различие между культурой и простым самосохранением обнаружится тогда, когда мы обратимся к низшему слою культуры — к хозяйству, цель которого многие и ныне видят в простой борьбе за существование. Неужели, скажут нам, вы будете утверждать, что только в культуре есть хозяйство, у первобытного же человека хозяйства нет? Если под хозяйством понимать просто удовлетворение потребностей и при том потребностей низших, необходимых для поддержания жизни нашего организма, тогда, конечно, хозяйство находится всюду там, где имеется голое существование. Но в том то и дело, что хозяйство не ограничивается простым удовлетворением потребностей, необходимых для поддержания жизни организма. Напротив для хозяйства характерно именно производство большего числа благ, чем их потребляется. Хозяйство имеется только там, где не все произведенные блага потребляются, но часть обращается на производство новых благ, т. е. где происходит так называемое накопление капитала. Капитал в этом смысле есть логическая категория хозяйства, без которой немыслимо никакое хозяйство и которая была до «капиталистического» хозяйства в узком смысле этого слова и будет и в после капиталистическом хозяйстве. А это значит, что хозяйство представляет собою некоторый плюс по сравнению с простым самосохранением. Только с момента накопления капитала стало возможным и развитие хозяйства, между тем как производство благ дикаря, скованное элементарной целью самосохранения, отличается, напротив, постоянством и неизменностью.
Неизменность, отсутствие развития характеризуют не только способ производства, но и всю вообще жизнь первобытного человека. Природа — вечный круговорот. Каждый новый день повторяет в природе день предыдущий. Если в природе есть развитие, то оно измеряется сотнями тысячелетий. Нужен телескоп научного мышления, чтобы его подметить. Оно не видно невооруженному глазу. И то же самое можно сказать о жизни первобытного человека. Неразрывная часть окружающей его природы, дикарь лишь повторяет предшествующую жизнь. Он лишь воспроизводит прошлое, но не дополняет и не углубляет его творчеством нового. Развитие предполагает дополнение и сохранение прошлого, а не простое его воспроизведение. Иными словами, развитие есть только там, где есть история. Но первобытный человек живет в настоящем, у него нет истории5. Что это значит? Ведь под историей мы разумеем прошлое человека или народа. Неужели у дикаря нет прошлого? Не всякое прошлое есть история. Ведь мы различаем исторические факты и факты не исторические. Возьмем, например, жизнь Ивана Грозного. Она вся — прошлое. Но тот факт, что в такой-то день такого-то года Иван Грозный проспал столько-то времени, вообще говоря, не есть исторический факт. Он прошел бесследно, пропал безвозвратно, как бы исчез и забылся. Но что в 1564 г. Иван Грозный учредил опричнину, — этот факт не пропал, не исчез, он сохранился до нашего времени, он продолжает жить и в современности. Мы носим в себе это прошлое. Таким образом, история есть не просто прошлое, но прошлое непреходящее, то прошлое, которое не исчезает, но продолжает жить в последующем. Вот этого прошлого и нет у дикаря, пережитое им не сохраняется и не передается последующим поколениям, но исчезает бесследно. Каждое поколение как бы начинает жить сызнова, вновь и вновь воспроизводя минувшее, не продолжая его. Неслучайно поэтому нет истории первобытных народов: недостаток источников не пугает историка. По сравнительно немногим данным удается иногда историку воссоздать прошлое какого-нибудь народа. А между тем по остаткам жизни первобытных народов воссоздается в лучшем случае лишь их этнография, а не история. И именно потому история первобытных народов не случайно, а существенно невозможна. История есть .только там, где есть культура. Народ тем культурнее, чем дольше живет исторической жизнью, т. е. чем больше накопил он того непреходящего прошлого, которое, сохраняясь, передается от поколения к поколению. Сказать «исторический народ» — это все равно, что сказать «народ культурный». В силу чего, однако, возможно это чудо истории, этот поразительный факт сохранения прошлого? Почему одно прошлое исчезает бесследно, а другое изъемлется из власти времени и становится прочным достоянием народа? Ответив на этот вопрос, мы не только вскроем основание совпадения понятий истории и культуры, но и придем к точному определению понятия культуры6.
Среди целей, которые мы ставим себе в нашей деятельности, имеются одни, которые мы осуществляем не ради них самих, но потому, что они суть необходимые средства для достижения других целей. Сюда относится большинство наших сознательных действий: мы едим, пьем, одеваемся, чаще всего и работаем ради других целей, в данном случае для того, чтобы жить. Эти цели ценны не сами по себе, но только как условия другого, отраженным светом которого они как бы светят. При наличии этого другого они ценны и являются предметом нашего домогательства. В этом смысле это — условные цели. Но наряду с ними имеются цели, к которым мы стремимся ради них самих. Они ценны для нас не как условия достижения чего-то другого, но сами по себе. К этим безусловным, или «абсолютным» целям относятся именно все те ценности, которые выше перечислены были в каталоге культуры: наука, искусство, нравственность, хозяйство и пр. Все эти «культурные ценности» светят своим собственным светом, являются «целями в себе». Правда, мы неоднократно пользуемся ими так же, как орудиями другого: наукой, искусством мы часто занимаемся ради заработка. Мы нравственны часто из благоразумия. Те или иные хозяйственные цели мы ставим себе ради самосохранения или ради разрешения тех или иных научных или художественных задач. И напротив, наукой мы пользуемся часто как орудием при достижении различных хозяйственных целей. Чрезвычайно разнообразны вообще способы использования нами культурных ценностей. И мы не думаем утверждать, что культурные ценности суть исключительно цели в себе, что они не могут или не должны служить орудиями достижения чего-то другого. Мы утверждаем только, что среди всех других целей именно культурные ценности выделяются тем, что служа орудиями другого, они кроме того ценны и сами по себе7. В этом только смысле мы и называем их ценностями абсолютными. Ценности гражданственности и цивилизации не составляют в этом отношении исключения. Хозяйство, как победа человека над внешней природой, есть тоже такая безусловная цель, ценная сама по себе, хотя, с другой стороны, оно есть также необходимое предусловие всякой культуры. Таким орудием является также и право, что не мешает, однако, ему иметь и безусловное значение, поскольку право разрешает для данного времени при данных обстоятельствах проблему справедливости. Это последнее обстоятельство станет еще яснее, если мы обратимся ко второй чрезвычайно замечательной стороне безусловных целей.
Цели, которые мы себе ставим в своей деятельности, двойственны по характеру своего осуществления. Одни из них являются задачами, допускающими полное и окончательное разрешение. Эти цели могут быть очень отдаленными, почти недоступными для отдельных людей. Такой, например, для многих представляется цель стать миллиардером. Но принципиально возможно стать миллиардером. Миллиард существует, он имеется готовым, данным, и задача здесь состоит только в том, чтобы эту данность перелить но каналам хозяйственной жизни из чужого владения в собственность одного. Но на ряду с такими целями имеются и другие, заведомо недостижимые, недопускающие полного своего разрешения. К таким именно целям относятся выделенные нами выше «безусловные» цели. Никто никогда не сможет сказать, что он овладел всей наукой, что им разрешена задача искусства, добра, справедливости. Ни про какой хозяйственный строй нельзя сказать, что он означает окончательную победу человека над внешней природой. При преследовании этих именно целей каждое достижение оказывается только этапом по пути ко все новым и новым достижениям. «Культурные ценности» по самому существу своему являются задачами неисчерпаемыми, или, по слову Канта, «проблемами без всякого разрешения». Они указуют нам на некий бесконечный путь, по которому можно подвигаться вперед в бесконечном прогрессе, но пройти который до конца никому не дано. Эта неразрешимость задачи, характеризующая цели культуры, не делает их, однако, от этого мнимыми. Нам известен целый ряд мнимых, неразрешимых целей. Квадратура круга, perpetuum mobile, философский камень, — все это не только неразрешимые цели, но цели мнимые, по пути к которым нет никаких достижений, никакого развития и прогресса. Совсем иной характер носят культурные ценности. Неразрешимость задачи науки, искусства, права совсем не означает, что эти задачи — мнимые. Эти цели не менее реальны, чем всякие другие сполна достижимые цели. Работа над ними ведет к непрерывным достижениям, она означает не бег на месте, но Неуклонное движение вперед. Неразрешимость этих задач проистекает не от их мнимости, но от их неисчерпаемости. Если цели первого типа суть цели — данности, то эти последние цели, в совокупности своей составляющие культуру, можно назвать целями-заданиями, т. е. задачами высшего порядка, неисчерпаемыми по самому существу своему и открывающими для стремящегося к ним человечества путь бесконечного развития.
Теперь мы можем вернуться назад и, продолжив наше рассуждение, объяснить чудо истории. История, сказали мы, есть непроходящее прошлое, т. е. прошлое, которое передается от поколения к поколению, как неотъемлемое достояние. Она есть «традиция» или, пользуясь прекрасным русским словом, предание. Такое предание невозможно там, где нет задания, т. е. тех неисчерпаемых целей, которые в своей совокупности составляют культуру. Прошлое не исчезает бесследно, но сохраняется, передается именно потому, что оно служит этапом на пути к вечной и неисчерпаемой Цели. Не будь этого единства и вечности цели, не было бы и вечности сохранения. Оградить прошлое от забвения, сохранить его на вечные времена может только то, что само по себе вне времени, что представляет собою, подобно культурным ценностям, вечную, никогда не данную, а только в виде задания предстоящую нам цель. Сохраняется именно то прошлое, которое имеет отношение к культурным ценностям, от которого мы отправляемся в нашей работе над ними, которое мы продолжаем и которое поэтому само продолжает жить в наших трудах. Так, работая над задачей пауки, мы продолжаем работу предыдущих поколений. Их научные теории, даже ниспровергнутые нами, продолжают жить в наших теориях, ибо мы продолжаем нашей работой труд, начатый ими и определяемый в своем направлении все той же единой и неисчерпаемой целью — заданием науки. В этом смысле можно сказать, что предание возможно через задание. А это значит, что история есть только там, где есть культура. Ее тем больше, чем больше поработал данный народ над "культурными ценностями. История немыслима без этих ценностей науки, искусства, государства, права, хозяйства, лежащих в ее основании и делающих ее впервые возможной8. Всякая история есть поэтому история культуры: политическая история не менее, чем история хозяйства или история науки. То, что обыкновенно понимают под «историей культуры», противополагая ее просто «истории», есть или история цивилизации (хозяйства и техники) или история образованности (науки, искусства, религии), а просто «история» — преимущественно история гражданственности, но все это, как показано выше, в широком смысле слова — культура. Поэтому также и расчленение истории соответствует расчленению культуры: сколько слоев культуры, столько отделов истории. Есть история государства и права, история хозяйства, науки, искусства, религии, но других видов истории, которым не соответствовало бы никакой ценности в системе культуры, не было и не будет9.
Теперь мы можем еще дальше вернуться назад и дать, наконец, более точное, хотя все еще предварительное определение культуры. Культура, имеем мы основание сказать, есть деятельность, направленная на осуществление безусловных целей — заданий. Это не значит, что всякий человек, живущий в культуре, сознательно к ним стремится. Ученый может думать только о славе и о своей научной карьере. Рабочий, подавленный властью капитала, может думать только о завтрашнем дне. Оба они могут понятия не иметь о культурных ценностях, могут даже, исходя из какой-нибудь ложной философии, отрицать реальность таковых. Но все они часто помимо своей воли, подвигают своим трудом человечество на пути к ценностям культуры: один — накопляя знание, другой — накопляя капитал. Неведомо для самих себя они творят историю, накопляя предание человечества. Первобытный человек не знает этих целей. Подобно волнам вечно бушующего моря, все его усилия разбиваются о высокий брег железной необходимости самосохранения. Там, где человеку удалось пробить брешь в этой сковывавшей его стихии, поставив себе цели, превышающие простое самосохранение, — только там волны его труда смогли не отпрянуть назад, но потечь вперед широким и плавным в бесконечности теряющимся потоком истории.
3
Поставив выше вопрос о целях образования, мы определили эти цели как цели жизни соответствующего общества. Цели жизни современного культурного общества нам теперь известны. Эти цели, как следует из предыдущего рассуждения, и суть цели образования. Между образованием и культурой имеется, таким образом, точное соответствие. Образование есть не что иное, как культура индивида10. И если по отношению к народу культура есть совокупность неисчерпаемых целей-заданий, то и по отношению к индивиду образование есть неисчерпаемое задание. Образование по существу своему не может быть никогда завершено. Мы образовываемся всю жизнь, и нет такого определенного момента в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена проблема нашего личного образования. Только необразованный человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему образования.
Итак, об образовании в подлинном смысле слова можно говорить только там, где есть культура. У первобытного человека нет образования. По правильной формулировке Монро так называемое первобытное воспитание есть не что иное, как «непрогрессирующее приспособление к среде». «Дитя научается владеть луком и стрелой, выделывать шкуру убитого животного, приготовлять пищу, ткать, делать глиняную посуду только путем наблюдения над действием взрослых… Все искусства, приобретаемые ребенком, даются ему благодаря повторному подражанию со все уменьшающимся числом неудач и ошибок». Воспитание его неотделимо от самой жизни. Подобно последней оно всецело определяется целью самосохранения.
Если цели образования совпадают с целями культуры, то очевидно видов образования должна быть столько же, сколько имеется отдельных ценностей культуры. И действительно, мы находим здесь такое же взаимоотношение, которое мы выше установили между культурой и историей. Сколько культурных ценностей, столько и видов образования. Мы говорим об образовании нравственном, научном (или теоретическом), художественном, правовом, Религиозном. Если сравнить видовые определения, прилагаемые в педагогической литературе к слову образование, с приведенным выше каталогом культуры, то на первый взгляд может показаться, что между культурой и образованием нет точного соответствия. Как, например, мало кто говорит о хозяйственном образовании, и уж, во всяком случае, редко можно встретить в курсах педагогики самостоятельный отдел хозяйственного образования11. Это несом- ценный пробел в педагогической литературе. В дальнейшем мы покажем, что теория хозяйственного образования вполне возможна. С другой стороны, мы привыкли говорить об образовании физическом и национальном, которым не соответствует в нашем каталоге культуры никаких культурных ценностей. Поэтому в дальнейшем мы должны будем также показать, что физического и национального образования, как особых видов образования наряду с образованием нравственным, научным и художественным, нет и не может быть12.
Задача всякого образования — приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в культурного. Деление культуры определяет и деление образования на его виды. Соответственно этому и педагогика как общая теория образования распадается на соответственное число отделов: теорию нравственного, научного, художественного, религиозного, хозяйственного образования. В основе нашего деления понятия образования лежит, таким образом, призрак целей, преследуемых образованием.
Эти цели нам теперь известны, и мы можем вернуться назад к вопросу о теоретических предпосылках педагогики. Установление всякой нормы, сказали мы выше, предполагает двоякое теоретическое знание: знание материала, который данная деятельность преобразует, и знание тех целей, которые она преследует при этом своем преобразовании материала. Материал воспитания — живой человек, и знание его мы почерпаем преимущественно из психологии и физиологии. Цели образования — культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен человек. Какие науки исследуют культурные ценности, устанавливают законы этих ценностей, классифицируют их, определяют взаимные их отношения между собою? После всего сказанного нами выше о культурных ценностях нетрудно видеть, что науками этими являются различные отделы философии. Так наука как особая культурная ценность исследуется логикой, устанавливающей законы научного знания, выясняющей различия между отдельными науками и определяющей состав системы науки. Эстетика исследует законы искусства и устанавливает классификацию искусств. Смысл и состав нравственности исследуется этикой. Философия религии и философия права соответственно изучают остальные культурные ценности. Таким образом каждой культурной ценности соответствует особый отдел философии и обратно: сколько отделов философии, столько ценностей культуры. (Если мы сравним приведенный нами выше каталог культуры с традиционными делениями системы философии, то увидим, что всем культурным ценностям, кроме, пожалуй, государства и хозяйства, действительно соответствуют свои отделы философии. Но государство исследуется в тесной связи с правом в философии права. Хозяйству же в современной философии все более и более отводится место, и мы присутствуем при зарождении новой и самостоятельной философской дисциплины — философии хозяйства13. Мы видели выше, что хозяйство не есть простое самосохранение, оно включает в себя бесконечную и неисчерпаемую цель — победу человека над природой. Осуществление этой цели действительно означало бы «прыжок из царства необходимости в царство свободы»14. Но подобно всем другим культурным ценностям цель эта есть задание, не допускающее своего окончательного и полного разрешения. Между понятиями культуры, истории, философии, образования и педагогики устанавливается, таким образом, тесное взаимоотношение. История есть повествование о прошлом человечества, накопленном им в его работе над культурными ценностями. Философия есть наука о самих этих ценностях, их смысле, составе и законах. Но эти ценности и суть цели образования. Следовательно, каждой философской дисциплине соответствует особый отдел педагогики в виде как бы прикладной ее части: логике,— теория научного образования, то, что многими не особенно удачно называется дидактикой; этике — теория нравственного образования; эстетике — теория художественного образования и т. д. Нормы, устанавливаемые педагогикой, конечно не могут основываться на одних этих философских дисциплинах, но предполагают также привлечение психологического и физиологического материала.
В дальнейшем мы попытаемся подробно развить и обосновать мысли, в этом введении только намеченные. Пока же приведем еще несколько соображений, подтверждающих наш взгляд о тесной связи, существующей между философией и педагогикой, проблемой культуры и проблемой образования. Если педагогика так тесно связана с философией и в известном смысле может быть названа даже прикладной философией, то следовало бы ожидать, что история педагогики есть часть или, если угодно, отражение истории философии. Так оно и есть на самом деле. Платон, Локк, Руссо, Спенсер — все это имена не только реформаторов в педагогике, но и представителей философской мысли. Песталоцци был только самобытным отражением в педагогике того переворота, который в современной ему философии был произведен критицизмом Канта. Фребель, как это признается всеми, был отражением в педагогике принципов Шеллинговой философии15. Конечно, и развитие психологии и физиологии не проходит бесследно для педагогической теории. Но почерпая свои руководящие принципы и самое свое расчленение из философии, педагогика в большой мере отражает на себе развитие философской мысли.
То же самое можно сказать и про историю образования, только отображающую в себе развитие культуры в целом. Те задания-ценности, совокупность которых составляет культуру, далеко не всегда образуют дружное и гармоническое общежитие. Часто между отдельными культурными ценностями разгорается борьба, в результате которой какая-нибудь одна из них приобретает господство и налагает на всю культуру соответствующей эпохи свой отпечаток. Можно по-разному объяснять причины этой борьбы, но самый факт междоусобной борьбы в среде культурных ценностей несомненен. Так мы по праву говорим о теократическом идеале Средневековья, провозгласившем верховенство религии, об этатизме античного Рима, превыше всего ставившего ценность государства и права, об эстетизме Возрождения, об интеллектуализме Просвещения с его утверждением всемогущества Разума. Если мы сравним господствующие системы образования и педагогические учения соответствующих эпох, то увидим, что все они отражают на себе этот общий колорит времени, подчиняя отдельные цели образования какой-нибудь одной из них, той, которая добилась гегемонии в культурном сознании эпохи. Так теократии Средневековья соответствует религиозная система образования, этатизму Древности — государственно-правовая система воспитания, интеллектуализму Просвещения — интеллектуалистическое воспитание. История воспитания и история педагогики становятся понятными с этой точки зрения: задача историка — не только объяснить причины возникновения данной образовательной системы, но и попять все ее частности, исходя из единого пронизывающего ее принципа.
Если проблема образования есть проблема культуры, то, очевидно, отрицание культуры, связанное с отрицанием истории, ведет и к отрицанию образования. Таков естественный вывод из всего, что сказано нами выше. Как же согласовать с этим тот факт, что два величайших реформатора в педагогике, Руссо и Толстой, отрицали культуру? Одно из двух: или вся постановка нами проблемы образования в корне неверна, или Руссо и Толстой в действительности не отрицали культуры. Во всяком случае, прежде чем двинуться дальше, нам необходимо разобрать их учения. Мы оправдаем нашу точку зрения, если нам удастся показать, что отрицание культуры двумя величайшими педагогами было только видимостью, лишь маской, позади которой скрывалось некоторое еще более глубокое ее утверждение. Анализ отрицания культуры и вытекающего из него идеала свободного воспитания введет нас тем самым в основные вопросы теории нравственного образования.
Литература вопроса. Литературные указания этой и последующих глав отнюдь не притязают на полноту. Мы приводим в них лишь основные сочинения, развивающие и углубляющие высказанные, в тексте взгляды. Защищаемая нами точка зрения ближе всего подходит к взглядам П. Н а т о р п а, развитым им в его книжке «Философия как основа педагогики» (М. 1910, пер. с предисл. Г. Шпета). Согласно Наторпу «педагогика вообще есть не что иное, как конкретная философия» (стр.48).
В основе педагогики лежат, по его мнению, логика, эстетика и этика. В своем главном педагогическом труде «Социальная педагогика» (русский перевод А. Громбаха, С.Пб. 1911) Н. дает систему такой философской педагогики. К сожалению, при фактическом развитии системы логика и эстетика отступают на задний план, и вся педагогика основывается преимущественно на этике, в силу чего педагогика Наторпа сводится главным образом к теории нравственного образования. — В еще большей степени то же самое можно сказать о превосходной книге выдающегося философа и психолога — экспериментатора Г. М ю н с т е р б е р г а «Психология и учитель» (русский перевод А. Громбаха,). С чрезвычайной наглядностью показывает М. в этой книге недостаточность психологии для обоснования педагогики, требуя для нее предварительной ориентировки на этике. Правда, в третьей части своего труда одностороннюю этическую ориентировку первой части М. восполняет целым рядом заимствованных из логики соображений. — В русской оригинальной литературе высказанная нами точка зрения защищается в общей форме М. М. Р у б и н ш т е й н о м в его книге «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой» (2-е изд. М. 1910 г.). Однако высказанный автором в первой части его труда взгляд о необходимости философского обоснования педагогики не получает своего развития в дальнейших частях книги, в которых автор ограничивается изложением обычного материала педагогической психологии, дополняемого в третьей части некоторыми отдельными проблемами общей педагогики.*
_________________________
*Здесь и далее сохранено традиционное, принятое автором, оформление библиографических данных. — Прим. ред.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
Мы сочли целесообразным при переиздании сократить объем примечаний в связи с обилием иностранных и периодических изданий, недоступных современному читателю. — Прим. ред.
ВВЕДЕНИЕ
- Выражение Спинозы, который первый выставил требование чисто теоретической, безоценочной науки о душевных явлениях.
- Подробнее об экспериментальной педагогике см. главу 15 (спец. § 3), в которой предварительные рассуждения этой главы получают вообще свое дополнение, оправдание и отчасти исправление.
- В сущности схема эта была впервые дана еще Платоном в его известном разделении государства на три класса: класс ученых (= образованность), класс стражей (= гражданственность) и класс хозяйственный ( = цивилизация). В отличие от Платона мы только полагаем, что каждому слою культуры не должен соответствовать определенный общественный класс, но каждый человек, участвуя в хозяйственной жизни общества и в гражданской его жизни, должен быть причастен и образованности. См. ниже, гл. 7, § 2.
- Даже там, где рисунок (зверя, птицы или другого животного) с виду не служит никакой внешней цели, он имеет служебное магически-утилитарное значение. Изображая дух племени («тотем»), рисунок имеет целью предохранить жилище, оружие или владельца амулета от возможных со стороны тотема злых поступков. Поэтому рисунок определяется даже в своих деталях обычаем: точнее воспроизведение оправдавшего себя в своей магической силе амулета, будучи главной целью рисунка, сковывает свободу зрения и изображения просыпающегося в первобытном человеке художника.
- «Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует обычай», прекрасно говорит Дж. Ст. Милль в своей книге «О свободе».
- Этой проблемы касается В. Ключевский в I томе «Курса русской истории» (4-ое изд., М. 1911, стр. 120 сл.) но поводу вопроса о начальных фактах русской истории. Два признака обозначают, по мнению Ключевского, начало истории народа: «самое раннее воспоминание его о самом себе и самая ранняя общественная форма, объединившая его в каком-либо совокупном действии». Нужно ли говорить, что при таком понимании история, будучи совокупным действием народа, а не простой жизнью, превышает самосохранение и, значит, возможна только там, где народ работает над культурными ценностями? Историческое мировоззрение Ключевского пронизано этой мыслью о единстве понятий истории и культуры.
- Этому не противоречит взгляд Канта о самоценности каждого человека, как такового. Человек есть цель в себе и не может быть употребляем только как средство не в силу своей психофизической природы, но потому, что он — носитель нравственного закона, т. е. абсолютной ценности Добра.
- В данном в тексте определении истории мы примыкаем к философско-историческим взглядам Риккерта, развитым им в его трудах «Границы естественно-научного образования понятий» (рус. пер. под ред. Водена. Спб. 1905). «Философия истории», (рус. пер. С. Гессена, Спб. 1909) и «Науки о природе и науки о культуре» (рус. пер. М. Е. Зангера. Спб. 1911).
- Наличие истории языка не противоречит этому нашему утверждению. Поскольку язык представляет собою самостоятельную ценность, и его история не есть простое сплетение и отражение истории науки, хозяйства, права, религии, — ценность эта — эстетическая. Именно это обстоятельство послужило основанием для К р о ч е построить эстетику как «общую лингвистику».
- Это взаимоотношение между культурой и образованием личности прекрасно выяснено в небольшой книжке Наторпа «Культура народа и культура личности» (есть два рус. пер.). — Срв. также начало «Воспитания человеческого рода» Лессинга, в терминологии которого «откровение» означало то, что мы называем «историей»: «Что воспитание у отдельного человека, то откровение у всего человеческого рода. — Воспитание есть откровение, происходящее в отдельном человеке: и откровение есть воспитание, имевшее место и происходящее еще в человеческом роде». §§ 1-2.
- Проблема хозяйственного образования, как особого вида образования, была впервые выдвинута Пссталоцци, а затем Фихте. Срв. идею Песталоцци об «азбуке техники» (ABC der Kunsl), долженствующей стать рядом с обычной азбукой речи и азбукой геометрического представления, и «Речи к немецкой нации» Фихте.
- Срв. главы 13 и 14.
- В философской литературе проблема философии хозяйства была высказана Кроче в его книге Filosofia delia practica и Мюнстербергом в его Philosophic der Werle. На рус. яз. см. интересную книгу С. Булгакова «Философия хозяйства» (М. 1912).
- Слова Ф. Энгельса, высказанные им в его труде «Философия, политическая экономия и социализм» («Анти-Дюринг»), Вряд ли нужно особо доказывать, что победа человека над природой есть бесконечное задание, не разрешимое сполна ни при какой конкретной организации производства, в том числе и социалистической.
- См. ниже гл. 3, прим. 2; гл. 8, § 3 и гл. 3, § 5.
ЧАСТЬ I. ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава I. ИДЕАЛ СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
Отрицание культуры проходит красной нитью сквозь все сочинения Руссо. Уже в первом своем сочинении – «Способствовал ли подъем наук и искусство улучшению нравов?» Руссо решительно отвергает культуру. Науки и искусства, утверждает Руссо, извратили человеческую природу, внесли разложение в нравы природного человека. Вся дальнейшая литературная деятельность Руссо есть развитие этой основной темы. Ее он касается во втором своем рассуждении «О причинах неравенства между людьми», ее обсуждает он в своем «Общественном договоре», в котором положительному праву противопоставляет право естественное, ей же посвящен его роман «Новая Элоиза», так же как и основное педагогическое сочинение Руссо, написанное в виде романа, «Эмиль или о воспитании» (1762). Во всех этих сочинениях культуре противостоит идеальное состояние природы — мысль, с редкой силой выраженная в известном парадоксе, которым начинается «Эмиль»: «все хорошо, что выходит из рук Творца, все вырождается в руках человека». «Предположим как неоспоримую максиму, что первые движения природы всегда нравы», продолжает он. «Человек от природы добр», и только жизнь в культуре делает из него то злое, лицемерное и своекорыстное существо, которое всем нам так хорошо известно1.
Попробуем же уяснить себе, что понимает Руссо под культурою, в чем состоят ее недостатки. Тем самым определится также точнее положительный идеал Руссо — его «природа». Для этого мы сопоставим отдельные мысли Руссо из «Эмиля» и других его сочинений.
Главный порок культуры, согласно Руссо, — это ее искусственность. Культура — это то, что сделано людьми по заранее обдуманному ими плану. Сюда относится прежде всего искусство, которое в особенности отличается надуманностью и нарочитостью. В «Письме к Даламберу» Руссо дает чрезвычайно резкую картину искусственности искусства, особенно искусства театрального. Драматург старается в пьесе искусственно подражать природе, изображать рассудочным образом чужие чувства и чужие мысли. Актеры на сцене «представляются», изображая не то, что они суть на самом деле. Под маской чужих слов и чужих лиц они скрывают свои собственные мысли и чувства. То же самое можно сказать о всяком искусстве вообще, например, искусстве поэта, изображающего то, чего не было в действительности, и искусстве живописца, подражающего природе. Подобно искусству искусственна и наука. Она исходит из целого ряда допущений, принятых ею на веру. Ученые поэтому полны предрассудков, иных, чем те, которых придерживаются простые люди, но еще более упорных и произвольных. Они смотрят на природу сквозь очки, которые они сами себе сделали, и поэтому видят одну только внешнюю ее скорлупу, но не могут постичь существа вещей. Искусственны также государственные учреждения и законы, которыми люди управляются: не вытекая из человеческой природы, они придуманы людьми в целях искусственного подчинения одних людей другим. Столь же искусственным характером отличается и положительная религия: ее догматы и веления точно так же придуманы людьми для того, чтобы «оправдать преступления людей и несчастия человеческого рода»2.
Культура, таким образом, есть прежде всего р а с с у д о ч н о с т ь, совокупность того, что сделано людьми для достижения заранее ими принятых целей но заранее поставленным ими себе правилам. Интересно, что в этом понимании искусств, науки, права и религии Руссо вполне совпадал со своим веком — веком Просвещения, видевшим в культуре прежде всего господство разума. Оба господствовавшие течения этой эпохи — рационализм и эмпиризм - одинаково смотрели на культуру как на порождение человеческого ума: искусства и науки, законы и верования — вся культура есть плод сознательной, рассудочной деятельности человека. Поэтому уровень культуры и измеряется просвещением народа. Совершенствование человечества есть прежде всего совершенствование его рассудка, функциями которого равно являются искусство и законы, религия и нравственность. «Великая Энциклопедия» и «Философский Словарь» Вольтера, эклектически сочетавшие в себе рационализм и эмпиризм предшествовавшей философии, представляют собой памятники этого горделивого самоутверждения разума.
Поэтому протест Руссо против культуры есть прежде всего протест против одностороннего господства рассудка. Руссо — интуитивист. С необычайной силой выразил он в своих сочинениях то никогда не прекращавшееся, но в эпоху господства рационализма и эмпиризма загнанное как бы в подполье философское течение мистицизма, которое, исходя из признания иррациональности мира, рассудку противопоставляет чувство, сознательной воле человека — природный инстинкт и непостижимую для рассудка волю Божества. Руссо — интуитивист. Это значит, что действие, расчетливо преследующее заранее поставленные цели, для него ниже действия, совершающегося в результате непосредственного веления сердца. Чувство — вот непогрешимый, истинный вожатый человека: оно безошибочно направляет волю, оно же открывает ему подлинную сущность и красоту мира, так же как сближает его с Божеством. Природа, которую Руссо противополагает культуре, есть то, что постигается чувством и чувством же руководствуется3.
Вполне попятно, что иначе оценивая культуру, Руссо понимал ее в согласии со своим веком. Борясь против культуры, он прежде всего, конечно, имел в виду ту до изысканности искусственную цивилизацию Просвещения с ее господством литературных правил, моды, художественного вкуса, научного языка, которая с ее салонами и париками встает перед нами тогда, когда мы пытаемся вызвать в уме образ просвещенного XVIII века. Этой сделанной культуре соответствовала философия, провозглашавшая господство сознательно преследующего свои цели разума. Но вместе с тем мы слишком уже исторично и поверхностно поняли бы Руссо, если бы во всей его философии видели только протест против культуры и философии XVIII века. Противопоставляя искусственности XVIII века непосредственность чувства и рассудочности — интуицию, Руссо хочет вскрыть отнюдь не одни только недостатки цивилизации эпохи Просвещения. Его протест идет гораздо глубже, он направлен против искусственности в с я к о й культуры вообще. И критикуя XVIII век, Руссо несомненно вскрывает нам основной порок культуры как таковой. В этом сила его парадоксов, их вечная юность, притягательность их для последующих поколений, заставляющая мысль человечества постоянно возвращаться к поставленным Руссо проблемам.
Почему в с я к а я культура неизбежно искусственна? На этот вопрос Руссо отвечает в своем рассуждении «О причинах неравенства между людьми». В основе современной культуры — и этим именно состояние культуры отличается от природного состояния — лежит разделение труда. В естественном состоянии человек сам удовлетворяет все свои потребности. Он одновременно и земледелец, и охотник, и рыболов, и скотовод, не будучи никем из них в отдельности. Он знает все необходимые ему искусства, сам учит своих детей, защищает себя с оружием в руках. Он и художник и певец, и он сам, без посредства других, молится Богу. Он живет полной жизнью, не нуждаясь в помощи других и не завися от других. Поэтому он вполне свободен. Поэтому также в естественном состоянии все люди равны между собой. Разделение труда, с которого начинается современная культура, уничтожает это естественное равенство и свободу. Человек ограничивает свою деятельность каким-нибудь одним занятием, становится профессионалом. Таким образом он попадает в зависимость от других лип: земледелец попадает в зависимость от кузнеца, кузнец — от земледельца. И чем дальше идет разделение труда с присущей ему специализацией, тем сильнее становятся взаимные узы, ограничивающие людей: из свободного, самодовлеющего существа человек все больше становится частицей социального механизма, в котором все части нуждаются друг в друге и ограничивают друг друга. Так рождается неравенство между людьми, ибо, желая облегчить себе удовлетворение своих потребностей (что возможно лишь когда на одного работают другие), каждый стремится захватить себе возможно больше благ, в которых эти другие нуждаются. А вместе с собственностью и неравенством утрачивается и свобода: накапливая собственность, каждый стремится обеспечить себе труд других людей, поставить их в зависимость от себя, заставить их на себя работать4.
В этой оценке разделения труда, которым объясняются собственность и связанные с нею неравенство и несвобода, Руссо поразительным образом совпадает с современным анархизмом. Если для социализма характерны положительная оценка разделения труда и утверждение самодовления общества, частью которого только является отдельный человек, то именно анархизм во всех его видах отрицательно относится к разделению труда, мысля идеальный общественный строй как совокупность самодовлеющих лиц или небольших самодовлеющих общин, самостоятельно удовлетворяющих все свои потребности и представляющих каждое в отдельности всесторонне развитые существа, не поглощенные безусловной взаимозависимостью громадного социального механизма.
Особенно близко из анархистов подходит к рассуждению Руссо Л. Толстой. Естественное разделение труда, говорит он, отличается тем, что в нем нет узкой специализации и профессионализма с вытекающей из него невозможностью одному обойтись без помощи другого. Так в деревне имеется крестьянин, который лучше других владеет кузнечным ремеслом. Он производит кузнечные работы на других в меру потребности и в обмен пользуется услугами других. Сокращается спрос на кузнечные работы, он больше занимается земледелием. Он не зависит от других людей, так как он не порвал совершенно с прочими видами труда и в случае надобности может обойтись без услуг соседей. При таком разделении труда сохраняется независимость каждого. Разделение труда соответствует естественным потребностям в нем общества. В современном обществе, напротив, разделение труда не ограничивается естественным обменом услугами. Оно пошло далее, создало профессионалов, которые не умеют делать ничего другого, кроме своего ремесла. Эти профессионалы, из которых особенно выделяются люди умственного труда (чиновники, ученые, художники, учителя), стремятся искусственно вызвать потребность в своем труде и, накопив собственность, обеспечить себе возможность существования даже тогда, когда общество в них в сущности не нуждается. Такое разделение труда есть собственно уже захват чужого труда, говорит Толстой совершенно в духе рассуждения Руссо «о неравенстве»5.
Будучи основным пороком культуры которым культурное состояние именно и отличается от природного, разделение труда, по мнению Руссо, породило последовательно все другие бедствия культуры: собственность, неравенство и человеческое рабство. Но от него, показывает Руссо в других своих сочинениях, проистекают также и внутренние пороки культурного человека, одинаково характеризующие как порабощенный, так и господствующий слой цивилизованного общества. Прежде всего разделение труда ведет к профессионализму, откуда и проистекает искусственность жизни культурного человека. Специализация вырабатывает определенные технические навыки и приемы работы, долженствующие вначале помогать человеку, но постепенно вырождающиеся в привычку и рутину, порабощающие свободное творчество человека. Так художник вместо того, чтобы выражать в своем творчестве переживаемые им чувства, прежде всего думает о том, как бы не погрешить против того или иного приема художественной техники. Великий художник, стремясь выразить волнующие его чувства, создал определенную форму стиха. Эта форма становится с течением времени каноном, обязательным для других поэтов, уже не переживающих того, что испытывал ее творец. Чтобы не погрешить против традиционных правил стихосложения, поэт, заботясь прежде о чистоте формы, утрачивает свежесть чувства и непосредственность переживания. Искусство, таким образом, вырождается в искусственность: техника порабощает чувство, форма убивает дух. Тщетно поэтому искать в художественных школах подлинного искусства. Академии не рассадники, а губители живого искусства. То же самое происходит и с наукой. «Научный воздух, говорит Руссо, убивает науку». Ученый, вместо того чтобы смело идти своим путем в открытии истины, прежде всего старается остаться верным тем навыкам и приемам исследования, которые он перенял от своих предшественников. Вместо изучения самой природы, он изучает книги о природе. Книга заслоняет пред ученым природу. Наука вырождается в схоластику. Образуется замкнутая каста оторванных от жизни ученых, самодовольных, якобы блюдущих традиции научности, но на деле исполненных своих научных предрассудков и ревниво не допускающих в свою среду живую мысль, не укладывающуюся в то, что называется «научностью исследования». Так разделение труда через вытекающий из него профессионализм создает куль- туру, в которой человек — раб рутины, обычая, привычки, авторитета. И опять-таки никто иной, как Толстой, в ярких красках рисует вслед за Руссо это господство искусственности, характеризующее культурное состояние в отличие от природного6.
Культура искусственна. В ней пет простоты и непосредственности чувства, отличающих жизнь первобытного человека. Вследствие отмеченного выше порабощения человека им же созданной формой всякая культура означает господство рассудочности: человек рассуждает, вместо того чтобы отдаваться искренне и просто своему чувству. Театральное искусство отвергается Руссо именно потому, что актер «представляется», стараясь изобразить то, чего сам не переживает, но только представляет рассудком. Театральное искусство поэтому лживо и лицемерно. Насколько оно ниже простой деревенской песни, не столь, быть может, совершенной но форме, но выражающей полноту чувства поющего! Сравните с этим опять-таки описание песни косцов в «Анне Карениной»: они поют, потому что не могут не петь. Переживаемое ими чувство радости и торжества переполняет их душу и естественно выливается в дружную согласную песнь, которая охватывает и заражает всех ее слушающих, в том числе Левина. Как невыгодна отличается от этого искусства оперное представление, описание которой дает нам тот же Толстой в «Войне и мире»: знаменитая певица здесь менее всего поет от радости пения. Она все время думает о публике, которой старается понравиться, о режиссере, распоряжениям которого подчиняется, об оркестре и партнерах, с которыми боится разойтись в такте. И публика, даже с интересом следящая за представлением, не заражена тем, что она слышит, но главным образом следит за техникой представляемого. Искусство наполнено фальшью. И потому, как говорит Толстой в другом месте, простая, но исполненная чувства песня баб выше сонаты Бетховена» не содержащей никакого определенного чувства и потому ничем не заражающей7.
В культуре люди рождают, а не чувствуют, изображают, а не творят. Это потому, что они утратили целостность природного человека. «Естественный человек есть все для себя; он — нумерическая единица, абсолютная целостность, не имеющая отношения ни к чему, кроме как к себе самому и себе подобным. Человек гражданского общества есть лишь дробная часть, которая зависит от знаменателя и ценность которой находится в отношении к целому, каковым в этом случае является социальное тело». Из целостного, всесторонне развитого существа человек становится дробью человека — его 1/20-й или 1/40-й, в зависимости от числа различных профессий, на которые, в силу разделения труда, распался некогда единый и цельный труд первобытного человека. Став своей собственной дробью, человек перестал понимать другого человека: интересы профессии заслонили перед ним интересы человеческие. Обрети себя вновь. «Человек будь человеком, это твоя первая обязанность», восклицает Руссо8.
В естественном состоянии человек «постоянно имеет все свои силы в своем распоряжении, он всегда готов ко всякому событию и как бы всегда носит с собою всего себя». В культуре, напротив, становясь своей собственной дробью, человек теряет сам себя. Он перестает быть личностью, утрачивает свою свободу, впадает в зависимость от других людей. «Человек в гражданском обществе Рождается, живет и умирает в рабстве: когда он родился, его закутывают в пеленки; когда он умирает, его заколачивают в гроб; пока он сохраняет человеческий облик, он скован цепями наших учреждений»9. Люди искусства и науки стараются не столько выразить свои чувства и взгляды, сколько угодить публике и авторитету, как та певица из «Войны и мира», которая старается лишь угодить требованиям других. А публика? — она тоже не имеет своего мнения: спросите зрителя премьеры, понравилась ли ему пьеса, и он осторожно промолчит. Он боится иметь собственное мнение. Как бы не опростоволоситься, т. е. не разойтись в суждении с известным критиком, который только завтра в газете предпишет всем определенное мнение о том, что они вчера видели и должны были испытывать в душе. «Нельзя себе представить до какой степени здесь (т. е. в культуре) все рассчитано, соразмерено, взвешено в поведении: все то, чего более не существует в их чувствах, эти люди возвели в правило, и все у них стало правилом… Человек здесь не смеет быть самим собой. «Надо поступать так, как другие» — вот первое правило местной мудрости. «Это делается, это принято, а это не принято» — вот верховное решение общественного мнения». Культура — это господство массы и общественного мнения, это отказ от собственных взглядов, собственных стремлений и желаний. Все думают, как другие, все действуют по указке других. Нет своего, есть только чужое. Нет внутренней свободы. Вместо живых личностей — «марионетки, прибитые к одной и той же доске и которых тянут за одну и ту же нитку»10. Культура для Руссо — это власть механического: формы и механизмы, созданные человеком для того, чтобы служить ему покорными орудиями, овладели человеком, лишили его целостности, свободы личности и превратили его самого в искусственный механизм, действующий согласно устанавливаемым рассудком правилам.
Свободная и цельная личность, — вот содержание того идеала «природы», который Руссо противопоставляет всякой культуре вообще, а особенно рассудочной культуре современного ему XVIII века. Отсюда его интуитивизм: чувство целостно, полноценно, между тем как рассудок частичен, односторонен, условен. Отсюда также и его «анархизм» с его идеалом независимой человеческой личности, свободной, верной самой себе и подчиняющейся лишь голосу непогрешимого чувства — совести. Так протест Руссо против культуры означает при ближайшем рассмотрении борьбу за нравственный идеал свободной и целостной личности. «Человек рожден свободным, и повсюду он в цепях»,—говорит Руссо. «Природа» для него есть не столько железная необходимость, сколько свобода. И постольку также «естественное» воспитание Руссо есть прежде всего «свободное» воспитание11.
2
Задача этого воспитания — создать человека. Этим новое воспитание отличается от старого, ставившего себе целью подготовку к какой-нибудь профессии или к какой-нибудь школе. Средство этого воспитания — свобода, или что то же, исключительно природная жизнь, протекающая вдали от культуры с ее искусственностью и механичностью. Сама природа, всегда, по мысли Руссо, благая должна быть воспитателем человека. Поэтому задача воспитания не что-нибудь сделать с воспитанником, а предохранить человека от культуры. Надо сделать так, чтобы природа сама действовала в человеке, ибо она — наилучший воспитатель. «Чтобы создать этого редкого человека, спрашивает Руссо, что должны мы делать? Без сомнения очень много: помешать, чтобы что-нибудь было сделано». Такое естественное воспитание Руссо сам называет отрицательным и противопоставляет его обыкновенному — положительному. «Первоначальное воспитание, говорит он, должно быть чисто отрицательным. Оно состоит отнюдь не в том, чтобы учить добродетели и истине, но в том, чтобы предохранить сердце от порока, а ум от заблуждения. Если бы вы могли ничего не делить и сделать так, чтобы другие ничего не делали с вашим воспитанником, если бы вы могли довести его здоровым и крепким до двенадцати лет так, чтобы он не умел различать правой руки от левой, то с первых же ваших уроков очи его рассудка открылись бы разуму: без предрассудков, без привычек, он не имел бы в себе ничего, что могло бы противодействовать результатам ваших забот. Вскоре он стал бы в ваших руках самым мудрым из людей, и, начав с ничегонеделания, вы создали бы чудо воспитания»12.
Уметь ничего не делать с воспитанником — вот первое и наиболее трудное искусство воспитателя. В этой парадоксальной формуле Руссо выразил классическую мысль всей последующей педагогики, до сих пор в различных вариантах неизменно повторяющуюся и современными педагогами. Сколько воспитателей вместо того, чтобы терпеливым воздержанием от действия воспитать ребенка, прислуживают ему, говорит совершенно в духе Руссо Монтессори13. Гораздо легче объяснить ученику теорему и показать ему решение задач, чем, ничего не делая за него, сделать так, чтобы он сам доказал теорему и решил задачу, говорит вся современная дидактика. Показывать, объяснять, говорить, суетиться — не дело воспитателя. Его наиболее трудное и достойное дело — следить, терпеливо ждать «ничего не делать», «помешать, чтобы что-нибудь было сделано». С этой целью Руссо и помещает своего Эмиля в природную обстановку, вдали от города — этой бездны современной жизни. На лоне природы, в сельской тишине будет медленно созревать новый настоящий человек. Пo его рождении его не свяжут пеленками, но предоставят ему свободу движения. Сама мать будет кормить его грудью. Воспитывать его должны бы собственно его родители. Но так как родители слишком отягчены предрассудками культуры и не смогут с должной выдержкой предохранить от нее Эмиля, — его будет воспитывать сам Жан Жак, вооружившийся трудным искусством «ничегонеделания».
Чрезвычайно убедительно и эффектно показывает Руссо в первых двух книгах «Эмиля» вред противоположного, положительною воспитания, всегда предупреждающего природу, торопящего естественное развитие человека и потому всегда преждевременного. В первый период своего развития (до трех лет включительно) ребенок становится самостоятельным, окончательно отрывается от материнской утробы. Он научается трем вещам: умению говорить, есть и ходить. Что получается от того, что мы торопим природу ребенка и преждевременно обучаем его хождению и речи? В обыкновенном «положительном» воспитании мы пользуемся всякого рода приспособлениями для того, чтобы ребенок поскорее начал ходить: помочами, двигающимися креслицами и т. п. Допустим, что в результате такого преждевременного обучения хождению ребенок останется здоровым: у него не искривятся ножки от слишком раннего функционирования. Произойдет худшее, а именно, ребенок не будет иметь с в о е й походки, он будет ходить, как другие. Ведь мы заставляем ребенка ходить, когда у него нет еще к тому внутренней потребности. Походка ему еще не нужна. Она не выражает его Я, его интересов и стремлений. А между тем он принуждается ходить. Естественно, он подражает другим в походке, она становится механическим, безличным жестом, вместо того чтобы покорно выражать его индивидуальность. Еще ярче эта победа механического и утрата самостоятельности обнаруживаются при преждевременном обучении речи. Ребенку еще нечего сказать, у него нет внутренней потребности говорить. Между тем взрослые, в своих собственных интересах (забавы и тщеславия), заставляют ребенка произносить слова. Но слова даны нам для того, чтобы мы выражали ими свои мысли, чувства и желания. Ребенку еще нечего выражать. Слова, которые он произносит вслед за другими, ничего ему не говорят. Вместо того, чтобы служить средствами выражения некоторого душевного содержания, они становятся самоцелью. Он приучается подражать другим, механически воспроизводить чужие жесты, чужие движения. Так подпадает он под власть слова, от которой освободиться уже не в силах в течение всей жизни. Такие люди не владеют своими словами, но напротив, они рабы чужих слов и того, что они сами говорят. Повторяя слова, не выражающие его собственного душевного содержания, человек приучается не столько выражать словами свои мысли и чувства, сколько скрывать за ними свои подлинные думы и настроения: наряду с механичностью в нем вырабатывается лицемерие. Так из благородного орудия общения слово становится господином человека. Форма побеждает дух, механизм - жизнь человек утрачивает самодеятельность, перестает быть самим собой14.
В дальнейших книгах «Эмиля» Руссо показывает, как велик вред от преждевременного обучения грамоте и нравственным правилам.
Чтение и письмо, пока они не стали потребностью человека, вредны. Как и речь, чтение и письмо должны выражать внутреннее переживание — мысль и чувство человека. Тогда только человек овладевает прочитанным, чужое перерабатывает в свое: книга для него предмет размышления, и в общении с нею он развивает свое Я. Между тем, так называемая детская литература (например басни Лафонтена) ничего не говорит уму и сердцу ребенка. Поэтому, читая их, ребенок приучается только без всякой критики повторять чужие слова и подпадает под власть словесного механизма. — Точно так же обстоит дело и с нравственными правилами. Мы говорим ребенку «не бери чужого», когда он не понимает, что такое собственность. Мы даем ему деньги для раздачи их нищим, когда ребенок не представляет себе, что такое нищета и какова ценность денег. В результате ребенок приучается механически подражать старшим, делать поступки, не выражающие его душевного Я, т. е. поступать из привычки или ради похвалы. Так воспитывается будущий лицемер, поступки которого скрывают подлинное настроение души, вместо того чтобы выражать его15.
В противоположность такому преждевременному «положительному» воспитанию Руссо выставляет идеал «отрицательного воспитания», задача которого — ничего не делать, ничего не навязывать, а только поставить Эмиля в условия при которых он сам бы все делал. Поэтому всякое воспитание, будучи собственно самовоспитанием, не может начаться ранее, чем в достаточной мере развились у воспитанника соответствующие органы и возникли соответствующие потребности. Задача воспитателя — следя за возникающими запросами воспитанника, удовлетворять их и поставить его в условия, развивающие его органы и способности. Этим определяется деление воспитания на периоды. Так как рассудок есть орган, сводящий в одно данные чувств и могущий оперировать лишь на основе чувственного материала, то умственное воспитание может начаться, по мнению Руссо, не раньше двенадцатилетнего возраста.
Период от трех до двенадцати лет есть период воспитания чувств, т. е. развития органов восприятия и накопления чувственного опыта, без которого деятельность ума лишается всякого содержания. До этого времени у ребенка нет никаких умственных запросов, и потому всякое умственное воспитание в этом возрасте вредно, как преждевременное. «Первые наши учителя философии, говорит Руссо, — паши ноги, руки, глаза… Заменить книгами все это, это не значит научить нас рассуждать, это значит научить нас пользоваться рассудком другого, это значит научить нас многое принимать на веру и никогда ничего не знать. — Для того чтобы заниматься каким-нибудь искусством, нужно прежде всего достать инструменты; а для полезного употребления этих инструментов нужно сделать их достаточно прочными, чтобы они могли выдержать свое употребление. Чтобы научиться мыслить, нужно, следовательно, упражнять наши члены, чувства и органы, которые суть инструменты нашего ума». Поэтому «если хотите образовать ум вашего воспитанника, развивайте силы, которыми ум должен управлять. Чтобы сделать его умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым; путь он работает, действует, бегает и кричит, пусть находится в беспрерывном движении; пусть будет он человеком по силе, он тогда скоро сделается им и по разуму»16.
Но и умственное воспитание обнимающее возраст от двенадцати до пятнадцати лет, не есть обучение в обыкновенном смысле этого слова. Эмиль обучается чему-либо не по заранее для всех одинаково установленной программе, но в меру самостоятельно производимых им наблюдений и возникающим благодаря этим наблюдениям потребностей и запросов. Преждевременное обучение и здесь ведет, согласно Руссо, к утрате способности суждения: сведения, предлагаемые раньше, чем у ученика возникают вопросы, на которые они служат ответом, рождают не знание, а предрассудки. «Я преподаю моему воспитаннику, говорит Жан Жак, искусство очень долгое, очень трудное, которого ваши ученики как раз не знают, а именно искусство быть невеждою: ибо знание того, кто думает, что он знает то, что знает, сводится к весьма малому. Вы лаете знание. Прекрасно! Я занимаюсь орудием, способным его приобретать»17. Точно также и подлинное нравственное воспитание не может начаться ранее, чем развились органы нравственности — чувствования и страсти, возникающие в период возмужания человека, т. е. в пятнадцати — шестнадцатилетнем возрасте. И здесь задача воспитателя состоит в том, чтобы предохранять воспитанника от воздействия со стороны внешней культуры, следить за развитием его потребностей и интересов и помощью, советом, знанием отвечать па возникающие у воспитанника вопросы.
Но откуда возьмутся у Эмиля, изолированного от внешней среды, эти потребности и вопросы? Руссо не хочет воспитать дикаря, не умеющего писать и читать, не знающего наук и ремесел18. Искусство воспитателя — уметь вызвать н у ж н ы е потребности, интересы и запросы. Вот как это делает Жан Жак со своим Эмилем. Нужно ли приучить Эмиля к нормальному, не слишком долгому сну? «Я был бы слишком плохим воспитателем, если бы я не сумел заставить Эмиля просыпаться самого и не вставать, так сказать, согласно моей воле, не говоря ему ни слова. Если он спит не достаточно, я на следующий день устраиваю ему скучное утро, так что он будет считать выигранным все то время, которое он сможет оставить для сна; если он спит слишком долго, я показываю ему после вставания увлекающее его занятие. Хочу ли я, чтобы он проснулся в определенный час? Я ему говорю: завтра в 6 часов устраивается рыбная ловля, мы идем туда-то и туда-то; хотите принять участие? Он соглашается и просит меня его разбудить; я обещаю или не обещаю, смотря по обстоятельствам; если он просыпается слишком поздно, он находит меня уже отправившимся па реку».
Настала пора обучения грамоте: соответствующие органы уже развились, в сущности имеется уже и соответствующая потребность, но Эмиль не думает о грамоте. Как сделать, чтобы Эмиль ощутил потребность и заинтересовался грамотой ? «Эмиль получает иногда от своего отца, своей матери, родных, друзей пригласительные записки на обед, на прогулку, на катанье на лодке, на какой-нибудь общественный праздник. Эти записки кратки, ясны, точны, хорошо написаны. Надо найти кого-нибудь, кто бы их ему прочел: этот кто-нибудь не находится как раз дома в нужный момент или отвечает Эмилю нелюбезностью на вчерашнюю невнимательность к нему Эмиля. Так случай, момент пропускается. Записка наконец прочитывается, по уже поздно. Ах, если бы можно было прочесть ее самому! Между тем получаются новые записки: они так коротки! В них написано столько интересного. Так хотелось бы их прочитать; а между тем встречаешь то помощь, то отказ». Все это, в конце концов, заставляет Эмиля самого с рвением приняться за грамоту, основные указания в которой дает ему Жан Жак. — Или настала нора обучаться наукам — космографии, физике. Обыкновенно берут книжку или модель и начинают по книжке или но искусственной модели изучать природу. Всячески стараются облегчить обучение, освободить учение от работы, сократить срок учения. Забота Руссо обратная: «столько имеется поразительных методов, говорит он, направленных к сокращению срока обучения наукам; хорошо было бы, если бы кто-нибудь дал нам другой метод, который, затрудняя обучение паукам, требовал бы от учеников усилий при учении». Не но книжкам и моделям, а по самой природе должен изучать природу Эмиль. «Мы видели восход солнца на Иванов день; мы пойдем смотреть его на Рождество или в какой-нибудь другой зимний день; ибо известно уже, что мы не ленивы и что для нас холод нипочем. Я устраиваю так, что это второе наблюдение производится в том же месте, что и первое с помощью ловкого хода, подготавливающего замечание, кто-нибудь из нас не преминет воскликнуть: вот это интересно! Солнце восходит не на том месте! Вот здесь наши старые знаки, а сейчас оно взошло там и т. д.». Так заинтересовывается Эмиль космографией, у него возникают соответствующие вопросы, на которые ему и дает ответы Жан Жак. — Или, как заинтересовать силой магнитизма, когда кругом нет магнитной руды? Можно сговориться с бродячими фокусниками, которые па соседней ярмарке, куда Эмиль пойдет гулять, покажут ему чудеса в кадке с водой: движущихся по их велениям восковых рыбок и гусей. Пораженный Эмиль заинтересуется причиной этого странного явления, и Жан Жак удовлетворит его любознательность. — В общем так же организует Жан Жак и нравственное воспитание Эмиля, которое, как известно, кончается романом с Софьей и женитьбой па ней Эмиля, разыгрываемым как по нотам под руководством опытного Жан Жака19.
Может ли быть названо такое воспитание в подлинном смысле слова естественным и свободным? Эмиль не знает слов «обязанность» и «подчинение», — они изгнаны из его словаря20. Он делает то, что хочет. Обучение наукам, как мы видели, поставлено так, что он спрашивает, а учитель отвечает, а не обратно, как это имеет место в обыкновенной школе. Но чего хочет Эмиль? Что он спрашивает? Достаточно вдуматься в приведенные выше примеры и вчитаться в роман Руссо, чтобы увидеть, что Эмиль хочет и спрашивает именно то, чего желает, чтобы он хотел и спрашивал, его воспитатель Жан Жак. Эмиль находится под неустанным контролем Жан Жака, подобно тени следящего за каждым его шагом, неусыпно предохраняющего его от вредных влияний культуры и расставляющего перед ним сеть искусно подстроенных случаев, долженствующих вызвать у Эмиля те или иные потребности и возбудить у него те или иные вопросы. Каждый вопрос Эмиля задолго уже предвиден Жан Жаком, каждое его «самостоятельное» действие есть плод искусной махинации его воспитателя, которого не случайно Руссо называет в одном месте «министром природы». Можно ли при таких условиях говорить о свободе Эмиля? В следующем характерном признании сам Руссо отвечает на этот вопрос. В самых тщательных воспитаниях учитель командует и мнит, что он управляет. На самом деле управляет ребенок. Он пользуется тем, что вы требуете от него, для того, чтобы получить от вас то, что ему нравится, и он всегда умеет заставить вас оплатить ему один час усидчивости восемью днями удовольствий… Пойдите с вашим воспитанником по противоположному пути; пусть он думает, что он всегда господин, и путь на деле будете им вы. Нет подчинения более полного, чем то, которое сохраняет видимость свободы; таким образом самая воля оказывается плененной. Бедный ребенок, который ничего не знает, ничего не может, ничего не умеет, разве он не вполне в вашей власти? Разве вы не располагаете в отношении его всем тем, что его окружает? Разве вы не властны произвести на него такое впечатление, какое вам угодно? Его труды, игры, удовольствия, несчастья — разве все это не в ваших руках, так что он даже не подозревает о том? Без сомнения он не должен ничего делать кроме того, что он сам хочет; но он не должен ничего хотеть кроме того, что вы хотели бы, чтобы он делал; он не должен делать ни одного шага, который вы не предвидели бы. Он не должен раскрыть рта без того, чтобы вы не знали, что он скажет»21.
Свобода Эмиля сводится, таким образом, к отсутствию сознания гнета со стороны воспитателя. Но не худший ли это вид рабства, когда жертва гнета даже не сознает его? Пленение воли — не во много ли раз хуже оно пленения действия? Изолированный от всех других влияний кроме постоянного и упорного воздействия всемогущего и вездесущего Жан Жака, Эмиль хочет того, чего желает, чтобы он хотел, его воспитатель — вплоть до женитьбы на предназначенной Жан-Жаком ему в жены Софье. Нетрудно предвидеть, что, привыкший к неустанному пестованию со стороны Жан Жака в тепличной атмосфере изолированной от жизни «природы», Эмиль, попавши в горнило подлинной, действительной жизни, менее всего сможет в ней отстаивать свою самобытность.
Откуда же это противоречие между замыслом и результатом теории Руссо? Почему великолепный и увлекательный замысел свободного воспитания обращается в конце концов в свою полную противоположность: в мелочный и неотвязный гнет со стороны воспитателя, усугубляемый неосознанностью его воспитанником? Почему «естественная» по замыслу природа Руссо оборачивается в ту полную рассудочности и искусственности обстановку жизни Эмиля, которая во многом напоминает нарядную природу прекрасных пейзажей Ватто? Какая-то внутренняя диалектика присуща очевидно тем понятиям природы и свободы, которыми пользуется Руссо, обращая его замыслы против него самого. Последние основания этого замечательного явления мы вскроем потом — после анализа второй попытки обосновать идеал свободного воспитания, — попытки Л. Толстого. Но уже сейчас мы можем отметить отличительные особенности обоих основных понятий Руссо: свобода понимается Руссо чисто отрицательно, как отсутствие внешнего гнета. Она для него не цель, а факт воспитания, готовая и данная обстановка жизни воспитанника. Не потому ли она и совпадает с «природой», которая, означая по существу нравственный и д е а л свободной и целостной личности, определяется Руссо тоже чисто отрицательно, как отсутствие культуры, и превращается тем самым, вопреки мысли самого Руссо, если не в готовый ф а к т существовавшего некогда золотого века, то во всяком случае в своеобразную робинзонаду, герой которой пользуется теми обломками культуры, которые автору ее было угодно спасти после крушения?22
3
Толстой, во многом, как мы видели, совпадающий с Руссо и тоже отрицающий культуру, идет, однако, дальше Руссо и, избегая искусственности последнего, дает в этом смысле более глубокое обоснование свободного воспитания. Если Руссо провозглашает лозунги свободы и природы, то лозунгами Толстого являются свобода и жизнь. Толстой прекрасно понимает искусственный характер природы Руссо. Будучи существенно реалистом, он не ограничивается писанием педагогического романа, но стремится осуществить в жизни свои педагогические воззрения. И подобно тому, как прежде, чем написать свои исторические романы, Толстой подробно и основательно изучает на источниках быт и нравы описываемой им эпохи, точно так же прежде, чем приступить к осуществлению задуманных им педагогических планов, он подробно знакомится с теорией и практикой воспитания как в России, так и за границей. - С этой целью он предпринимает путешествие по Германии, Швейцарии и Франции, чтобы на месте ознакомиться с постановкой народного образования в странах, дальше всего пошедших в деле образования. В результате этого ознакомления с лучшими европейскими школами он приходит к выводу, что образовательное влияние современной школы чрезвычайно незначительно. Школа оторвана от жизни. В этом ее основной недостаток. Окончательно убедился в этом Толстой, но его словами, во время поездки своей по югу Франции, где ему пришлось обследовать учебные заведения для рабочего населения.
«Ни один мальчик в этих школах не умел решить, т. е. постановить самой простой задачи сложения и вычитания. Вместе с тем с отвлеченными числами они делали операции, помножая тысячи с ловкостью и быстротой. На вопросы из истории Франции отвечали наизусть хорошо, но по разбивке я получил ответ, что Генрих IV убит Юлием Цезарем. То же самое и в географии и священной истории. То же самое в орфографии и чтении». Человек, который желал бы составить себе представление об образованности народа по его школам «верно подумал бы, говорит Толстой, что французский парод невежественный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, французский парод почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите городского работника лет тридцати, он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе; иногда совершенно правильное он имеет понятие о политике, следовательно о новейшей истории и географии… Он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это? — Я невольно нашел этот ответ в Марселе, начав после школ бродить по улицам, гингетам, cafes chantants, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Цезарем, знал очень хорошо историю «Четырех мушкетеров» и «Монте Кристо». В Марселе я нашел 28 дешевых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных… Кроме того, музей, публичные библиотеки, театры. Кафе, два больших cafes chantants… В каждом из этих кафе даются комедийные сцены, декламируются стихи. Вот уже по самому беглому расчету пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование, — это другое дело, но вот оно бессознательное образование, во сколько раз сильнейшее принудительного, — вот она бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем». Не благодаря школе, таким образом, а вопреки школе получает свое образование народ. «Везде главная часть образования народа приобретается не из школы, а из жизни. Там, где жизнь поучительна, как в Лондоне, Париже и, вообще, в больших городах, народ образован; там, где жизнь не поучительна, как в деревнях, народ не образован, несмотря на то, что школы совершенно одинаковы как тут, так и там. Направление и дух образования парода совершенно независим и, большею частью, противоположен тому духу, который желают влить в народные школы. Образование идет своим независимым путем от школ»23.
Если, таким образом, школа хочет действительно стать фактором образования, она должна слиться с жизнью. Не изолировать от жизни, а быть тесно связанной с жизнью. Подобно тому, как в «Анне Карениной» Толстой высмеивает блажь Вронского и Анны, строящих для деревенских баб родильный дом по последнему слову науки и искусства, тогда как в избах нарушаются самые элементарные правила гигиены, точно так же иронически отзывается Толстой о педагогах, строящих в деревнях показательные школы по последнему слову педагогической техники. Такие школы уводит от обыденной жизненной обстановки, они изолируют от жизни и тем самым подрывают собственное свое образовательное значение. А между тем па деньги, потребные для содержания одной такой школы, можно было бы содержать десяток обыкновенных школ, обстановка которых соответствовала бы обстановке жизни крестьянского мальчика. Не переводить на несколько часов в иную обстановку должна школа деревенского мальчика. Если школа хочет быть продолжением и дополнением к жизни, то она должна разделять и обстановку этой жизни, т е., например, помещаться в избе, а не в необычном здании и т. Провозглашая лозунг «образование есть жизнь», Толстой, таким образом, избегает рассудочной искусственности «природы» Руссо. Как всегда односторонне и парадоксально он с необычайной силой поставил вопрос о вне- и после-школьном образовании. Если раньше педагогика занималась преимущественно произвольно выхваченным из линии человеческой жизни отрезком школьного образования, и если Руссо особенно наглядно показал, что образование начинается не со школы, а с «рождения»24, то Толстой восполнил эту мысль тем, что уничтожил и вторую черту, отделявшую образование от жизни: образование есть задание всей жизни человека, оно кончается лишь с его смертью. Жизнь и есть образование, и теория образования есть в сущности теория жизни. Известно, что Толстой, начав с теории образования, кончил теорией жизни, которая в основах своих, как это можно было бы показать, уже вся заложена в его педагогических статьях шестидесятых годов.
Свобода не в «природе», а в «жизни». Этим отличается свободное образование Толстого от идеала свободного воспитания Руссо. Как обосновывает эту мысль Толстой? Толстой различает между двумя понятиями — образованием и воспитанием. «Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с Целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенные им. Преподавание, Unterricht есть средство как образования, так и воспитания. Различие воспитания и образования только в насилии, право на которое признает за собой воспитание. Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно». «Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, как он сам». Это есть «возведение в принцип стремления к нравственному деспотизму». Но есть ли у нас право делать из других людей наши собственные подобия? Разве мы лучше детей, счастливее их? Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что наша жизнь хороша, и что мы можем насильно принудить других быть такими же, как мы, иметь те же вкусы, нравственные понятия, заниматься теми же делами? Нет, отвечает Толстой, «воспитание» как умышленное формирование людей по известным образцам — н е п л о д о т в о р н о, н е з а к о н н о и н е в о з м о ж н о. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает его, не признавало, не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания». Когда церковь предписывает определенное воспитание, то она считает, что обладает абсолютной истиной, тайной спасения. Кто не воспитан определенным образом, тот не спасется, и потому она со своей точки зрения имеет право воспитывать, т. е. принудительно вести людей к спасению. Точно так же и государство по-своему вправе принудительно воспитывать людей. Оно имеет в виду свое собственное существование, свое самосохранение. Ему нужны чиновники, судьи, солдаты, и оно принудительно формирует людей соответственно своим целям и потребностям. Наконец, и родители, «какие бы они ни были, желают сделать детей такими же, как они сами, или, по крайней мере, такими, какими они бы желали быть сами… Родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын: так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то естественным». Но вы, либеральные педагоги, спрашивает Толстой, вы, не обладающие, по вашим же словам, абсолютной истиной и утверждающие, что воспитываете детей не ради посторонних целей государства, благополучия родителей и т. п., а ради их же собственного блага, — чем вы докажете это право воспитания? «Я не знаю и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для нас несуществующее право одного человека делать из других людей таких, каких ему хочется». Позвольте самим детям знать, в чем их благо. Они это знают не хуже вас. Позвольте поэтому им самим воспитывать себя и идти путем, который они сами себе изберут. В отличие от семейного, церковного, государственного воспитания, — воспитание общественное не имеет ни худого, ни хорошего оправдания. «Общественное воспитание не имеет оснований кроме гордости человеческого разума и потому приносит самые вредные плоды». Если сам воспитываемый есть цель воспитания, то воспитание бессмысленно. Ибо нет морального нрава принуждать другого якобы ради его же собственного блага, в особенности не допустимо принуждение детей со стороны взрослых, испорченных и несчастливых25.
Воспитание незаконно. Допустимо лишь образование как свободное взаимоотношение равных лиц, т. е. именно то образование, которое дает сама жизнь. И потому школа, если она хочет стать положительным фактором развития человека, а не помехой ему, должна отрешиться от всякого принуждения: из воспитательного учреждения она должна стать учреждением чисто образовательным. Учитель не должен иметь никакой власти над учениками, отношение между ними должно быть отношением равенства. Школа должна только предоставлять ученикам возможность получать знания, ученики должны иметь право выбирать то, что им нужно, что представляет для них интерес по их собственным понятиям. Такая школа будет сразу и свободна и жизненна.
Яснополянская школа и была попыткой осуществить на деле идею такого свободного, вытекающего из жизни и служащего жизни образования. Это была замечательная школа. Нельзя без волнения читать хронику Яснополянской школы, в которой описывает Толстой ее труды и дни. Каждый педагог должен, на наш взгляд, прочитать в подлиннике эти выдающиеся по своей художественной красоте страницы. Здесь мы ограничиваемся поэтому лишь краткой характеристикой Яснополянской школы. В этой школе не было всего того, что охватывается словом «школьная дисциплина»: определенного расписания уроков, необходимости приходить в определенный час, звонков, наказаний и каких бы то ни было взысканий за опоздание на уроки или уход с урока. «С собой никто не несет ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока ничего сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучит мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера». Такая свобода учеников сопровождалась иногда явлениями, озадачивавшими учителей.
«Иногда, повествует Толстой, когда классы бывают интересны и их было много (иногда бывает до семи больших часов в день), и ребята устали, или перед праздником, когда дома печки приготовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, на втором или третьем послеобеденном классе два или три мальчика забегают в комнату и спеша разбирают папки. «Что вы?» — «Домой». — «А учиться? Ведь пение!» — «А ребята говорят домой, отвечает он, ускользая со свей шапкой. «Да кто говорит?» — Ребята пошли! — «Как же, как? — спрашивает озадаченный учитель, приготовивший свой урок. — Останься!» Но в комнату вбегает другой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. «Что стоишь? — сердито нападет он на удержанного, который в нерешительности заправляет хлопии в шапку: — «Ребята уже во-он где, у кузни уже небось». — Пошли? — «Пошли». И оба бегут вон, из-за двери крича: «Прощайте, Иван Иванович!» И кто такие эти ребята, которые решили идти домой, как они решили. — Бог их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не совещались, не делали заговора, а так вздумали ребята домой. «Ребята идут!» — и застучали ножонки по ступенькам, кто котом скалился со ступеней, и подпрыгивая и бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя — кто не согласится с этим, но кто не согласится также, что вследствие одного такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а иногда семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками»26.
Школа, несомненно, давала благотворные результаты: в отношении преподавания ученики ее выучивались грамоте, например, "В три-четыре недели, тогда как в соседних школах на это тратилось несколько месяцев. В отношении поведения учеников никаких особенных происшествий в смысле нарушений порядка, столь частых в школах, где порядок насильственно вынуждается, — тоже не имело места. И все-таки можно ли сказать, что дети Толстого были свободны, что яснополянская школа, державшаяся энтузиазмом Толстого, продолжала бы существовать в своем прежнем виде даже после того, как Толстой, разочаровавшись в своей педагогической деятельности, ушел из нее, что неизбежный в жизни механизм привычки и обычая не привел бы к установлению и в ней, быть может, неписанных, по от того не менее обязательных к исполнению порядков? На этот вопрос поможет нам дать ответ следующий, описанный Толстым в его хронике, случай из жизни Яснополянской школы.
«Летом во время перестройки дома, из физического кабинета пропала лейденская банка, несколько раз пропадали карандаши и пропали книжки уже в то время, когда ни плотников ни маляров не работало в доме. Мы спросили мальчиков, лучшие ученики, первые школьники по времени, старые друзья наши покраснели и заробели так, что всякий, следовательно, подумал бы, что замешательство это есть верное доказательство их вины. Но я знал их и мог ручаться за них, как за себя. Я понял, что одна мысль подозрения глубоко и больно оскорбила их: мальчик, которого я назову Федором, даровитая и нежная натура, весь бледный, дрожал и плакал. Они обещались сказать, ежели узнают, но искать отказались. Через несколько дней открылся вор — дворовый мальчишка из дальней деревни. Он увлек за собой крестьянского мальчика, приехавшего с ним из той же деревни, и они вместе прятали краденые вещи в сундучок. Открытие это произвело странное чувство в товарищах: как будто облегчение, даже радость, и вместе с тем презрение и сожаление к вору. Мы предложили им самим назначить наказание: одни требовали высечь вора, но непременно самим; другие говорили: ярлык пришить с надписью вор. Это наказание, к стыду нашему, было употребляемо нами прежде, и именно тот самый мальчик, который год тому назад сам носил ярлык с надписью лгун, настоятельнее всех требовал теперь ярлыка на вора. Мы согласились на ярлык, и когда девочка нашивала ярлык, все ученики со злою радостью смотрели и подтрунивали над наказанными. Они требовали еще усиления наказания: «провести их по деревне, оставить их до праздника с ярлыками», говорили они. Наказанные плакали. Крестьянский мальчик, увлеченный товарищами, даровитый рассказчик и шутник, толстенький белый карапузик, плакал просто распущенно, во всю ребячью мочь; другой, главный преступник, горбоносый, с сухими чертами умного лица был бледен, зубы у него тряслись, глаза дико и злобно смотрели на радующихся товарищей, и изредка неестественно у него вплач искривлялось лицо. Фуражка с разорванным козырьком была надета на самый затылок, волосы растрепаны, платье испачкано мелом. Все это меня и всех поразило теперь так, как будто мы в первый раз это видели. Недоброжелательное внимание всех было устремлено на него. И он это больно чувствовал. Когда он, не оглядываясь, опустив голову, какою-то особенною преступною походкой, как мне показалось, пошел домой, и ребята, толпой бежа за ним, дразнили его как-то ненатурально и странно жестоко, как будто против их воли злой дух руководил ими, что-то мне говорило, что это нехорошо. Но дело осталось, как было, и вор проходил с ярлыком целые сутки. С этого времени он стал, как мне показалось, хуже учиться, и уже его не видно бывало в играх и разговорах с товарищами вне класса…
Раз я пришел в класс, все школьники с каким-то ужасом объявили мне, что мальчик этот опять украл. Из комнаты учителя он утащил 20 коп. медных денег, и его застали, когда он их прятал под лестницей. Мы опять навесили ему ярлык, — опять началась та же уродливая сцена. Я стал увещевать его, как увещевают все воспитатели; бывший при этом уже взрослый мальчик, говорун, стал увещевать его тоже, повторяя слова, вероятно, слышанные им от отца дворника. «Раз украл, другой раз украл, говорил он складно и степенно, привычку возьмет, до добра не доведет». Мне начинало становиться досадно, я чувствовал почти злобу на вора. Я взглянул в лицо наказанного, еще более бледное, страдающее и жестокое, вспомнил почему-то колодников, и мне так вдруг стало совестно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык, велел ему идти, куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а всем существом убедился, что я не имею права мучить этого несчастного ребенка, и что я не могу сделать из него то, что бы мне и дворникову сыну хотелось из него сделать»27.
Не показывает ли этот случай в описании Толстого, что дети Яснополянской школы не были свободны? Им предоставлено было самим, по-своему, отнестись к обнаружившемуся факту, но они отнеслись к нему по-чужому, вспомнив отношение к нему учителей и отца-дворника и подражая тому, что они видели, в результате чего обставленный все-таки некоторыми гарантиями суд учителя выродился в беспорядочный суд толпы. Могут возразить, что виноваты в этом были оставшиеся привычки старой школы с ее наказаниями, от которых не могли сразу освободиться учителя, и привычки семьи, подавшие детям дурной пример. Но весь вопрос именно в том и состоит: могут ли дети быть свободны от влияния старших, — все равно в школе или семье? Разве влияние учителей, влияние отца-дворника, влияние окружающих старших детей, — все это не виды принуждения, иногда гораздо более сильные, чем принуждение школьной дисциплины? Ошибка Толстого, как и всякого анархизма вообще, в слишком узком понимании принуждения: принуждение гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. То организованное принуждение, которое известно под именем «дисциплины» и которое думал отменить Толстой, есть часть принуждения вообще, проявляющегося в тысяче воздействий и впечатлений, обступающих ребенка, от которых не властен освободить его никто, кроме него самого. Отмена организованного принуждения только усиливает и делает более явным принуждение неорганизованное, которое, с гораздо большей настойчивостью обступая ребенка, еще более способно лишить его собственной воли, чем сознаваемое в своей внешней навязанности явное принуждение «дисциплины». Сам Толстой не мог не заметить этого. «Несмотря на частые повторения ребятам, — признается он, — что они могут уходить всегда, когда им хочется, влияние учителя так сильно, что я боялся последнее время, как бы дисциплина классов, расписаний и отметок, незаметно для них, не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста»28. И потому именно Толстой радовался в душе тем непредвиденным уходам с уроков, о которых мы говорили выше. Не пришлось ли бы со временем подстраивать такие уходы (вслед за Руссо), дабы дети ч у в с т в о в а л и себя свободными? Не подменяется ли и здесь свобода с о з н а в а н и е м своей свободы? Не сводится ли отмена школьного принуждения к замене одного принуждения другим, еще более сильным, если под свободой понимать самобытность лица, а не произвол действования? Ясно, что развитое Толстым понятие образования оказалось неприложимым к его детям. Да и как могло быть иначе? Ведь оно есть свободное взаимоотношение равных между собою людей. А разве неустойчивый, колеблющийся, отзывающийся на всякое влияние темперамент ребенка не готов слепо п о д ч и н и т ь с я сложившемуся характеру учителя и сложившимся нравам среды? Отменить принуждение над ребенком возможно не путем простого его упразднения, всегда по необходимости частного, а путем воспитания в ребенке внутренней силы личности и свободы, которая могла бы сопротивляться всякому принуждению, откуда бы оно ни шло. Таким образом и у Толстого, мы видим, прекрасный замысел привел к противоположному результату: свобода обратилась в произвол, в подражание старшим, во власть неорганизованного принуждения. А «жизненность» школы — в такую власть окружающей среды (влияние отца-дворника), которая заставила Толстого призадуматься над мерами сокрытого от учеников воздействия на них, могущего поднять их над влиянием «жизни».
Толстой сам впоследствии почувствовал эту свою ошибку. «В высших сферах литературной деятельности, — пишет он в «Исповеди»,— я понял, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собою скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же с крестьянскими детьми я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я нечему не могу учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, кто нужно… Я так измучился от того особенно, что запутался,… так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно мне стало мое виляние в журнале, состоявшее все в одном и том же — в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, — что я заболел более духовно, чем физически, бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью»29.
4
Откуда же это противоречие между замыслом и результатом, совершенно аналогичное тому, которое мы усмотрели в педагогике Руссо? Очевидно, общей судьбе соответствует общий грех. И грех этот коренится, очевидно, в исходном пункте, в том понимании свободы и принуждения, от которого отправлялись Руссо и Толстой: результаты их педагогики только проявили внутреннее противоречие, заложенное уже в самом замысле.
Мы уже указывали выше, что Руссо и Толстой одинаково понимали свободу и принуждение как факты воспитания. Ребенок у ж е свободен, свободен от природы, его свобода есть готовый факт, только заглушённый другим таким же фактом произвольного человеческого принуждения. Достаточно упразднить это последнее, и свобода воспрянет, воссияет своим собственным светом. Отсюда — отрицательное понятие свободы как отсутствия принуждения: упразднение принуждения означает торжество свободы. Отсюда самая альтернатива: свобода и принуждение действительно исключают друг друга, не могут существовать вместе.
С другой стороны, принуждение также понималось обоими нашими мыслителями слишком узко и внешне. Принуждение, которое имеет место в «положительных воспитаниях» и в школьной дисциплине, есть на деле только часть того широкого принуждения, которое охватывает неустойчивый и готовый повиноваться среде темперамент ребенка плотным кольцом обступающих его влияний. Поэтому принуждение, подлинный корень которого следует искать не вне ребенка, а в нем самом, может быть уничтожено опять-таки только путем воспитания в человеке внутренней силы, могущей противостоять всякому принуждению, а не путем простой отмены принуждения, по необходимости всегда частичной.
Именно потому, что принуждение может быть действительно отменено только самой постепенно растущей личностью человека, свобода есть не факт, а цель, не данность, в задание воспитания. А если так, то падает самая альтернатива свободного или принудительного воспитания, и свобода и принуждение оказываются не противоположными, а взаимно проникающими друг друга началами. Воспитание не может не быть принудительным — в силу той неотемлимости принуждения, о которой мы говорили выше. Принуждение есть факт жизни, созданный не людьми, а природой человека, рождающегося не свободным, вопреки слову Руссо, а рабом принуждения. Человек рождается рабом окружающей его действительности, и освобождение от власти бытия есть только задание жизни и, в частности, образования.
Если, таким образом, мы признаем принуждение как факт образования, то не потому, что хотим принуждения или считаем невозможным обойтись без него, но потому, что мы хотим уничтожить его во всех его видах а не только в тех частных его формах, которые мнили упразднить Руссо и Толстой. Даже если бы Эмиля удалось изолировать не только от культуры, но и от самого Жан Жака, он был бы не свободным человеком, а рабом окружающей его природы. Именно потому, что мы шире понимаем принуждение, видим его там, где его не видели Руссо и Толстой, мы исходим из него, как из неизбежного факта, не окружающими людьми созданного и не ими же могущего быть отмененным. Мы более враги принуждения, чем Руссо и Толстой, и потому именно мы исходим из принуждения, уничтожить которое должна сама личность человека, воспитываемого к свободе Пронизать принуждение, этот неизбежный факт воспитания, свободой как его существенной целью — вот подлинная задача воспитания. Свобода как з а д а н и е не исключает, а предполагает ф а к т принуждения. Именно потому, что уничтожение принуждения есть существенная цель образования, принуждение и является исходным пунктом образовательного процесса. Показать, как каждый акт принуждения может и должен быть пронизан свободою, в которой только принуждение и обретает свой подлинный педагогический смысл, — и составит предмет дальнейшего изложения.
Что же, мы, значит, стоим за «принудительное воспитание»? Значит, критика «положительного», преждевременного воспитания и насилующей личность ребенка школы тщетна, и нам нечему научиться у Руссо и Толстого? Конечно, нет. Идеал свободного воспитания в своей критической части неувядаем, им обновлялась и будет вечно обновляться педагогическая мысль, и мы начали с изложения этого идеала не ради критики, которая всегда легка, а потому что. мы убеждены, что через этот идеал надо пройти. Педагог, который не пережил очарования этого идеала, который, не продумав его до конца, заранее, по-стариковски, уже знает все его недостатки, не есть подлинный педагог. После Руссо и Толстого уже нельзя стоять за принудительное воспитание и нельзя не видеть всей лжи принуждения, оторванного от свободы. Принудительное по природной необходимости, образование должно быть свободным по осуществляемому в нем заданию.
Литература вопроса. 1. Р у с с о. Эмиль, особенно книги I, II и III. Кроме того изложение своих педагогических взглядов Руссо дает в «Новой Элоизе»., особ. ч. V, письмо III, и в ответном письме архиепископу де-Бомону.
2. Л. Т о л с т о й: IV том «Собрания Сочинений», особенно статьи «О народном образовании, ст. 1-я», «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования» «О народном образовании, ст. 2-я», и «Яснополянская школа». Излагая педагогические взгляды Толстого, мы имеем в виду единственно интересный с точки зрения идеала свободного воспитания так называемый «первый период» педагогической деятельности Толстого, куда относим как шестидесятые, так и семидесятые годы, между которыми проводить грань не с биографической, а с систематической точки зрения нет оснований. О Толстом как педагоге см. у К а п т е р е в а. История русской педагогики, гл. XXV — XXVII. Там же см. литературу вопроса.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА I
- Emile И, 399, 439, 544.
- Lettre a d'Alemberl, III, 113 — 177. Срв. также замечательное описание и критику оперы в «Новой Элоизе» ч. II, письмо 23, и театра, там же, письмо 17. — Об искусственности и схоластицизме науки: «Если ученые имеют меньше предрассудков, чем другие люди, то зато они держатся еще более Цепко за те, которые имеют» (Исповедь, I, 146). Срв. Les reveries, I, 410. Новая Эпоиза I, XII: «Наука, у большинства тех, которые ее культивируют, есть монета для широкого потребления». Об искусственности положительного закона см. «О неравенстве». — О положительной религии — «Исповедание веры савойского викария», Эмиль, VI кн. Например, «частные догмы… делают человека гордым, нетерпимым, жестоким; вместо того, чтобы установить мир на земле, они вносят в нее железо и огонь. Я спрашиваю, для чего все это, не зная что отвечать. Я не вижу в этом ничего, кроме преступлений людей и несчастий человеческого рода» (II, 587 — 588. Срв). «О неравенстве» I, 563.
- О том, что чувства не обманывают, Эмиль, II, 522. В частности, о чувстве совести: «Совесть, совесть!» инстинкт божественный, бессмертный и небесный голос, верный вожатый невежественного и ограниченного, но рассуждающего и свободного существа; судья непогрешимый добра и зла… Без тебя я не чувствую в себе ничего, что подымало бы меня над животными, кроме печальной привилегии блуждать от ошибки к ошибке с помощью рассудка без правила и разума без принципа» (Эмиль, II, 584). Чувства выше рассудка — «О неравенстве», I, 534. Как представитель иррационализма Руссо хорошо изложен в русской литературе в известной книге В. А. Кожевникова, Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII в. и к критической философии. 1897.
- «О неравенстве». Срв. I, 550: «Каждый должен видеть, что, так как узы рабства образуются лишь в силу взаимной зависимости людей и их обоюдных потребностей, объединяющих их друг с другом, нельзя поработить человека, не поставивши его предварительно в состояние невозможности обойтись без другого. А так как такого положения не существует в природном состоянии, то каждый остается в нем свободным от ярма рабства, что делает безвредным закон более сильного». I, 555: «Одним словом, поскольку люди занимались работами, которые мог делать один, и искусствами, которые не нуждались в сотрудничестве многих, они жили свободными, здоровыми, добрыми и счастливыми, поскольку могли быть таковыми в силу своей природы; но с того момента, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как он заметил, что полезно одному иметь запасов на двоих, равенство исчезло, была введена собственность, труд стал необходимым…» Срв. также I, 556;11, 508 513.
- Отрицание разделения труда, в основе которого лежит стремление к идеалу всесторонне развитой и постольку самобытной личности, составляет одну из основных мыслей Кропоткина, который в своих обосновывающих анархизм трудах (на русском языке см. «Земледелие, промышленность и ремесла», 1903) прослеживает намечающуюся, по его мнению, в современном экономическом развитии тенденцию к интеграции производства в отдельных предприятиях, все более сочетающих внутри себя разнообразные отрасли производства, разделенные ранее между различными предприятиями. Неправильный обмен услугами, основанный на собственности и стремлении каждого захватить возможно более благ, дабы обеспечить себе услуги других, составляет и для Прудона основное зло современного общества. Установление справедливого обмена услугами, так, чтобы разделение труда не вело к подчинению одного другому, — вот задача того общественного строя, который Прудон называет порядком «взаимности». В тесной связи с анархизмом, противопоставляющим основанному на разделении труда обществу идеал целостной и самобытной личности, стоит интуитивизм Руссо, противопоставляющий всегда частичному, разделяющему, только отдельные стороны жизни схватывающему рассудку целостное, на нераздельном постижении в частном всего основанное чувство. Можно было бы вообще показать глубокую философскую связь между интуитивизмом в гносеологии и анархизмом в этике. — Л. Толстой излагает свое учение о разделении труда как основном пороке современного общества, в «Так что же нам делать?» (Собр. Соч. т. 12, стр 169).
- Об академиках срав. «Исповедь», 1,146 сл. О науке и ученых — Эмиль, II, 501, 522 («в Академии наук больше заблуждений, чем в целом народе Гуронов»). — О культуре, как господстве рутины и привычки «Нов. Элоиза», ч. II, письмо XVII, Эмиль I, 490. — Срв. Л. Толстой «Что такое искусство», заключение (Т. XVI).
- Что такое искусство? Гл. XIV (стр. 112, т. XVI).
- Эмиль II, 401; II, 429.
- «О неравенстве», I, 536. Эмиль, II, 404. — Об угождении ученых публике см. «Les reveries du promeneur solitaire», 3 promenade, I, 410; Новая Элоиза, 1 часть, письмо XII («Отнимите у ученых удовольствие быть выслушиваемыми, знание перестанет иметь для них всякое значение», II, 26). — О публике: «она думает о том, что видит, только для того, чтобы знать, что об этом скажут», Нов. Эл. II, письмо XVII (II, 126). Срв. Толстого «Что такое искусство», гл. 12 (т. 16, стр. 108).
- Новая Элоиза, ч. II, письмо 17 (II, 124). Там же стр. 125.
- Общественный Договор, глава I (I, 639). — Эмиль, 1-я книга.
- Эмиль, II, 403; II, 440. Срв. Письмо к архиеп. Бомону, II, 761.
- Смотри ниже, глава 3, § 6.
- Передавая эти мысли Руссо, изложенные им в конце первой и начале второй книги, мы намеренно несколько утрировали ( но в духе Руссо) его рассуждения. Впрочем, вот его подлинные слова: «Дети, которых слишком торопят говорить, не имеют времени ни научиться хорошему произношению (у них вырабатывается, говорит Руссо несколько выше, «безличное произношение»), ни хорошо понимать то, что их заставляют говорить… Сузьте поэтому возможно больше словарь ребенка. Это громадный недостаток — иметь слов больше, чем идей, уметь говорить о вещах больше, чем о них думать». (II, 427).
- Об обучении грамоте — II, 457; о детской литературе и чтении — II, 455; о нравственном обучении — конец 2-й книги.
- Эмиль, II, 464, 458.
- II, 464. И далее (стр. 523): «Дело не в том, чтобы научить какой- нибудь истине, а в том, чтобы показать, как надлежит приступать к тому, чтобы открывать всегда истину».
- «Но заметьте, прежде всего, что, если мы хотим образовать естественного человека, это не значит, что мы хотим сделать из него дикаря и поместить его в глубь лесов; достаточно, чтобы, охваченный социальным вихрем, он не позволял увлечь себя страстям и мнениям людей; чтобы он видел своими глазами, чувствовал своим сердцем; чтобы никакой авторитет не управлял им, кроме его собственного разума». (II, 558, срв. также II, 523)
- Срв. также характерный рассказ о развитии самим Эмилем своего чувства осязания (II, 472). О приучении к нормальному сну (II, 467). Об обучении чтению (II, 458). О методе, затрудняющем обучение (501). Урок космографии (II, 496). Урок магнитизма (II, 498). По поводу П9следнего Руссо, отвечая на критику некоего Формея, говорит: «Остроумный г. Формей не мог предположить, что эта маленькая сцена была подстроена, и что с фокусником было уговорено относительно роли, которую он должен был играть». — О Софье и Эмиле срв. напр.: «Уже давно София найдена; быть может Эмиль уже ее видел; но он ее узнает, лишь когда наступит время» (II, 668).
- II, 437.
- II, 460.
- Недаром та «чудесная книга», которая долго должна будет быть единственной книгой для чтения Эмиля, есть Робинзон Крузо. «Я хочу, чтобы Эмиль думал сам быть Робинзоном» (II 507). — При всем том не мешает лишний раз подчеркнуть, что сам Руссо не ошибался насчет фиктивности своего «естественного состояния», которому он никогда не приписывал значения факта, реально предшествовавшего культурному состоянию. См. прим. 18. Смотри уже в «Рассуждении о неравенстве» (I, 551): «при наличии двух фактов, данных как реальные, которые должны быть связаны между собой серией промежуточных фактов, неизвестных или рассматриваемых как таковые, — дело истории, когда ее имеешь, дать факты, их связывающие; дело философии, за ее отсутствием, определить подобные факты, могущие их связывать». Обществ, договор (Кн. I, гл. II, 639): «Как это изменение (превращение свободного человека в раба, т. е. переход от природы к культуре) произошло? Я не знаю. Что может сделать его законным? Я думаю, что смогу разрешить этот вопрос».
- Статья 1-я «О народном образовании». Собр. соч. Т. IV, стр. 25 сл., 26 - 27.
- Срв. Эмиль, II 418.
- Статья «Воспитание и образование». IV, стр. 86, 87 — 88. 109 — 110.
- «Яснополянская школа», Т. IV, стр. 169 сл., 179 сл.
- Там же, стр. 175 сл.
- Там же, стр. 180.
- Собр. Соч., Т. XI, стр. 12 сл.
Глава II. ДИСЦИПЛИНА, СВОБОДА, ЛИЧНОСТЬ. ЦЕЛЬ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принудительное по необходимости образование должно быть свободным по цели. Принуждение и свобода не исключают, взаимно проникают друг друга. Каждый образовательный акт, по необходимости принудительный, осуществляет свободу, которая должна быть присущей ему, оживляющей его задачей. Вот выводы, к которым пришли мы в результате анализа идеала свободного образования. Теперь нам надлежит анализом понятий принуждения и свободы обнаружить внутреннее единство обоих. Тем самым мы придем к установлению задачи нравственного образования.
1
Мы начнем с рассмотрения принуждения, или, как его называют в педагогике, дисциплины. Дисциплина есть организованное принуждение, организованное не только в том смысле, что она сама есть нечто упорядоченное, но и упорядочивающее, имеющее своей целью организацию. Это есть, можем мы сказать, согласование усилий для получения с имеющимися в наличности средствами максимального эффекта. Понятие дисциплины поэтому тесно связано с понятием работы и труда. Производительность труда необходимо требует дисциплины: чтобы жить и побеждать в жизни, мы принуждены быть дисциплинированными. Это одинаково относится как к отдельному человеку, так и к обществу в целом. Дисциплинированный человек — это тот, который умеет согласовать усилия своих физических органов и душевных способностей так, что в результате его работы получается максимальный эффект. Дисциплинированное общество — это то, в котором усилия отдельных его членов согласуются так, что, несмотря на меньшую наличность живой силы и природных данных, эффект общественного труда несоизмеримо превышает производительность общества, гораздо более богатого природными данными, но менее дисциплинированного. Будучи согласованием усилий, дисциплина естественно предполагает власть. Дисциплинированный человек владеет сам собой. Дисциплинированное общество есть общество с сильной, сосредоточенной властью.
По-видимому дисциплина, основанная на власти, противоположна свободе. Так ли это на самом деле? Чтобы подойти ближе к решению этот вопроса, попробуем противопоставить дисциплину тому искажению ее, которое мы называем дрессировкой. Чем дисциплина отличается от дрессировки? Дрессировка, можем мы сказать, обращается к животным, за которыми мы не признаем личности, т. е. собственной воли и разума. В этом смысле объектом ее служат вещи (хотя бы и одушевленные), а не лица. Напротив, дисциплина обращается к людям, за которыми признаются свои поля и разум, т. е. к лицам. Отсюда вытекает прежде всего механический характер дрессировки: обращаясь к вещам, у которых не предполагаются самостоятельные воля и разум, дрессировка ограничивается поневоле вымоганием простых поступков, повторяющих себя с постоянным и утомительным однообразием и не дающих простора для самостоятельного, по собственному почину выполняемого действия. Она действует через посредство физической силы и страха. Дисциплина, напротив, обращается к собственным воле и разуму подвластных: она требует действий, не предусмотренных в своем мелочном однообразии. Постольку она оставляет место для личной инициативы подвластных. Она ограничивается указанием подлежащей выполнению задачи, предоставляя выбор средств и путей самостоятельному суждению дисциплинируемого. Постольку она предполагает ответственность исполнителей, чего нет в дрессировке, требующей от своего объекта всегда однообразного и заранее определенного ответа на полученное приказание. А это значит далее, что в дисциплине подвластный, несмотря на свое подчиненное положение, остается все же равным носителю власти: проявляя почин и будучи наделен ответственностью, он отличается от последнего только более ограниченным кругом предоставленной ему сферы действия, соответственно меньшей степенью ответственности, но принципиально остается таким же лицом, как и «начальствующий». С другой стороны, этот последний связан, как и подчиненный, общей задачей той работы, ради которой установлена дисциплина, он ответствен за свои приказания также и перед дисциплинируемым. В дрессировке, напротив, нет равенства между властью и объектом власти: объект в ней только средство в руках дрессирующего, не имеющее самостоятельной ценности орудие для осуществления его односторонних желаний, — безличная вещь, принципиально не равная властвующему лицу. В дисциплине есть высшая цель, которой служат равно и власть и подвластные. Дрессировка есть слепое повиновение вещи своему господину. Между подчиняющимся животным и властвующим над ним человеком лежит непроходимая грань, невозможность какого бы то ни было между ними соглашения.
Но если так, то доказано, что дисциплина отличается от дрессировки через присущую ей свободу. Ибо что же такое, как не проявления свободы — самостоятельный почин, ответственность, равенство в отношении к высшей цели, служащей основой власти, личное достоинство подвластного?
Правильность нашего определения дисциплины обнаружится с особенной наглядностью, если мы попытаемся помыслить дисциплину лишенной свободы. В самом деле, что получается тогда, когда дрессировка направляется не на одушевленные вещи — животных, но на людей? Такое вырождение дисциплины в дрессировку мы имеет тогда, когда власть, являющаяся первоначально только условием дисциплины, из средства становится самоцелью. Желая обеспечить себе безусловное повиновение, власть полагает, что препятствиями к нему являются собственные воля и разум подчиненных, всегда могущие восстать против ее приказаний. Отсюда великий соблазн всякой власти — игнорировать личность дисциплинируемых, обращаться с ними так, как будто бы они были простыми орудиями, не имеющими своей воли и разумения вещами. В самом деле, если дисциплина не мыслима без власти, а повиновение власти не обеспечено безусловно до тех пор, пока у подвластных имеются еще с в о и взгляды и с в о и стремления, не правильнее ли отнять у них волю и разум и сделать тем самым невозможным всякое сопротивление велениям власти? Так думают многие, забывая, что человек бессилен отнять у другого человека его разум и волю. Если бы удалось кому-нибудь уничтожить в человеке его личность, превратить человека в вещь, то дрессировка могла бы, пожалуй, действовать и по отношению к людям с правильностью хорошо функционирующей машины. Но в том то и дело, что человек не властен уничтожить личность другого человека. Игнорируя ее, он может только унизить эту личность, обращаться с другими людьми так, как будто бы у них не было своих воли и разума, но не так, чтобы у них не было их на деле. В этом и состоит внутреннее противоречие выродившейся в дрессировку дисциплины, основание ожидающей ее рано или поздно гибели. Действительно, дисциплина, понятая как слепое повиновение, будучи не в силах уничтожить личность человека, развращает ее, сея недоверие и раздор между властью и подвластными. Дисциплинируемые подчиняются власти только из страха, а на деле пользуются всяческой возможностью пренебречь или обойти веления власти. Общий интерес, которому служит дисциплина, забывается, уступает место частному, эгоистическому интересу. Отказывая подчиненным в инициативе, искаженная дисциплина по необходимости вынуждена ограничиваться вымоганием механических, однообразных и неизменных, машиноподобных действий. Но разум и воля человека всегда будут противиться превращению человека в машину. Видимо, исполняя веления дисциплины, человек будет душой далек от дела. Вместо согласованности усилий всех получается разброд действий. Не восполнять друг друга будут отдельные усилия, но повторяться и нагромождаться одно на другое. Установленные внизу безответственность и механическая видимость действия продолжаются, естественно, в верху в виде безответственности и бездействия власти, использования власти не в интересах того дела, которому должна была бы служить дисциплина, а в личных целях властвующего. Из единого целого общество при таких условиях превращается в людскую пыль, которую легко развеет первая же сильная буря. Вместо организованного сотрудничества усилий, ради которого существует дисциплина, получается чисто внешними узами сохраняемая механическая рядоположность разрозненных поступков. Так лишенная свободы дисциплина разрушает себя самое.
Более того: не только дисциплина разрушается, оторвавшись от свободы и опустившись на ступень дрессировки. Настоящая дрессировка, как то знает всякий охотник и наездник, должна, чтобы достичь цели, подняться до ступени дисциплины и впитать в себя дыхание свободы. Чувство страха в настоящей дрессировке тоже должно быть заменено чувством справедливости, и отношение господина к вещи — отношением равенства в преследовании общей цели. Вспомните хотя бы замечательное описание в «Анне Карениной» скачки Вронского и случившегося с ним несчастья. Первоначальным своим успехом в скачке Вронский был обязан тому, что предоставлял своей лошади свободу действия, самостоятельный выбор средств в достижении цели. Он со своей лошадью составлял одно целое: Фру-Фру понимала малейшее приказание, даже намек Вронского, а он, относясь к лошади как к товарищу в свою очередь отвечал каждому ее движению. Все несчастья Вронского, гибель Фру-Фру случились именно потому, что, взволнованный событиями дня, Вронский в внезапной рассеянности не ответил движению лошади и сломал ей спину. Чтобы лошадь шла под наездником не как вьючное животное, наездник должен уметь пробудить в лошади ее лучшие стороны и простую власть над животным возвысить до товарищеского с ним сотрудничества1.
2
Анализ понятия дисциплины как организованного принуждения привел пас к познанию се внутренней связи со свободой. Дисциплина возможна через нечто иное, чем она сама — через свободу как высшее просвечивающее в ней начало. Не так же ли обстоит дело и со свободой? И у свободы есть своя личина — имя ей произвол. Попробуем же путем отграничения свободы от произвола уяснить себе понятие свободы. Мы увидим, что, подобно тому как, сжав понятие дисциплины, мы получили свободу, и углубление в понятие свободы приведет нас к иному, чем свобода — к дисциплине.
Под свободой очень часто понимают простое отрицание необходимости и всего того, что характерно для причинно обусловленных фактов. Если для последних существенно то, что они имеют причину, из которой они необходимо вытекают, и постольку могут быть заранее предвидены, то существо свободных поступков видят в том, что они не определены никакой причиной и, следовательно, совершенно непредвидены. С этой точки зрения я свободен постольку, поскольку во всякий момент могу поступить, как мне заблагорассудится, совершенно случайно, совершенно без всяких причин, без всяких оснований поступить так, а не иначе. Именно в этой полной неопределенности, произвольности и случайности действия, совершенной его непредвидимости видит существо свободы так называемое учение индетерминизма. Свобода понимается им прежде всего как возможность произвольного выбора. Так ли это на самом деле? Не подменяется ли в этом обычном воззрении, философским выражением которого и является в сущности индетерминизм, свобода своей искаженной личиной — произволом? Ведь если бы это чисто отрицательное понятие свободы было правильно, то нам пришлось бы поистине самыми свободными людьми признать детей и душевнобольных, поступки которых именно и отличаются полной случайностью, неустойчивостью, непредвидимостью. Нам пришлось бы допустить, что свободные действия вызывают в окружающих не чувство уважения и уверенности в человеке, а чувства страха и опасности. Подобно тому, как мы боимся случайности или испытываем ужас перед лицом неведомой нам и непредвидимой в своих действиях силы природы, точно так же мы боимся за детей и чувствуем страх перед безумными, случайные и произвольные поступки которых мы не в состоянии предвидеть с тем, чтобы заранее себя от них оградить. Случай как таковой для нас невыносим. Ибо, в самом деле, что может быть ужаснее силы, действующей без всякого основания, бессмысленно и беспричинно? Мы все сплошь и рядом действуем произвольно, но если только мы не философствуем, стараясь во что бы то ни стало оправдать нашу предвзятую теоретическую точку зрения, мы все прекрасно чувствуем резкую грань между произвольными поступками и нашими свободными действиями.
Почему же мы не может предвидеть поступков детей, безумных и наших собственных произвольных поступков? Только потому, что мы не можем предвидеть всех тех сложных множественных обстоятельств, которые окружают всех нас и особенно тех из нас, которые готовы следовать воздействию этих внешних впечатлений. Если бы мы могли предвидеть все впечатления, которые будут влиять на ребенка и тем самым определять его поступки, то тогда мы несомненно могли бы также и предвидеть все его поступки. Произвольно действующий, он определяется в своих поступках внешней средой. Он по преимуществу пассивен, следует тому впечатлению, которое в данный момент наиболее его поразило. Про произвольно действующего человека невозможно сказать, что он будет делать завтра: сегодня он высказывал одно мнение, завтра будет защищать другое, сегодня верил в одно, завтра — в противоположное, в зависимости от того, какое внешнее впечатление пересилило в данный момент другие. Но если произвольные поступки суть прежде всего пассивные поступки, определяемые внешней средой, то ясно, что в них тщетно искать свободы. Иначе свобода оказывается не столько способностью произвольного выбора между несколькими возможностями (как ее определяет индетерминизм), сколько невозможностью предвидеть все воздействия внешней среды, объясняемой бессилием нашего ума. Подобно всякому случаю, и свобода как произвол есть лишь плод ограниченности нашего знания, не могущего предусмотреть всех внешних влияний и произвести расчет их относительной силы. Для всемогущего разума, напротив, не было бы свободных поступков, ибо, будучи в состоянии рассчитать все будущие воздействия среды на человека, он не затруднился бы с точностью предсказать и все его поступки. Свобода, понятая как произвол, есть в сущности иллюзия нашего незнания, не существующая для всемогущего рассудка. Так неизбежно индетерминистическое, чисто отрицательное понимание свободы, как случая или произвола, приводит к отрицанию свободы, или к детерминизму2.
Если произвольные поступки характеризуются неустойчивостью, пассивной зависимостью от внешнего мира и постольку случайностью и непредвидимостью, то свободные действия в подлинном смысле этого слова отличаются, напротив, устойчивостью, самобытностью по отношению к изменчивым влияниям среды и даже отчасти возможностью предвидения. Именно про свободного человека я могу сказать, что он не сделает того-то и того-то, не подчинится тому-то, не согласится с тем-то. Постольку, правда, предвидение свободных действий есть как бы отрицательное предвидение: мы знаем, чего не сделает свободный человек, но с такой же уверенностью предвидеть, что именно он сделает, мы не можем. Почему это так? Ответ на этот вопрос подведет нас вплотную к самому существу понятия свободы. Я не могу сказать про свободного человека, как именно он поступит, потому, что свободный человек поступает так, как до него никто не поступал, действует совершенно по-новому, так, как до него никто не действовал и как только он единственно может поступить. Если произвольные поступки непредвидемы от неожиданности внешних впечатлений, которыми они пассивно следуют, то свободные действия, напротив, непредвидемы в силу своей безусловной новизны, своего активного своеобразия. Свобода есть творчество нового, в мире дотоле несуществовавшего. Я свободен тогда, когда какую-нибудь трудную жизненную задачу, передо мной вставшую, разрешаю по-своему, так, как ее никто иной не смог бы разрешить. И чем более незаменим, индивидуален мой поступок, тем более он свободен. Поэтому свобода не есть произвольный выбор между несколькими уже д а н н ы м и в готовом виде, хотя и возможными только путями, но с о з д а н и е нового особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода. Как всякий продукт творчества, свободное действие может стать образцом для подражания другим, не свободным, людям, но оно само не есть повторение какого-то чужого образца и не есть постольку выбор между несколькими данными образцами.
Если существо свободного действия состоит в том, что, будучи творчеством нового, оно незаменимо на своем месте, то значит, в отличие от произвольных поступков, свободные действия носят устойчивый характер, кроют в себе некоторую внутреннюю последовательность и неуклонность. Свободное действие примыкает к предыдущему не случайно, а в силу глубокой внутренней последовательности: оно продолжает предыдущее действие человека, которое не исчезает бесследно, а как бы сохраняется в нем. Произвольные поступки, пассивно отражая влияния внешней среды и примыкая друг к другу чисто механически, могут быть уподоблены ломаной линии, капризно и неожиданно меняющей свое направление. Наоборот, свободные действия могут быть уподоблены кривой, следующей в своем движении определенному, ей присущему внутреннему закону. Каждая точка такой кривой примыкает к предыдущей не случайно, а продолжает движение предыдущей и в свою очередь как бы продолжается в последующей3. Эта кривая может быть более или менее сложной, может выражаться в более или менее простой алгебраической формуле. Точно как же и линия поведения свободно действующего человека может быть то элементарной, то сложной, но она всегда наличествует. Свободный человек имеет свою устойчивую линию поведения, которой он остается верен в течение всей жизни. Чем ближе мы знаем такого человека, тем скорее можем предугадать его свободное действие, хотя бы и часто только тем отрицательным образом (чего он не сделает), о котором мы говорили выше. Только вполне слившись с этим человеком, могли бы мы предвидеть в точности его свободное действие, вздымающееся перед ним как его долг верности самому себе. Конечно, фактически наши действия очень часто не соответствуют этой идеальной линии поведения, но образуют вокруг нее как бы пунктир, то более, то менее отдающий дань косной силе внешних влияний и постольку более или менее уклоняющийся от нее. Но это значит лишь, что свобода есть не столько факт нашей жизни, сколько встающий перед нами долг, задание, которое разрешить сполна мы, быть может, никогда не в состоянии, но к которому можем более или менее приближаться. Потому-то наши действия никогда не просто свободны, но всегда более или менее свободны, и они тем более свободны, чем более согласуются они с характеризующей нас линией нашей личности. Свобода имеет степени своей интенсивности, она не есть факт, нарушающий законы природы (это индетерминистическое понимание свободы, будучи чисто отрицательным, не способно отделить свободу от произвола), но оттенок нашего действия, поскольку последнее выражает собой устойчивость нашего поведения и созидает нашу личность. Как не предвидимы в своей ослепительной и образцовой новизне творения гения, так не предвидимы и всегда своеобразные действия свободного человека. Но удовлетворение, которое испытываем мы при зрелище свободного действия, объясняется именно тем, что мы чувствуем, что в нем и через него восторжествовал представший личности долг ее поведения, и что личность продолжила в нем отличающее ее движение ее жизненного пути.
А это значит, что свободные действия отличаются от произвольных поступков присущим им законом, своеобразным принуждением, дисциплиной. Выньте этот внутренний закон из свободного действия, и вы получите искаженную личину свободы — произвол. «Свобода есть подчинение закону, самим себе данному», провозгласил еще Руссо, учивший, что свобода есть подчинение «общей», или точнее «целостной» воле, т. е. голосу совести, следование которому позволяет человеку «не быть в противоречии с самим собой»4. Продолжая и углубляя эту мысль Руссо, Кант затем установил свое понятие свободы как автономии, или самозаконности, равно отличной как от беззаконного произвола, или аномии, так и от следования извне, другими предписанному закону, т. е. гетерономии (чужезаконности). «Свобода есть подчинение закону, который личность сама на себя возложила», — эту мысль Канта разрабатывали впоследствии его преемники Фихте, Шеллинг и Гегель, углубляясь в исследование закона личности, который и составляет положительное содержание свободы. С замечательной силой по- своему развивает в наше время аналогичное понятие свободы Бергсон, показывающий, как бессодержательно то чисто отрицательное понятие свободы, которое принижает свободу до произвола и лежит в основе всего спора индетерминизма — детерминизма, спора, давно уже изжитого в подлинной философии и по какому-то недоразумению вспыхивающего еще иногда на ее задворках2.
Если свободное действие это то, которое выражает и которым созидается наша личность, то очевидно, что среди массы наших каждодневных поступков свободных действий у нас сравнительно мало. Они тонут среди множества механических поступков, которые мы ежечасно совершаем. Мы одеваемся, едим, пьем, говорим, пишем, ходим и отдыхаем и совершаем тысячи других дел и поступков, из которых состоит наш то короткий, то длинный день, большей частью чисто механически. Мы все это делаем так, как другие делают это вокруг нас, или в лучшем случае повторяем ими то, что сами раньше так же делали. Такое преобладание механических поступков над свободными действиями вполне понятно и даже целесообразно, поскольку оно остается чисто количественным. Если бы каждое наше движение, каждый наш жест и каждое наше слово были свободными действиями, т. е. выражали наше я, вносили нечто повое и незаменимое в жизненный путь нашей личности, то темп пашей жизни чрезвычайно бы замедлился. Мы действовали и, значит, жили бы во много раз медленнее, чем мы живем сейчас. Вполне законно, что мы повторяем поступки других и наши собственные поступки, пользуясь ими как готовыми механизмами, что позволяет нам сосредоточивать нашу личность на творчестве все новых и новых действий и тем самым ускорять темп нашей жизни. Но это законно лишь до тех пор, пока мы совершаем эти хотя бы немногие свободные действия, ради которых только и существует вся та масса механических поступков, долженствующих быть орудиями свободных актов. Хорошо воспользоваться тем, что однажды было уже сделано, для создания нового. Но когда этого нового нет, тогда механические поступки, преобладавшие ранее только количественно, становятся господами положения и человек превращается в автомат, в раба рутины и привычки. Ибо каждое наше действие носит в себе силу косности, заставляющую его стремиться к своему собственному повторению. Мы называем эту силу привычкой. Это есть тот механизм, который стережет каждого из нас в каждой нашей мысли, слове и жесте. Поэтому также свободные действия, которыми личность наша идет далее всего, ею самой до сих пор созданного, являются редкими, но торжественными актами жизни, знаменующими победу нашего Я над им же порожденными механизмами.
Если, продолжая употребленное нами уже ранее сравнение, мы уподобим линию нашего поведения, для простоты, окружности, то можно сказать, что каждый наш поступок, тая в себе косную силу привычки, стремится пойти по прямой, уйти от нас по касательной к окружности. Часто такие поступки совсем отрываются от нас: следуя закону развиваемой ими центробежной силы инерции и воздействию других внешних сил, во власть которых они, оторвавшись от нас, подпадают, они ведут как бы свое самостоятельное, отдельное от нас существование. Мы называем такие поступки невменяемыми, совершенными под влиянием аффекта; они уже не выражают нашей личности, и личность поэтому не ответственна за них. Напротив, свободные действия отвлекаются центростремительной силой личности от направления по касательной, по которому стремится увлечь их присущая всем нашим поступкам центробежная сила косности. Центростремительная сила личности, непрерывно воздействуя на них, не отпускает их от себя, но заставляет их как бы вращаться вокруг нашего Я, следовать закону этого Я и тем самым выражать и создавать собой нашу личность, И чем менее отклоняется динамика действия от идеальной линии нашего Я, чем более оно выражает своим движением нашу личность, тем более торжествует оно над косными силами привычки и влияний среды, тем более оно свободно. Поэтому закон свободы выражает не столько факт, сколько долженствование: не «я свободен», а «будь свободен» — его более точная формула. Потому также «будь свободен» означает в сущности не что иное, как «будь самим собой», не изменяй своему внутреннему Я. Эту мысль имел в виду Руссо, когда говорил, что «общая воля» есть в сущности подлинная воля каждого из нас, торжествующая «в молчании страстей», т. е. не отклоняемая косными силами привычки и внешних воздействий, почему свобода, по его мнению, и означает «непротиворечие человека с самим собой». Эту же мысль выразил впоследствии с необычайной силой Фихте, в верности самому себе, своему жизненному пути видевший положительное существо свободы.
3
Тем самым мы силою вещей пришли к новому понятию, — понятию личности, или индивидуальности, которое нам теперь и надлежит в свою очередь подвергнуть более подробному рассмотрению. Мы будем при этом анализе идти уже испытанным нами путем отграничения истинной индивидуальности от тех искажений ее, которые, лишенные ее существа, сохраняют одну лишь ее внешнюю видимость.
Чтобы подойти ближе к искомому нами существу личности, мы должны прежде всего отграничить личность от того, что психологи называют темпераментом человека. Темперамент в широком смысле слова есть совокупность наследственных, от рождения полученных свойств: сюда относятся большая или меньшая восприимчивость к впечатлениям, быстрая или медленная реакция на них, как мы это имеем в традиционном учении о четырех темпераментах, тип восприятия и памяти (зрительный, слуховой, двигательный) и т. д. Темперамент — это дар природы и внешних условий существования, антропологических, климатических, географических и других, поскольку природа человека есть, в сущности, только часть природы вообще, с которой она неразрывно связана. Невиновный в своем темпераменте, которым наделяет его природа, человек не властен также его существенно изменить: тип и быстрота восприимчивости, скорость реакции на впечатления мало изменяются в течение всей его жизни. Совсем иное, однако, личность человека. Она есть дело рук самого человека, продукт его самовоспитания. Она непрерывно растет или вырождается в своих действиях, усложняется или беднеет качеством тех целей, которые он своей деятельностью разрешает. Постольку личность никогда не дана готовой, но всегда созидается, она есть не пассивная вещь, но творческий процесс: чтобы познать личность, надо подсмотреть ее в напряжении ее волевого устремления, в том, как она притаилась перед совершением свободного акта, перед самым тем моментом, когда этот акт готов от нее отделиться. Один и тот же темперамент, отданный волею судьбы и самого человека на служение разным целям и жизненным задачам, чеканится в различные по своему качеству и степени личности5. Справедливо мы называем поэтому личность также характером, что по-гречески означает «чекан», ибо мягкая и расплывчатая материя темперамента должна отчеканиться в резкую и откристаллизованную форму некоего определенного жизненного пути, дабы превратиться в личность человека.
Что же превращает темперамент в личность, отчеканивает ее в форму характера? Из сказанного уже ясно, что этим оформляющим началом в личности является действие человека, и притом не всякое действие, а действие непрерывное и устойчивое. В самом деле, если я сегодня осуществляю одно, а завтра совсем другое, если у меня нет определенного жизненного пути, но каждый раз я как бы начинаю жить сызнова, то нет и почвы для образования личности человека. Личность есть рост, а для роста необходимо сохранение старого в новом: действие, однажды совершенное, не должно исчезнуть, но должно продолжаться в последующем действии, последующее должно исходить из предыдущего, продолжать его собою. Но для этого необходимо, чтобы действия человека были пронизаны единством направления, общностью превышающей каждое из них в отдельности задачи, последовательными этапами в разрешении которой они являются. Это значит, что личность обретается только через работу над сверхличными задачами. Она созидается лишь творчеством, направленным на осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, религии, хозяйства, и измеряется совокупностью сотворенного человеком в направлении этих заданий культуры. Без пронизанности наших действий сверхличными целями они не продолжались бы одно в другом, по чисто механически примыкали бы друг к другу, не образовывая целостного и непрерывного единства. Только потому, что я сейчас, совсем по новому, быть может, продолжаю работать над той же задачей, которая светила мне много лет тому назад, это мое давнишнее действие могло не исчезнуть бесследно, но сохранилось как этап моих нынешних достижений, в которых оно и продолжает жить как превзойденная уже ступень. Мало того: мое нынешнее действие может быть именно новым по сравнению с давно прошедшим потому, что оно прибавило что-то свое к этому последнему, а для этого оно должно в чем-то продолжать его, т. е. быть объединенным с ним общностью пронизывающей их обоих задачи. Если бы личность не содержала в себе этих сверхличных задач как предмета своего действия, то отдельные поступки, лишь чисто механически примыкая друг к другу, представляли бы собою калейдоскоп сменяющих друг друга событий, в котором последующее событие не содержит ничего нового по сравнению с предыдущим, но все представляются одинаковыми в своем бессвязном бессмысленном безразличии. Это было бы простое нагромождение отдельных поступков, лишенное целостности и внутреннего закона, однообразное топтание на месте, без какого бы то ни было развития и органического роста, столь существенного для понятия личности. Особенно ясно выступит правота развитого нами понятия личности, когда мы приложим сказанное выше к вопросу об истории личности, т. е. биографии. Не о всяком человеке возможна биография, и не все факты прошлого могут быть предметом биографического изложения. Как мы выше установили уже относительно истории вообще6, так и в биографии сохраняются только те факты прошлого, которые имеют отношение к сверхличным заданиям, бывшим предметом творчества данной личности, и которые явились этапами в осуществлении личностью ее призвания, служения ее сверхличным ценностям. Это не значит непременно, что биография возможна только о выдающихся лицах — героях науки, искусства, политической и хозяйственной жизни. Биография возможна и о невидных, простых людях, лишь бы только жизнь этих людей представляла — пусть скромный, но единый в своем направлении — путь последовательного достижения все большей свободы в осуществлении ими выдвигаемых в виде предстоящего им долга нравственных задач. Это не значит также, что «верность личности себе самой» означает верность ее в течение всей жизни какому-нибудь одному делу (науке, искусству, политике, не говоря уже о той или иной программе или школе). Нет, сплошь и рядом, чтобы остаться верным самому себе, надлежит отказаться от школы, программы, задачи, убеждений, которым следовал. Но в самом этом отказе от старых задач и целей должно сохраниться единство направления жизненного пути, единство того последнего задания, которое личность осуществляет в течение всей жизни, последовательно находя это задание воплощенным для себя в тех или иных конкретных целях и задачах. Идея личности, ее призвание справедливо было названо поэтому «индивидуальным законом», невыразимым в общем понятии, неисчерпываемым общей формулой какой-нибудь профессии или программы, но от того не менее законом, свидетельствующим о сверхличном начале, через устремление к которому и формируется личность человека7. Бессмысленность биографии, понятой как простое изложение всех фактов прошлого, невозможность ее о каждом человеке прекрасно была показана Стерном в его некогда известном романе «Жизнь и мнения Тристрама Шанди», герой которого, решив написать свою автобиографию, употребил два года только на то, чтобы написать историю двух первых дней своей жизни, так что подлежащий изложению материал парадоксальным образом накоплялся гораздо быстрее, чем шло время, потребное для его исчерпания8.
Укорененность личности в сверхличном объяснит нам также еще одну замечательную черту личности, именно ее индивидуальный характер. Только не думая о своей индивидуальности, а работая над сверхиндивидуальными заданиями, становимся мы индивидуальностями. Индивидуальность не может быть предметом заботы, она есть естественный плод устремления к сверхиндивидуальному. Человек, который поставил бы единственной целью своего существования быть индивидуальностью и ради этого отверг бы все превышающие его личность задачи, неизбежно оказался бы тем же банальным человеком навыворот: заботясь единственно о том, чтобы не быть похожим на других, он естественно будет следовать поступкам этих других, с тем только отличием, что, если банальный человек поступает так, как поступают другие, оригинальничающий человек поступает прямо противоположно поступкам других, т. е., в сущности, тоже повторяет их с обратным знаком. Это личина индивидуальности. Подлинно индивидуальное есть прежде всего незаменимое, т. е. единственное в своем роде, не могущее стать меновой ценностью. Но незаменимость достигается лишь через обретение своего места в совокупном действии, направленном на разрешение сверхиндивидуальной задачи. Я тем индивидуальнее, чем больше приблизил я своим действием совокупность действующих разрешению общей им всем задачи и тем самым сделал себя незаменимее. Лишь на форе объединенной общностью задания целостности выступает индивидуальность. И не только личность в целом индивидуальна в меру своей устремленности к сверхличному. Отдельное действие личности тем более индивидуально, чем менее заменимо оно в ряду всего созданного личностью, т. е. чем более выражает оно личность, или, что то же самое, чем более оно свободно. Всякий человек, в меру своих природных данных и своей судьбы, может силою своего волевого напряжения сделать себя на своем месте незаменимым и тем самым выковать из своего темперамента растущую в своей тяге к сверхличному индивидуальность9.
Глубже других, на наш взгляд, мыслителей и поэтов эту тему обретения человеком и утрату им своей индивидуальности затронул Ибсен в своих драмах «Пер Гюнт» и «Борьба за престол». Пер Гюнт еще юношей ставит себе целью жизни «стать королем, царем». Он мечтает о том, как шумно встретят его друзья возгласами: «Ты из великого рода, быть же великим тебе». Подавшись чарам роллов, он затем окончательно подменивает человеческий долг «будь самим собою» правилом троллов «живи для себя», или «будь доволен самим собою». И вот в замечательных образах Ибсен показывает нам, как Пер Гюнт, вместо того чтобы обрести свою личность, стать самим собою, утрачивает свое собственное Я. Вытравив из своей души сверхличные начала, он мечется из страны в страну: мы его видим то на берегу Марокко, то в оазисе пустыни, то в Египте, он был и в Америке, всюду сызнова начиная свою рассыпающуюся жизнь. Выше всего ставивший свое Я, он, в душе которого «ничего другого, кроме Пера и только Пера, не найдешь», вернувшись на родину, сознает в конце концов горькую истину, что он так и «никогда не был самим собою», что, быв половинчатым, а не цельным человеком, он должен разделить в конце концов судьбу всех половинчатых людей, — попасть в плавильную ложку пуговичника, расплавиться в массе других столь же безличных существ, для того чтобы быть перелитым в нечто новое из этой общей массы. И если что его, быть может, и спасет от этой «туманной пустоты», так это заступничество Сольвейг, исполненной «веры, надежды и любви» к сверхличному началу, которому она посвятила свою жизнь, и в служении которому обретает только человек свой «солнечный путь». В «Борьбе за престол» Ибсен, напротив, выводит образ короля Гокона, являющегося истинным королем именно потому, что он не ставит себе целью быть королем. Королевская власть есть для него лишь средство чего-то более высокого. «Я,— говорит Г о к о н герцогу Скуле, своему сопернику, — хочу принесть ей это освящение. Норвегия была К о р о л е в с т в о м, она должна стать н а р о д о м. Трондер шел против викверинга, агдеверинг против гардалендипга, гологалэндинг против согндоля; отныне все должны объединиться и знать и сознавать, что все они составляют одно целое, один народ! Вот дело, возложенное на меня Господом, вот дело, предстоящее ныне королю Норвегии…» — «Г е р ц о г С к у л е (пораженный). Собрать?.. Объединить трондеров и викверингов — всю Норвегию? (Недоверчиво). Это несбыточное дело! Ни о чем таком не вещает сага Норвегии до сего дня! Г о к о н: Для вас несбыточное. Вам только повторять старую сагу; а для меня это легко, как легко соколу прорезать облака. С к у л е (взволнованно): Объединить… Создать единый народ, пробудить в нем сознание, что он одно целое! Откуда у вас такая диковинная мысль?.. Г о к о н: Мысль эта от бога, и я не откажусь от нее, пока ношу на челе обруч святого короля Олафа». Так срывается личина с герцога Скуле, прежде всего желавшего «быть первым человеком в стране», и оправдывается королевское призвание Гокона, подчинившего свою личность «великому королевскому заданию»10.
То, что было сказано нами относительно личности отдельного человека, вполне может быть применено также и к коллективной личности народа. Племенные свойства народа — это то, что соответствует темпераменту отдельного человека. И как не всякий темперамент отчеканивается в личность, так и не всякое племя выковывается в нацию. Подобно тому, как личность созидается через работу над сверхличными целями, так и племя становится нацией лишь через работу над сверхнациональными заданиями. «Народ есть население не только совместно живущее, — говорит Ключевский11, — но и совокупно действующее», и притом, прибавим мы в духе нашего историка, действующее в направлении общечеловеческих целей культуры. Нация тем более нация, чем больший вклад внесла она усилиями своих сынов в сокровищницу человеческой культуры. Английская нация — это то, что создано строителями Вестминстерского аббатства, Шекспиром, Ньютоном, судьями и политическими деятелями, мореплавателями, предпринимателями и рабочими Англии, что продолжается в самом направлении современного творчества английского народа, так далеко отошедшего сейчас от своего прошлого. Эти именно усилия сделали английский народ незаменимым членом общечеловеческой культурной семьи, на фоне целокупного творчества которой только и могла оттениться с такой завидной самобытностью индивидуальность английского народа. И русскую нацию создавали Петр Великий, Пушкин, Тургенев, Толстой и Достоевский, Ломоносов и Менделеев, Сергий Радонежский и безымянные толпы колонистов, меньше всего старавшиеся быть национальными, думавшие только об утверждении и распространении культуры и своими трудами над общечеловеческими заданиями включившие русский народ в целостность исторического человечества. Подобно личности, и нация не может быть предметом заботы, но является естественным плодом усилий, направленных на осуществление сверхнациональных ценностей. Не входя сейчас подробно в обсуждение этого вопроса, который мы глубже затронем в одной из дальнейших глав, укажем только, что национализм, отвлекающий народ от творчества над сверхнациональными задачами и главной целью национального бытия ставящий самоутверждение и господство (аналогично Пер Гюптовскому «будь доволен самим собою»), в корне разрушает основу самого национального бытия, приводит нацию к саморазрушению и распаду. Художник, который поставит своей задачей не воплощение узренной им красоты, а создание непременно национальною искусства, ученый и философ, которые поставят своей Целью не решение научного вопроса, а создание во что бы то ни стало русской науки, дадут тенденциозное и ложное искусство и науку и, значит, не подвинут своего народа вперед в его национальном бытии. Таким и были искусство Загоскина и наука Данилевского, давно забытые и не сохранившиеся в усилиях современных русских художников и ученых. И, напротив, творчество Пушкина и Ломоносова, думавших о красоте и об истине, а не о нации, бравших темы для своего творчества отовсюду и не суживавших своего творчества нарочитостью национального идеала, создали образцы подлинно национального искусства и науки, к которым всегда будут обращаться чувство и мысль русского человека12. Национальное, оторванное от общечеловеческого, перестает быть самим собою, перестает быть национальным, превращается в тот персидский костюм, в котором по свидетельству Герцена13, щеголял желавший быть русским А. К Аксаков. Это — то наше «живи д л я с а м о г о с е б я», о котором Ибсен в Пер Гюнте, касаясь и проблемы национализма, язвительно говорит, что «оно придает печать тролла человеку».
Как личность отдельного человека, так и коллективная личность народа представляют собою не данную вещь, готовую «душу» или «народный дух» с неизменными и присущими им извечно качествами, но процесс, кроющий в себе лишь единство творческого направления и живущий устремлением к сверхличному началу. Они перестают быть самими собою, утрачивают свое Я, распадаются на части, превращаются в простой материал для переплавки, если, оторвавшись от сверхличного и сверхнационального начала, допускают иссякнуть в себе оживлявшему их творческому порыву. Как дисциплина возможна через свободу, а свобода — через закон долга, так и индивидуальность возможна через сверхиндивидуальное начало. И потому, если «будь свободен» означало для нас «будь самим собою», то и подлинный смысл «будь самим собою» есть — «стремись к высшему, чем ты».
4
С помощью законченного нами анализа понятий дисциплины, свободы и личности мы сможем теперь оглянуться назад, чтобы уяснить себе еще глубже правоту и ошибочность рассмотренных нами выше теорий свободного воспитания, связанных, как мы знаем, с отрицанием культуры, и тем самым установить точнее задачу нравственного образования. Если понятие свободы в существенном совпадает с понятием личности, то перед нами встает вопрос: каково взаимоотношение личности и внешней, окружающей ее культуры? Каковы внешние условия культуры, наиболее благоприятствующие развитию внутренней свободы человека? Представим себе человека, помещенного в простую и несложную культурную среду, хотя бы человека эпохи средних веков. Его окружает небогатая впечатлениями, мало подвижная, хотя и монументальная, обстановка. У него есть две-три книги, которые он читает, не торопясь, вновь и вновь обращаясь к изложенным в них образам и мыслям, с которыми он беседует, как с верными друзьями. Искусство для него все воплощено в городском соборе: приходя в него несколько раз в неделю на богослужение, он уже с детства сживается с заключенной в нем энциклопедией искусства. Каждая деталь храмовой скульптуры, храмовой живописи, церковной музыки ему хорошо известна, есть нечто родное ему, знакомое. В общественной жизни его окружает ограниченный круг лиц, два-три основных политических течения, между которыми ему надлежит сделать выбор и которые отчетливо и последовательно выражают понятные и хорошо знакомые ему интересы. Сравните с этим человека современной культуры, у которого уже в детстве имеется целая библиотека, который еле успевает прочитать один раз даже классическую книгу, — так велик книжный поток, его обступающий. В области искусства он подавлен массой того, что накоплено в музеях, что ставится в театрах и исполняется в концертах, не говоря уже о гравюрах и фотографиях с произведений искусства всего мира. В общественной жизни его обступают самые разнообразные политические течения, множество враждующих между собою интересов, нет ничего прочного, установленного, бесспорного. Очевидно, что при этих условиях усложненной, количественно столь разросшейся внешней культуры человеку гораздо труднее сохранить свое я, быть самим собою, обступающие его чужие взгляды, мысли и чувства, из которых каждое тянет его в свою сторону, сделать своими взглядами, мыслями и чувствами, в полной мере усвоить их или занять по отношению к ним свою самостоятельную позицию. Возвращаясь к ранее употребленному нами сравнению, мы можем первый случай внешне бедной культуры уподобить периферии небольшого диаметра, окружающей центр помещенной внутри ее личности человека. Длиной радиуса этой окружности измеряется как бы сила тех центробежных влияний, которые, противостоя внутренней свободе личности, устремляют действия ее прочь от нее по касательной. Если в данных условиях мы имеем цельную личность, проявляющую себя в индивидуальных, свободных действиях, то можно сказать, что центростремительная сила личности, сосредоточенная в центре, успешно противостоит центробежным силам, развиваемым внешними культурными содержаниями. Вместо того, чтобы оторваться от личности и вести самостоятельное существование, эти последние принуждаются центростремительной силой личности вращаться вокруг нее. Это — гармоничное отношение между личностью и внешней культурой: человек справляется с обступающими ее внешними содержаниями культуры, перерабатывает их в «свои», развивая при этом определенную силу личности и свободы. Но вот, в силу тех или иных исторических условий наступает вдруг решительный перелом во внешней культуре: появляются новые взгляды, новые мысли и чувства, усложняется борьба общественных интересов; в застоявшуюся культурную среду врываются иностранные влияния. Все это сопровождается быстрым Ростом литературы, внезапным расцветом искусства, сразу надвигающимся вихрем политической борьбы, наконец, просто приходом массы новых людей, разрушающих старые навыки, предрассудки, обычаи. И весь этот поразительный рост внешней культуры совершается большею частью в сравнительно небольшой промежуток времени, не позволяющий личности одновременно развить центростремительную силу своей свободы. Что получается тогда с личностью при этом внезапном расширении периферии внешней культуры, при этом чрезвычайном удлинении радиуса последней, которым измеряется, как мы условились, сила центробежных влияний? Прежнему уровню свободы, прежней центростремительной силе личности, достаточной для того, чтобы противостоять прежней сравнительно ограниченной внешней культуре, противостоит теперь чрезвычайно расширившаяся периферия, сразу во много раз возросшая сила внешних центробежных влияний. Гармоничное некогда отношение между личностью и внешней ее обступающей культурой нарушается. Наступает эпоха кризиса, разложения личности, ее свободы и нравов. Не поспевшая в своем внутреннем развитии за быстрым бегом внешней культуры личность теряется в массе сразу ее обступивших новых впечатлений. Центробежные силы внешних культурных содержаний превозмогают центростремительные силы личности, и личность как бы разрывается на части, разламывается под бременем человеком же порожденных механизмов. Наступает господство формы над духом, буквы над содержанием, механизма над свободой. Человек теряет сам себя, начинает мыслить чужими мыслями, чувствовать чужими чувствами, действовать по чужому. Самобытная личность уступает место тем бездушным автоматам, которые, по слову Руссо, не смеют «быть самими собою» и мудрость которых сводится к правилу «надо поступать так, как другие». Внешне этот распад личности проявляется в утрате устойчивости ее по отношению к соблазнам среды и связанном с этим разложением нравов. За распадом личности в конце концов следует и упадок культурного творчества вообще, т. е. разложение и самой внешней культуры, чрезвычайно расширяющейся во вне, но иссякающей в своих собственных глубинах. Так возникают характерные для всякого «просвещения» черты: подмена науки схоластикой, искусства академическим эстетизмом, в которых вместо исследователя господствует энциклопедист и вместо артиста — художественный критик14.
В такие переходные, критические эпохи перед вдумчивым мыслителем неизбежно встает вопрос: как восстановить нарушенное равновесие между центростремительной силой личности и центробежными силами внешней культуры? Каким путем человек может вновь обрести утраченную свободу? Первый ответ, естественно напрашивающийся сам собою, следующий: равновесие нарушено потому, что чрезмерно разрослась периферия окружающих личность внешних культурных содержаний. Значит, чтобы восстановить нарушенное равновесие, надо вернуть личность назад — к старой, простой культуре, когда личность была целостной и свободной. Сначала эта мысль выражается в виде идеализирующего прошлое консервативного учения, но затем она идет глубже, затрагивает проблему культуры вообще и завершается знакомым нам уже отрицающим всякую культуру вообще лозунгом «назад к природе». От культуры центр тяжести переносится на личность, на эту как бы «нулевую точку культуры», интенсивная сила которой только теряется в экстенсивной периферии культурных содержаний15. В истории нашей европейской культуры мы можем указать на несколько таких критических эпох сознания, заканчивавшихся лозунгом опрощения. Пятый век в истории Греции, особенно Афин, представляет собою классический образец такой бурной критической эпохи. Он завершился, как мы знаем, проповедью Сократа, осторожно и вдумчиво поставившего проблему взаимоотношения между личностью и культурой, как проблему внутренней свободы человека. Самому Сократу, однако, чужд был идеал опрощения; и возврата назад к природе. Но его ученики, односторонне развившие некоторые намеки его учения в этом направлении, дали нам классические образцы теории опрощения; сюда прежде всего относится яркая проповедь основателя кинической школы Антисфена, идущая до конца в отрицании культуры и восхвалении жизни, «согласной с природой», на лоне которой личность только может вновь обрести утраченную ею свободу, целостность и самобытность. Развитие внешней культуры виновато в распаде личности. Значит, надо отвергнуть культуру, вернуться назад к природе, понятие которой совпадает, таким образом, с понятием свободы. Если у известного Диогена эта жизнь в природе в значительной степени выродилась в грубое оригинальничание, то у массы киников, образовавших нечто вроде настоящей религиозно-социальной секты, она превратилась в последовательную практику опрощения и аскетизма. В XII веке католическая Европа опять переживает аналогичный кризис сознания, вызванный крестовыми походами, возникновением городской культуры, сношениями с Востоком, обострившейся религиозно-церковной борьбой. И вновь с еще большей силой раздается известный нам лозунг возврата «назад к природе». Он раздается опять-таки в центре культуры того времени, в Северной Италии, в виде проповеди нищеты св. Франциска Ассизского. Мы, люди, сейчас, — говорит св. Франциск, — «omnia habentes, nihil possidentes», «мы все имеем, но ничем не владеем». Нас обступают сокровища культуры, но мы — рабы этого нами же созданного богатства. Оно над нами господствует, мы не может овладеть им, сделать его своим. Чтобы обрести вновь свою целостность и свободу, надо отказаться от всего этого богатства, сбросить с себя его мишурные покровы, дать обет нищеты. Тогда, ничего не имея, мы будем всем владеть, мы будем прежде всего владеть самими собою. Душа должна сбросить с себя эту окружающую ее и разрывающую на части оболочку культуры, и, нищая, но зато сосредоточенная в она вновь обретет и свободу, и покой, и духовное богатство. — Не восстановление ли этого идеала бедности и свободы означает прозвучавшая в рафинированном XVIII веке и уже известная нам проповедь идеала природы Руссо? Не тот же ли вечный мотив человеческой мысли обновил и в недавнем прошлом Толстой своей проповедью опрощения?16 — Да, это все то же борение нравственного идеала личности и свободы с другими временно превозмогшими сторонами культуры. Только всегда поверхностный и самоуверенный Вольтер мог сказать про Руссо, что «он хочет всех нас заставить опять ходить на четвереньках». Сколь правее был сам Руссо, сказавший про себя: «не науку я порицаю, я защищаю добродетель». Теперь нам ясно, что отрицание культуры есть не столько отрицание культуры, сколько борьба за нравственный идеал свободной и целостной личности, и постольку означает даже вящшее утверждение культуры, разлагающейся, как мы видели, в результате распада личности. Во имя нравственной к у л ь т у р ы человека отвергается более «внешняя» интеллектуальная, художественная и правовая культура. Отрицание культуры есть, понимаем мы теперь, — маска, за которой скрывается морализм. Поэтому «природа» как киников, так и Руссо и Толстого означает не первобытное звериное существование, но свободу человека. Правда, этот глубокий положительный мотив утверждения нравственной свободы человека рядится в форму анархического, отрицательного понимания свободы. Свобода как положительный идеал целостной личности, выступает под маской природы, т. е. не связанного внешними законами существования17 . Мы знаем теперь причины этого маскарада, и нами показана недостаточность чисто отрицательного понятия свободы.
Теперь нам легче будет уяснить себе также в чем состоит развитие нравственности, а, следовательно, и нравственное развитие отдельного человека. Развивается ли вообще нравственность? Имеет ли она свою историю? Можно ли, например, сказать, что кому-нибудь из нас удалось достичь той ступени свободы и личности, которой около двух с половиной тысяч лет тому назад достиг афинянин Сократ, и что мы в отношении нравственности пошли далее древних греков, как можно, по-видимому, сказать, что Ньютон в физике пошел дальше Аристотеля, а Лагранж — дальше Архимеда? Если прогрессивное развитие науки не вызывает у большинства сомнений, то прогресс нравственности, напротив, или решительно отвергается, как это мы видели, например, у Руссо, или усматривается в чисто внешней стороне смягчения нравов, или, наконец, высказывается мысль, что нравственность не подлежит развитию ни в положительном, ни в отрицательном смысле, но находится как бы вне истории, есть нечто статическое, так что можно сравнивать только уровень нравственности отдельных лиц, а не эпох или поколений. В этом отношении к нравственности ближе всего стоит искусство, в котором тоже бессмысленно сравнивать в отношении прогресса Данте и Гомера, Шекспира и Софокла, Бетховена и Баха, особенно если отвлечься от развития чисто внешних, технических средств выражения. И все-таки если и верно, что уровень свободы и личности, достигнутый некогда Сократом, не превзойден нашим поколением и что каждое поколение состоит из людей самого разнообразного нравственного уровня, то, с другой стороны, нетрудно показать, что в известной мере нравственность все же развивается, что она в этом отношении не так уже резко отличается от науки, в которой тоже, наряду с несомненным развитием, может быть подмечен и статический, не подлежащий развитию момент. В самом деле, степень достигнутой личностью свободы и постольку ее нравственный уровень зависит, как мы видели, от двух моментов: от степени ее волевого напряжения (центростремительной силы личности) и от объема окружающих личность культурных содержаний (центробежных сил внешней культуры), которые предстоит личности усвоить и заставить вращаться вокруг себя. Чем больше радиус окружающей личность внешней культуры, тем интенсивнее должна быть центростремительная сила личности для того, чтобы внешне, на поверхности, дать тот же результат: равный уровень нравственности и свободного действия. И если мы не можем сказать, что уровень свободы действия и устойчивости жизненного пути отдельных лиц с течением истории повышается, то мы безусловно можем сказать, что противостоящий личности материал внешних культурных содержаний имеет явную тенденцию к возрастанию, и, следовательно, достижение в наше время т о г о ж е уровня нравственной свободы требует гораздо больше волевого напряжения, гораздо большей центростремительной силы личности, чем две с половиной тысячи лет назад. Говоря грубо, нас обступает сейчас гораздо больше соблазнов внешней культуры, и потому нам сейчас труднее быть свободными личностями, чем нашим предкам18. Поэтому в смысле достигаемого отдельными людьми результата мы действительно имеем иллюзию постоянного, как бы на месте стоящего борения, напоминающего подъем и падение волн вечно волнующегося океана. Но в глубине, под этим вечным и однообразным волнением, философ по праву видит непрерывно ширящееся в своей силе и объеме течение рост свободы — усиление центростремительной силы в человеке, проявляющееся в усложнении встающего перед личностью долга, тех задач, которые ей предстоит решить своими свободными действиями. Возвращаясь опять к нашему сравнению, мы можем сказать, что, если степень отклонения нашего фактического поведения, уподобленного нами пунктиру, от той непрерывной идеальной линии, которую вычерчивает нам долг нашей личности, то увеличивается, то уменьшается, то остается себе равной, — сама эта идеальная линия нашего долга Усложняется с течением времени, принимает все более сложные и труднее поддающиеся рациональной формулировке очертания. В этом усложнении «индивидуального закона» личности, непрерывно совершающегося в глубине, тогда как на поверхности мы видим вечное волнение тех же ее подъемов и падений, и заключается рост человеческой свободы и личности, т. е. развитие нравственности. И в этом отношении развитие нравственности не так уже сильно отличается от развития науки. Ибо в последней, наряду с моментом роста и развития, нетрудно усмотреть также и статический момент вечного волнения, если только под наукой понимать не простое нагромождение фактов, но своеобразное отношение между понятием и данными опыта, непрерывное напряжение между методом, стремящимся усвоить накопленный опыт, и фактами, противостоящими этому притязанию метода. Конечно, физика Аристотеля ниже физики Ньютона, и биология Аристотеля ниже биологии Дарвина в отношении объема и разнообразия тех опытных данных, на которых те и другие покоятся. Но можно ли сказать то же самое в отношении равновесия между единством метода и данными опыта в упомянутых научных системах; можно ли сказать, что физика Аристотеля ниже физики Ньютона в отношении внутренней непротиворечивости, систематической закругленности, законченности, точного соответствия теории находящимся в распоряжении ученого данным опыта? Всякий, изучавший обе научные системы, скажет, что самый вопрос неправильно поставлен, что он также бессмыслен, как вопрос о том, кто выше — Шекспир или Софокл. Подобно тому, как низший уровень достигнутой свободы может иметь место при большей усложненности предстоявшего личности и ею не осиленного долженствования, точно так же пошедшая в объяснении явлений природы дальше своей предшественницы научная система может быть ниже этой последней в отношении своей логической структуры. То, что сказано нами о развитии нравственности в целом, вполне применимо, как мы увидим ниже, и к нравственному развитию отдельного человека. Представляя с виду вечно волнующееся море, в котором подъем сменяется падением и торжество личности ее поражением, нравственная жизнь человека кроет в своих глубинах непрерывность развития, выражающуюся в усложнении вздымающегося перед личностью долженствования, как результате расширения того содержания внешней культуры, которое растущей личности человека , предстоит одолеть и усвоить.
Пораженный зрелищем вечно волнующегося океана подъемов и падений, философ опрощения, отрицающий внешнюю культуру, не замечает этого роста долженствования: он отрицает развитие нравственности, склонен даже сетовать на ее вырождение. Отрицательно мысля свободу, он понимает ее статически, как не имеющую степеней, а сразу осуществляемую готовую сущность. Но кроме пути опрощения и аскетизма19 есть еще второй путь — путь положительного нравственного образования, синтезирующего принуждение со свободой. Если разложение личности и утрата человеком его свободы объясняются нарушением существовавшего ранее равновесия между центростремительной силой личности и центробежными силами внешних культурных содержаний, то очевидно, что, кроме пути возвращения назад к «нулевой точке» культуры, может быть еще один путь к восстановлению нарушенного равновесия: путь систематического и последовательного усиления центростремительной силы личности, постепенного роста ее внутренней свободы. Этим путем в древности пошел Платон, глубже киников схвативший основные мотивы Сократова учения. Этим же путем в новое время пошел Кант, глубоко прочувствовавший поставленную Руссо проблему и в известной мере понявший Руссо глубже его самого20. В дальнейшем нашем изложении основ педагогической теории мы попытаемся пойти этим же испытанным путем.
5
Но прежде чем перейти к детальному изложению основных ступеней нравственного образования, попробуем сделать из сказанного выше один общий педагогический вывод. Прежде всего мы можем теперь определить задачу нравственного образования. Она сводится к развитию в человеке свободы. Нравственное образование завершается сформированием личности в человеке, или, что то же, развитием его индивидуальности. Но так как свобода и личность представляют собою не готовые данности, а сполна никогда не реализуемые задания, то и нравственное образование не может кончиться в определенный период жизни человека, но, длясь всю жизнь, может только насильственно оборваться с его смертью. От рождения ребенок обладает только темпераментом и не имеет еще характера и личности. Его можно уподобить намагниченной стрелке, помещенной в электромагнитное поле и своими непрерывными колебаниями покорно отзывающейся на малейшее возмущение окружающей среды21. В его собственной неустойчивости, в его внутренней несвободе, в его природной безличности — основание того принуждения, которому он неизбежно от природы подвержен и которое в раннем возрасте проявляется особенно резко в его склонности к подражанию. Задача нравственного образования состоит в том, чтобы отменить это принуждение, которому подвержен ребенок. В этом глубокая правда идеала свободного воспитания. Но отменить принуждение невозможно путем его чисто внешнего упразднения. Отменить принуждение — это прежде всего отчеканить темперамент ребенка в личность, воспитать в нем внутреннюю силу свободы. А сделать это возможно, как мы знаем, только через поставление личности сверхличных целей, в творческом устремлении к которым растет ее устойчивая сила. Тогда намагниченная стрелка человеческого темперамента, удерживаемая в определенном направлении великим магнитом сверхличного начала, уже не будет отзываться на обыкновенные возмущения среды. Тогда в меру природного таланта будет выковываться человеческая индивидуальность, на вершинах своих именуемая гением человека.
Как этого достигнуть? Это должна показать теория нравственного образования. Теперь же, в заключение, мы можем только указать, что достигнуть этого возможно, лишь избегая двух естественных крайностей. Мы знаем, что свобода человека возможна лишь там, где центробежные силы обступающих человека внешних культурных содержаний уравновешиваются подчиняющей их себе центростремительной силой личности. Ошибка преждевременного воспитания состоит в том, что ребенка окружает чрезмерно широкая периферия культурных впечатлений, разлагающая еще только зарождающуюся в нем центростремительную силу личности. Поэтому преждевременное воспитание, в котором предлагаемый ребенку внешний материал превосходит способность его усвоения, неизбежно воспитывает надломленных, безличных людей. В этом состоит правота педагогической критики Руссо. Но и путь отрицательного воспитания, путь изолирования ребенка от культуры означает обратное нарушение требуемого равновесия: центростремительная сила усвоения, превосходя предлагаемый ей нарочито бедный материал, притупляется. Личность, не питаемая извне культурным содержанием, останавливается в своем росте, беднеет или теряется в бесплодных попытках элементарной самодельщины. Самобытность подлинной индивидуальности подменивается самобытностью некультурного в своей самоуверенности самоучки. Мудрое воспитание должно избегать того и другого: предлагаемый ребенку внешний материал должен быть строго соразмерен с его внутренней способностью переработать этот материал, делать его вполне «своим». Давление внешней среды должно соответствовать внутренней силе сопротивления растущей личности ребенка. Центростремительная сила в человеке должна всегда превышать центробежные силы внешней культуры, но и непрерывно ощущать их возрастающий напор. Между обеими крайностями — надломленной и бедной личности — должно осторожно провести своего воспитанника трудное искусство воспитателя.
Литература вопроса. Настоящая глава, посвященная выяснению задачи нравственного образования, лежит в основе всей дальнейшей теории нравственного образования. Она намечает основные черты защищаемой нами этической теории, поскольку это необходимо для последующего чисто педагогического исследования. Правильность наших этических взглядов должна в значительной мере оправдаться последующими педагогическими выводами. Здесь мы можем указать только тех мыслителей, ко взглядам которых мы, в тех или иных отношениях, примыкаем и на которых мы в настоящей главе ссылаемся. Таковыми являются из философов-классиков: Р у с с о («Общественный договор», «Эмиль»), К а н т («Основоположение к метафизике нравов», «Критика практического разума»), Ф и х т е («Назначение человека», «Назначение ученого», «Основные черты современной эпохи»), Ш е л л и н г («О существе человеческой свободы»), отчасти Н и ц ш е («Так говорил Заратустра»); из современных философов — Б е р г с о н («Время и свобода воли»), отчасти Вл. С о л о в ь е в («Оправдание Добра»), Срв. также В и н д е л ь б а н д («Прелюдия» и «О свободе воли»), З и м м е л ь («Понятие и трагедия культуры», «Индивидуальный закон».); из поэтов — И б с е н (особенно «Пер Гюнт», «Бранд», «Борьба за престол»); из педагогов — Н а т о р п («Социальная педагогика», «Культура народа и культура личности»), К е р ш е н ш т е й н е р («О развитии характера») и Ф е р с т е р («Школа и характер»).
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА II
- Срв. Ферстер. Школа и характер. Изд. «Школа и Жизнь», Петр. 1915, стр. 154. Ко всему параграфу этой главы см. вообще во многом превосходную книжку Ферстсра, особенно главу «Проблема дисциплины», а также «Педагогика повиновения» и «Психолог, и педагог, точки зрения на реформу школьной дисциплины».
- Срв. Бергсон, «Время и свобода воли», особ, глава 3. Более элементарно критикует также самую противоположность индетерминизма — детерминизма Фулье, «Проблема свободы». Срв. также Виндельбанд, «О свободе воли».
- Сравнение, впервые употребленное еще Лейбницем.
- Срв. новый и интересный разбор этических взглядов Руссо в связи с его политической теорией в превосходной книжке Г. Д. Гурвича, «Руссо и Декларация прав» (Пгр. 1918).
- Эта мысль выражена с замечательной силой в последней части известного романа Ромэна Роллана «Жан Кристоф» — «Новый день», в письме Кристофа и Грации по поводу встречи Кристофом в одном из дешевых кафе игравшего там своего двойника: «И вот, мой друг, видя этого неудачника, жизнь которого была сплошь чередой злоключений, я думал: вот кем я мог бы быть. Наши души, когда мы были детьми, имели общие черты; и многие события нашей жизни походят друг на друга; я даже нашел некоторое родство между нашими музыкальными идеями; но его мысли остановились на пути. Благодаря чему же я не потерпел крушения, подобно ему? Конечно, я обязан этим своей воле. Но несомненно также и случайностям жизни. И даже, если взять лишь мою волю, разве я обязан ею одним только моим заслугам? Разве не обязан я ею своей расе, своим друзьям. Богу, мне помогшему?»…
- Срв. введение, § 2.
- Зиммель, «Индивидуальный закон».
- Р. Стерн, «Жизнь и мнения Тристрама Шанди». «Историк не может так гнать свою историю, как извозчик гонит лошадей — все вперед… Историк вынужден раз пятьдесят сворачивать с прямой дороги за тем или за другим, чего ни под каким видом пропустить нельзя… Что до меня касается, то я объявляю, что сижу над этим 6 недель, спешу изо всей мочи, — а еще по сию пору не родился».
- Срв. удачную формулу в «Фоме Гордееве» М. Горького: «Вот. Ты погоди-ка, оживился Фома. — Ты скажи-ка, что нужно делать, чтобы спокойно жить… т. е. чтобы собою быть довольным? — Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дурной болезни, даже возможности быть довольным собою… — Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь, недоступное тебе… Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху».
- Цитаты сделаны по переводу А. и П. Ганзен.
- Курс русской истории, ч. I, изд. 4, стр. 120.
- Срв. классическую критику национализма у Вл. Соловьева в «Национ. вопросе», гл. III (Собр. соч. 2-ое изд. Т. 5, стр, 45 сл.).
- Срв. «Былое и Думы» гл. XXX, изд. «Слово», II, 301. Ко всему абзацу срв. нашу статью «Идея нации» (Сборник «Вопросы мировой войны», 1915) и дальнейшую главу «О национальном образовании». — Что в «Пер Гюнте», тема которого создание человеком его личности, Ибсен касается проблемы национализма, подчеркивает лишний раз родство обеих проблем: личности и нации.
- Срв. прекрасную статью Зиммеля «Понятие и трагедия культуры» (Логос, 1911 — 12, кн. 2/3). Наряду с быстро и чрезмерно развившейся внешней культурой, разлагающе влияющей на личность, не позволяет развиться свободе личности, конечно, и стихийно слагающаяся, в виде незаметно растущего обычая, культура. Такая чрезмерно однообразная и стоячая культурная среда, в которой господствует издревле сложившийся и как бы вечно существовавший обычай, не дает отдельной личности повода критически отнестись и сделать своими те культурные содержания, в которые она врастает с самого детства путем бессознательного, стихийного процесса подражания.
- Как «нулевую точку культуры» личность глубокомысленно определяет Наторп.
- Это противоборство личности и культуры получило недавно свое блестящее стилистическое выражение в диалоге «Переписка из двух углов» — М. Гершензона и Вяч. Иванова (М. 1921 г.). — Наконец, ту же проблему взрывает сложной диалектикой своих последних сочинений и Г. Зиммель.
- Все это верно и по отношению к Руссо, у которого несомненно (особенно в «Эмиле» и в «Новой Элоизе») свобода выступала в маске природы. Но поскольку Руссо в других своих сочинениях (особенно в «Общественном Договоре» и, в частности, в первоначальной его редакции, опубликованной проф. А. Алексеевым) резко различает между «инстипк тинным естественным состоянием» и «разумным естественным состоянием», он решительно порывает с имеющимися у него мотивами анархизма и культурного нигилизма и выставляет положительное нравственное понятие свободы, являясь постольку прямым предшественником Канта.
- Срв. Руссо «Эмиль II 514: «счастливы народы, среди которых можно быть добрым без усилия и справедливым без доблести!»
- Мы не говорим уже о консервативном идеале, мечтающем насильственными мерами преградить распространение внешней культуры в той или иной общественной среде или вернуть общество назад, в условия благодатного прошлого. Нужно ли говорить, что насильственные меры, клонящиеся к восстановлению прошлого и к изолированию «неиспорченной» еще общественной среды от соблазнов развивающейся внешней культуры, никогда не достигают цели?
- Ныне влияние Руссо на Канта уже оценено по достоинству, и за Руссо вновь признается заслуженное им место в истории философии, как, если не родоначальника, то во всяком случае прямого предшественника немецкого идеализма. В свое время это признавал уже Гегель, не в пример позднейшим историкам философии, удостаивавшим отводить Руссо несколько страниц, а иногда даже и строк в истории новой философии и видевшим в нем не философа, а просто «культурное явление».
- Сравнение Ферстера в цитированной книге.
Глава III. ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТУПЕНЬ АНОМИИ, ИЛИ ТЕОРИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Свобода должна пронизывать и тем самым последовательно отменять каждый акт принуждения, по необходимости применяемый в образовании. Таков был вывод предыдущей главы, посвященной установлению цели нравственного образования. Теперь нам надлежит выяснить, как конечная цель нравственного образования последовательно осуществляется в жизни человека. Свобода и личность даются не сразу, но растут постепенно, и если даже не вдаваться в подробности, необходимо все же отметить и хотя бы в главных чертах охарактеризовать основные ступени этого роста. Тем самым от отвлеченных философских проблем мы переходим к конкретным вопросам педагогики.
1
В основу нашего различения основных ступеней образования мы возьмем известное уже нам различие автономии, гетерономии и аномии. Оно было проведено нами раньше для того, чтобы резче определить свободу как самозаконность и отграничить ее тем самым от произвола, или беззакония. Однако между приведенными понятиями имеется не только чисто логическое, но временное взаимоотношение. Человек рождается в стадии беззакония для того, чтобы осуществить в себе идеал самозаконности. При этом он необходимо проходит ступень чужезаконности, или гетерономии. Если мы возьмем человечество в целом, то увидим, что первоначально чисто биологическое существование, подчиненное исключительно естественным законам природы, постепенно сменяется жизнью в гражданском обществе (культурой), в которой человек подчиняется не только законам своего биологического бытия, но и законам должного, как они формулируются и предписываются ему извне некоей властью, господство которой существенно отличается от господства чисто естественных сил. Веления этой власти (будь это власть обычая, родоначальника или царя) могут быть нарушаемы человеком, чего нельзя сказать о законах природы, ненарушимых даже тогда, когда человек подчиняет себе природу, покоряющуюся, как известно, лишь через повиновение ее законам. Постольку это именно законы должного, а не бытия. Эти законы должного первоначально чисто стихийно вырастают из окружающей обстановки; они представляются человечеству установленными не им самим, а божественной волей, которая установила их от века одновременно с законами природы, не испрашивая на то согласия людей, как некая чужая и высшая сила: до того ярко выступает первоначально гетерономный характер должного, подчиняющего себе человечество наряду с естественной необходимостью законов природы. С течением истории этот чужезаконный характер должного отмирает: человечество начинает все более и более сознавать себя своим собственным законодателем. Законы должного принимают все более и более автономный характер в том смысле, что человечество само себе их устанавливает, в тех или иных формах принимая сознательное участие в их формулировании; точно так же взгляд на должное, как на установленный высшей силой порядок, сменяется взглядом на него как на чисто человеческое установление, основанное или на произволе сильнейших или на сознании его объективной разумности. Постольку можно действительно сказать, что человечество в общем проходит три стадии развития: аномии, гетерономии и автономии. Против этой формулы нечего возразить и натурализму, утверждающему, что в течение всей своей истории человечество подчиняется в сущности одним только естественным законам своего существования. Если и допустить, что все законы должного, даже те, которые представляются нам продуктом сознательного и самостоятельного человеческого творчества, в последнем счете стихийно вырастают из чисто фактических отношений человеческого существования, отражением которых они только и являются, — все же наличность норм должного и их, пусть только видимое, отличие от ненарушимых законов природы есть несомненный факт, который, как таковой, натурализм не в состоянии отрицать и который он только может попытаться свести в его причинах к столь же несомненному факту чисто естественной закономерности. С другой стороны, тот факт, что самые примитивные из известных нам человеческих обществ подчиняются уже долженствованию в виде господствующего у них обычая, что ни история ни этнография не знают чисто «естественного» состояния, в котором господствовали бы одни только законы природы, как это допускал XVII и XVIII век, не может воспрепятствовать нам построить понятие аномного существования, которое в своем чистом виде и не наблюдалось, но к которому более или менее приближалось существование человечества. Если мы эту первую стадию называем стадией аномии, или беззакония, то не потому, чтобы в ней не было никаких законов, законы природы существуют извечно, и беззаконного, в смысле совершенно случайного, существования быть не может. Говоря об аномии, мы имеем в виду беззаконие в отношении закономерности д о л ж н о г о, отсутствие сознания норм, которые хотя и могут нарушаться, но которым должно следовать. Аномия означает, таким образом, не случайное, а произвольное существование.
Иллюстрировать приведенное различие аномии — гетерономии — автономии может лучше всего, пожалуй, сопоставление трех понятий: природы, права и нравственности. Законы природы ненарушимы и вечны. Человек подчиняется им так же, как подчиняются им все живые существа, и соединенное со стремлением покорить природу познание ее законов не умаляет их железной необходимости. Но природа не знает должного и недолжного. Подчиненная железной необходимости бытия, она беззаконна в отношении закономерности долженствования. Нормы права (так же, как и правила обычая и общественной морали, или нравов) представляют собой долженствование, но это долженствование гетерономно постольку, поскольку, будучи формулированы в общих понятиях, нормы права применяются однообразно ко всем лицам, имеют в виду средний случай и средний тип человека, игнорируя индивидуальный путь каждой личности и тот своеобразный долг, который вся совокупность жизненных обстоятельств выдвигает именно в данный момент перед данной личностью. Не будучи законами природы, нормы права притязают действовать, однако, так, как будто они были таковыми, т. е. с тем же однообразием, постоянством, ненарушимостью. Отсюда именно и вытекает их чужезаконный характер, даже для законодателя, однажды их установившего, они имеют значение чего-то чуждого его собственной воле, чего-то извне предписанного, что должно быть исполнено во что бы то ни стало, хотя бы его собственная воля уже хотела иного, и иной долг встал перед ним. Кристаллизуясь в общих понятиях по типу закономерности природы, правовое долженствование не поспевает за текучестью вечно подвижной жизни, выдвигающей пред той же личностью всегда новую обязанность. Как бы ни было изменчиво право и сколь ни было бы оно созданием самих ему подчиняющихся людей, оно в силу присущей ему кристалличности строения, всегда носит на себе печать чужезаконности, долженствования, возложенного на человека извне некоей чуждой самой воле подчиняющегося волей. Поэтому оно ограничивается в своей оценке и в своих требованиях поступком как таковым, берет поступок оторванным от целокупности породившей его личности, не спрашивает об умонастроении, с которым он совершен. Но именно потому оно не ограничивается тем, что поступок только д о л ж е н быть совершен, но, мысля свою значимость по типу ненарушимой действительности законов природы, оно требует ф а к т и ч е с к о г о о с у щ е с т в л е н и я д о л ж н о г о, для чего не гнушается прибегать к внешнему принуждению. В этом смысле оно не есть чистое долженствование, но долженствование, мыслимое по образу железной необходимости природы, некий симбиоз необходимости (Mussen) и долженствования (Sollen). Напротив, нравственность есть чистое долженствование. Принудить человека быть нравственным, как его можно принудить исполнить веление права, обычая или общественной морали, нельзя. Только добровольно подчиняясь представшему пред ним его долгу, может человек исполнить веление нравственности. В этом смысле нравственность автономна: она есть подчинение закону, который человек сам на себя возложил. Природа, право и нравы отличают человеческое существование с самых ранних времен. Нравственность, напротив, возникает в своей самостоятельности позднее — тогда, когда личность перестает быть простым членом рода и освобождается от власти стихийно обхватывающего ее обычая. Поэтому ничего неправильного нет в утверждении, что человечество из чисто природного существования через посредство нравов и права возвышается до подчинения нравственности, если даже признавать спорным защищаемый некоторыми и не анархическими мыслителями взгляд о постепенной замене права нравственностью, имеющей со временем привести к полному отмиранию права.
Что отдельный человек повторяет в своем развитии судьбы человечества, — эта мысль, высказанная на рубеже XIX века еще Песталоцци1, в наш биологический век не требует особого доказательства. Каждый человек проходит различенные нами стадии аномии, гетерономии и автономии, которым в сущности и соответствуют три ступени образования: дошкольное, школьное и внешкольное. Мы рождаемся в аномии: язык должного непонятен ребенку в первые годы его жизни. Правота Руссо состоит именно в том, что он глубоко понял этот аномный характер детства. Именно потому, что ребенок чувствует лишь объективную силу вещей и зависимость свою от них, он готов покориться «да» и «нет», которые говорит ему сама природа, и так легко возмущается против человеческого принуждения в виде приказаний и запрещений старших. На этом основании Руссо и предлагал «изгнать из словаря Эмиля слова п о в и н о в а т ь с я и п о в е л е в а т ь» с тем, чтобы «больше места в нем занимали слова сила, необходимость, беспомощность и нужда (contrainte)»2. Самая среда, в которую вступает ребенок по своем рождении, есть среда семьи, основанная на инстинктивных узах родства. Для самого ребенка отношения его к старшим в семье регулируются не нормами должного, не законами, установленными людьми, а чисто природными отношениями силы и беспомощности. Поступки его не преследуют никакой устойчивой цели, которая вносила бы в них некоторую свою закономерность, но определяются исключительно инстинктивными влечениями, внешними впечатлениями, оказавшимися наиболее сильными, в частности, подражанием поступкам старших. Мы глубже, однако, поймем существо этой ступени аномии, если от общей ее характеристики перейдем к детальному исследованию главных моментов жизни ребенка.
2
Если мы спросим себя, что делает ребенок, то получим ответ: он играет. Игра есть именно характерная для детства деятельность, и притом деятельность до крайности неутомимая, почти не знающая перерывов. Давно уже справедливо отмечено, что нормальный ребенок всегда занят и что скука и лень — почти всегда плод дурною воспитания. В чем же своеобразие игры, чем отличается и она от других видов человеческой деятельности? Мы будем исходить из философского определения игры, намеченного в сущности еще Кантом. Если углубить его и расширить, то оно до сих пор, на наш взгляд, лучше других выражает существо игры. Согласно этому определению, игра есть деятельность, в которой цель деятельности не вынесена за пределы самой деятельности, но в которой поэтому каждый момент ценен сам по себе. Отдельные моменты работы, напротив, преследуют цель, внеположную им самим, и потому они являются средствами, имеющими служебное значение по отношению к этой цели. С достижением цели данная работа кончается: она имеет в виду определенный продукт как результат деятельности. Цель работы дана в будущем, и это будущее определяет собою настоящее, которое развертывается в ряд ведущих к нему ступеней. Игра, напротив, не знает конца. Она вся в настоящем, может продолжаться бесконечно, не думает о будущем, неувядаема в своей вечной юности. Продукт деятельности не имеет в ней значения, ей важен самый процесс деятельности. Сравним, например, кукольного мастера, изготовляющего платье для куклы, и тут же рядом шьющую своей кукле платье его девочку. Для первого важен продукт его работы, он стремится к внеположной самому процессу работы цели. Ребенок, напротив, шьет для того, чтобы шить, не осуществляя этой своей деятельностью никакой отдельной от нее цели. Это отсутствие помыслов о будущем, эта погруженность в настоящем, как бы разлитость в нем составляет вообще отличительную черту детства, роднящую ребенка с дикарем, тоже живущим настоящим и, если и помышляющим о будущем, то более со страхом, чем с заботой. Не определяемые никакой целью, которой они служили бы средствами, отдельные моменты игры лишены последовательности, внутренней устойчивости и закономерности. Игра ребенка может беспрестанно менять свой ход в зависимости от внешних впечатлений, может без конца начинаться сызнова, произвольно прерываться, не терпя от этого никакого ущерба. Постольку игра — аномная деятельность. Этим она отличается от работы, подчиненной определенному закону. Но и работа может быть опять-таки двоякой. Цель, определяющая работу в ее закономерности, может быть дана работающему извне, поставлена ему другими: тогда мы имеем гетерономную деятельность, или урок. Или цель эта может быть поставлена работающему самим работающим — тогда мы имеем автономную деятельность творчества. Своеобразие и существо урока и творчества мы подробно исследуем в дальнейших главах. Сейчас нам важно, противопоставив игру работе, уяснить себе ее существо как беззаконной деятельности ребенка, в которой настоящее не жертвуется будущему как ведущая к нему ступень, в которой каждый момент, как бы упоенный мгновением, имеет самодовлеющую ценность.
Отсюда вытекает еще одна существенная особенность игры, отмеченная в свое время Ш и л л е р о м ив современной педагогической литературе особенно подчеркиваемая Д ь ю и3. Противопоставляя игру работе, Дьюи говорит: «Работа означает интерес к соответствующему воплощению значения (представления цели, задачи) в объективной форме путем использования соответствующих материалов и применений». Игра же, напротив, удовлетворяется простым значением, простым образом, не требуя воплощения этого образа в действительность. Чтобы построить, например, дом в порядке игры, ребенок удовлетворяется простым образом, значением, за которым отсутствует соответствующая реальность. Таким образом игра тесно связана с фантазией: ее стихия не реальный, а воображаемый мир. Но почему это так? Именно потому, что для воплощения в действительность образ, или, как говорит Дьюи, значение должно быть вынесено за пределы самого процесса деятельности как отличная от него цель. Ребенок потому именно удовлетворяется в игре простым значением, пребывает в им же созданном мире воображения, что деятельность его не преследует никаких целей, отличных от нее самой. Реализация образа требует выделения цели, подчинения этой выделенной цели некоторой совокупности средств, без которых цель не может быть воплощена и которые принимают по отношению к ней служебное значение. Но в игре каждый момент деятельности ценен сам по себе; и потому ребенок, желая построить дом, принужден идти легчайшим путем, удовлетвориться простым образом его, вообразить его там, где воплощенный, реальный дом отсутствует.
Против нашего определения игры можно возразить, что оно слишком резко отмежевывает игру от работы и потому не соответствует в полной мере реальности. Ребенок, играя, сплошь и рядом осуществляет определенные цели, которым и подчиняет отдельные моменты своей деятельности. Совершенно верно! Но в том то и дело, что цели эти в игре мимолетны и изменчивы, они быстро сменяются, у них нет той длительности и устойчивости, которая отличает работу. Наконец, даже выделенные из самого процесса деятельности, они слишком еще близки к нему, тогда как работа ставит себе всегда более отдаленные задачи. Выставляя наше определение игры, мы даем только как бы предельное ее понятие, которое, позволяя резко ограничить игру от работы, но необходимости не вполне соответствует действительности; на деле игра носит уже в себе задатки работы, в работе просвечивают следы игры, между той и другой существуют незаметные переходы. В этом отношении все определения игры по необходимости будут слишком резкими. Дьюи, желающий избежать указанной резкости и подчеркнуть наличие переходов между игрой и работой, отдает ей также в сущности дань. Ведь в той же мере, в какой нельзя отрицать преследования ребенком в игре определенных целей, нельзя отрицать и того, что в каждой игре имеется в слабой степени также момент воплощения значения: один ребенок воплощает дом в рисунке, который он, вырезав, ставит на стол, другой идет дальше и строит дом из картона, третий удовлетворяется уже только домом, построенным из досок, в котором он сам сможет поместиться и т. д.
Конечно — это все еще удовлетворение фантазией, образом, значением. Тут пет подлинного воплощения в действительность. Но точно так же и цели, преследуемые ребенком в игре и подчиняющие себе отдельные ее моменты, до того близки, неустойчивы, до того не выделены из самого процесса деятельности, что всегда в самом этом процессе могут быть изменены, забыты, отброшены в пользу настоящего момента игры, только что еще бывшего средством для другого и внезапно заступившего его место. Потому-то игра «протекает из момента в момент». В ней «последовательность действий, образов, эмоций удовлетворяет сама по себе»4.
И однако мы бы глубоко ошиблись если бы отрицали в игре всякую целесообразность. Подобно тому как аномия вообще есть беззаконие не в смысле случайности (в природе случай есть лишь не познанная необходимость), а в смысле произвольности (беззаконие в отношении должного), точно так же и игра лишена целесообразности должного и технически полезного, отличающей работу, но глубоко целесообразна в своей природной фактичности. Тем самым от исследования смысла игры, определения понятия ее в отличие от других видов человеческой деятельности, мы обращаемся к исследованию ее в ее причинно-следственной связи с другими фактами человеческой и даже вообще органической жизни, к выяснению ее происхождения и причин, ее питающих. Иначе говоря: от философской теории игры мы должны обратиться к ее психологически-биологическому объяснению.
Имеются три способа объяснения игры, говорит лучший исследователь психологии игры — Э. Г р о с5. Это — теория отдыха, теория избытка сил и теория упражнения или самовоспитания. Согласно первой теории, выдвинутой Ш т е й н т а л е м и Л а ц а р у с о м, игра есть «отдых более активного рода, который является в тех случаях, когда мы хотя и чувствуем потребность освободиться от работы, но еще не нуждаемся в полном спокойствии». Игра есть «деятельный отдых» в отличие от пассивного отдыха, или сна. Эта теория явно противоречит фактам и не в состоянии объяснить происхождение игры. «Ведь дитя играет не для смены занятий; оно играет утром, днем, вечером, пока только хватает сил; и когда оно устает от самой игры, то отдыхает во сне». Теория избытка сил, развитая С п е н с е р о м, говорит, что у высших животных, время и силы которых уже не поглощаются исключительно заботами о поддержании существования и у которых поэтому сохраняется некоторый избыток жизненной силы, отдельные духовные способности пользуются «более или менее продолжительным» отдыхом. Но так как всякий орган, отдыхая больше обычного времени, склонен развить снова свою деятельность, то при отсутствии внешнего повода для соответствующей настоящей деятельности вместо нее возникает подражание этой деятельности, из которого и происходит игра во всех ее формах. При этом в игре воспроизводятся подражательно те действия, которые особенно важны для сохранения жизни индивида. Эта теория, по мнению Гроса, более удовлетворяет фактам, но и у ней есть недочеты. Прежде всего подражание не есть постоянное свойство детской игры, а затем — нельзя объяснять происхождение игры наличием накопленного во время продолжительного отдыха и хлынувшего, наконец, через край запаса энергии. Здесь остаются еще следы теории отдыха. Игра возникает нередко без подражания (дети сплошь и рядом экспериментируют) и без предварительного отдыха затронутых в игре органов. Сам Грос предлагает третью теорию — упражнения или самовоспитания, которая нам представляется наиболее глубоко и в наибольшем согласии с фактами объясняющей природу игры. Грос исходит при этом из биологической постановки вопроса. Какова биологическая ц е л ь игры? «У высших живых существ, — говорит он, — особенно у человека, прирожденные реакции, как бы необходимы они ни были, являются недостаточными для выполнения сложных жизненных задач». Чтобы удовлетворять сложным условиям жизни высших существ, органы их должны приспособиться к функционированию. Для этого необходим более или менее длительный период приспособления органов к работе. Детство и есть период такой подготовки органов к самостоятельному, достаточному для поддержания жизни функционированию. Чем сложнее и дифференцированнее органы, тем длиннее пора детства. «Поэтому человеку дано особенно длинное детство — чем ведь совершеннее работа, тем больше подготовка к ней». При этом «выработка приспособлений приводится при помощи прирожденного человеку стремления к подражанию в теснейшую связь с привычками и способностями старшего поколения». Игра и есть «проявление, укрепление и развитие растущим индивидом своих органов и наклонностей из собственного внутреннего побуждения и без всякой внешней цели».
Интересно, что всем трем изложенным теориям соответствуют три взгляда на игру, которые последовательно были пройдены педагогикой. Если отвлечься от Платона, то можно сказать, что вплоть до Фребеля педагогика в сущности игнорировала игру как воспитательное средство. Игра есть забава, а не дело. Она не имеет образовательного значения и допустима лишь как отдых, с которым педагогике как таковой делать нечего. Игрой можно воспользоваться для образовательных целей, — таково второе, переходное, отношение к игре, соответствующее той переходной между теориями отдыха и упражнения теории, каковой является в сущности теория Спенсера. Теория Гроса, напротив, говорит, что игра имеет глубокий жизненный смысл, ибо, играя, ребенок готовится к работе. Она есть единственная и подлинная деятельность детства. Вся задача дошкольного образования поэтому сводится к правильной организации игры ребенка.
3
«Игра ребенка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение; заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй ее, отец!.. Игры этого возраста суть как бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве». «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе». В этих словах Фребель с классической ясностью формулировал отношение к игре современной педагогики. Игра есть естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в ученьи в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Это открытие Фребелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю последующую педагогику. Можно критиковать частности Фребелевской системы, можно даже совершенно отвергать весь дух ее, не соглашаясь с тем, как организовал Фребель игру ребенка. Но ч т о проблема дошкольного образования есть проблема организации игры, — это выше споров отдельных педагогических систем, так что для того даже, чтобы отвергнуть Фребеля, нужно уже ныне идти по им указанному пути.
В каком же направлении должна быть организована игра ребенка? То место, которое мы определили игре среди других видов человеческой деятельности, позволит нам легко ответить на этот вопрос. Игра должна быть организована так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок. Оставаясь игрой, она должна быть пронизана уроком, представляющим собою более высокую ступень деятельности. Несколько примеров помогут нам разъяснить это пока еще неопределенное утверждение. Совершенно неслучайно на латинском языке слово finis означает одновременно «цель» и «конец» (сравн. и французское fin). Цель представляет собою не что иное, как заранее представленный конец деятельности, а конец есть не что иное, как достижение цели. Поэтому если начатая раз игра кончается, то она скорее способна подвести ребенка к преследованию им в своей деятельности некоторой определенной и устойчивой цели, понемногу выделяющейся из самого процесса деятельности и вносящей в нее все большую и большую закономерность. Если, напротив, ребенок не оканчивает своих игр, но разбрасывается, кидается от одной игры к другой, то игра не подготовит его к уроку, и постановка ему определенной цели деятельности в уроке застанет его врасплох. Отсюда известное правило современной педагогики: организовывать игры так, чтобы дети приводили их к концу. Тогда, понемногу усложняясь, игра будет постепенно приучать их ставить все более и более отдаленные и устойчивые цели своей деятельности и тем самым, незаметно для самого ребенка, перейдет в работу. — Точно так же, если материал детской игры будет негибким, твердым в своем механическом постоянстве, т. е. если его будут составлять так называемые заводные и автоматические игрушки и игры с определенно предписанным ходом (лото и т. п.), то игра будет только забавой, времяпровождением, но не образовательной деятельностью. Если мы хотим, чтобы личность ребенка, напротив, росла в его игре, необходимо, чтобы материал его игр позволял поставление его деятельности постепенно все более усложняющихся и самостоятельно разрешаемых задач. А для этого он должен быть достаточно простым и вместе гибким, могущим быть по желанию усложняемым и упрощаемым. Отсюда изгнание из современной педагогики игрушек в обычном смысле этого слова и замена их играми- занятиями, материал которых (глина, бумага, краски, кубики, стройки и т. д.) прост, пластичен, допускает бесконечные степени усложнения, благодаря самой своей простоте таит в себе тысячу новых комбинаций, не может поэтому никогда наскучить ребенку. Играя таким материалом, ребенок не стоит на месте, повторяя каждый раз одно и то же, но подвигается вперед как личность, ставя себе все более отдаленные, сложные и устойчивые задачи для разрешения. Если в игре-забаве не просвечивает урок, то в игре- занятии этот будущий урок предчувствуется уже как ее сокрытый смысл. И опять-таки Фребелю принадлежит заслуга первого сознательного формулирования и проведения в жизнь этой идеи игр-занятий, проникающей всю современную педагогику. Наконец Фребель также с особенной силой подчеркнул и значение общественного момента в игре. Если ребенок играет один, то его произвол и каприз ограничиваются только силой внешних обстоятельств и собственной прихотью. Напротив, играя в обществе других детей, ребенок сталкивается с чужой волей, привыкает подчиняться закону общей деятельности: в такой игре, в ее понятном ребенку распорядке просвечивает уже дисциплина будущей общественной работы.
Мы привели намеренно самые простые и очевидные требования современной педагогики, касающиеся правильной организации игры. Их можно было бы привести множество. Задача наша здесь не в том, чтобы исчерпать их, а в том, чтобы показать, как все они вытекают из единого высшего принципа — принципа пронизания игры будущим уроком. В нем все они находят свое последнее оправдание и единство. Большего, чем формулировать этот принцип и подтвердить его отдельными примерами, педагогика не в состоянии и даже не в нраве делать. Предлагать конкретные правила того, как должна быть организована игра, — значило бы впадать в недостойную научной педагогики рецептуру. Вся суть нашего принципа в том и состоит, что он есть лишь руководящий, регулятивный принцип, который в каждом отдельном случае каждым отдельным воспитателем ( должен применяться в жизни по-своему — сообразно детям, воспитателю и обстоятельствам. В самом деле, что получится, если воспитатель вместо того, чтобы организовывать каждый раз игру по-своему, будет следовать точным, определенным рецептам так, как мы это имеет, например, у правоверных фребеличек и монтессорок, которые, стремясь в точности повторить своего учителя, предписывают детям в определенный час именно такие-то игры или такие-то занятия? Нетрудно видеть, что получится тотчас же уничтожение игры как игры, превращение ее в урок, а не пронизанность ее уроком. Детям будут поставлены определенные цели их деятельности, и все сведется к тому, что дети будут повторять показанное им воспитательницей; только вместо того, чтобы вслед за учителем повторять доказательство теоремы или грамматическое правило, они будут повторять рисунок, постройку из кирпичиков, плетение, песню или изобразительную игру в бабочку. Изменится только тема урока, но урок останется уроком и притом — плохим уроком, ибо, как мы увидим ниже, и урок не должен состоять в повторении учениками показанного учителем. Это мы и наблюдаем в большинстве детских садов ремесленного типа, отличающихся от приготовительных классов школы только темами детских занятий, но не способом, которым эти занятия ведутся. В результате такого преждевременного вырождения игры в работу восторжествует механизм, являющийся, как мы это уже знаем из классической критики Руссо, неизбежным следствием всякого преждевременного воспитания. Не следовать чужим рецептам, но создавать свое должен воспитатель. И потому научная педагогика тоже должна предлагать не рецепты организации игры, но лишь регулятивные принципы, в направлении которых игра должна быть организуема каждый раз по-новому. Искусство воспитателя и здесь состоит в том, чтобы быть творцом. Игра должна быть устремлена к уроку. Ибо, оторвавшись от урока, она вырождается в пустую забаву, способную на короткий срок занять, но не образовать ребенка. Но игра должна оставаться игрой, ибо, превратившись преждевременно в урок, она вырождается в бездушное и механическое занятие, повторение того, что показывают старшие. Между обеими этими крайностями должен провести воспитатель игру ребенка. Для этого нужна постоянная бдительность воли, не меньшая, чем та, которая спасает акробата, идущего по лезвию ножа, от опасности стать жертвой им же установленного механизма.
Теперь нам понятно, что это значит, что в игре должен просвечивать будущий урок как ведомая только воспитателю, но ребенком даже не подозреваемая цель. Тогда принуждение, неизбежное при организации игры и проявляющееся в подборе материала игры и в общем руководстве ею, будет обвеяно дыханием свободы, будет служить свободе. Личность ребенка будет расти как в поставлении себе все более и более устойчивых и отдаленных целей деятельности, так и в привычке подчинять свой каприз хотя и незримой, но все усложняющейся дисциплине. Игра тем самым будет переходить постепенно в работу, эту более высокую форму человеческой деятельности, ближе стоящую к творчеству, в котором только личность человека достигает вполне своей внутренней свободы. Выведенный нами из философского определения игры основной принцип ее организации вбирает в себя также и тс се задачи, которые естественно вытекают из се психологической сущности: если психологическая роль игры состоит в том, чтобы надлежащим упражнением развить и подготовить к будущей работе органы и способности человека, то очевидно в выборе материала для игры следует также иметь в виду не только рост человеческой личности, но и упражнение необходимых для будущей ее работы органов: развитие органов восприятия, речи, механизмов движения. Заслуга Монтессори в том именно и состоит, что она, правильно оценив психологическую роль игры, сделала отсюда надлежащие педагогические выводы и в своем «дидактическом материале» дала первую попытку научно обоснованной системы материала детских занятий. Это опять-таки ее бесспорная незыблемая заслуга, которой не могут не признавать также и те, кого общий дух ее системы воспитания не в состоянии удовлетворить. Философия и психология игры не противоречат друг другу, но находятся в гармоничном согласии: имея в виду основную цель нравственного образования — развитие личности человека, философия определяет ф о р м а л ь н ы е с в о й с т в а игры, как бы ее стиль, могущий наполняться разнообразным содержанием. Психология, напротив, имея в виду роль игры как средства развития психофизического организма человека, определяет м а т е р и а л игры по его содержанию, в его материальных свойствах; она говорит о том, чем должен играть ребенок, а не как он им должен играть. Воспитатель ребенка должен сочетать поэтому глубокое знание его психофизического организма с философской интуицией той цели, которую он намерен достичь своим образованием.
4
К аналогичным выводам придем мы также, если обратимся к рассмотрению вопроса о дисциплине, или о власти на ступени дошкольного образования. Мы знаем уже, что ребенок первоначально признает лишь одну власть и дисциплину — именно дисциплину силы. Объективность должного ему непонятна, он понимает лишь объективность природы. Отношение его к старшим есть прежде всего отношение слабого к сильному, беспомощного к могущему, бедного к богатому. Ребенок не только бессознательно подчиняется силе (отсутствию чего-нибудь, наиболее сильному впечатлению, наиболее могущественному влечению), но уважает и чтит также прежде всего силу. Тот, кто все умеет и все может, вызывает в нем чувство преданности и восхищения. И в этом отношении у ребенка того общего с дикарем, который, подобно Пятнице Робинзона, охотно признает над собою власть силы, в чем бы она ни выражалась. в физической ли силе, технической мощи или богатстве. «Употребляйте силу с детьми и разум со взрослыми: таков естественный порядок… Обращайтесь с вашим воспитанником соответственно его возрасту. Поставьте его сначала на его место и держите его на нем так, чтобы он не пытался сойти с него. Никогда ничего не приказывайте ему, что бы ни было в мире, решительно ничего. Не давайте ему даже вообразить, что вы притязаете иметь над ним какую бы то ни было власть. Пусть он знает только, что он слаб, а вы сильны; что в силу вашего и своего состояния он по необходимости в ваших руках; пусть он это знает, учится этому, чувствует. Пусть он с раннего возраста чувствует над своей головой суровое иго, которое природа возлагает на человека, тяжкое иго необходимости, пред которым должно склониться всякое конечное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, но никогда не в капризе людей, пусть узда, его удерживающая, будет сила, но не авторитет и не власть»7. В этих парадоксальных словах Руссо формулировал то, что мы называем аномным характером детства: отсутствие законосообразности должного при наличии естественной необходимости. Что это значит, что с ребенком надо говорить только языком силы? Какова должна быть эта сила, единственно понятная ребенку? После изложенного нами выше, нам нетрудно будет ответить на этот вопрос. Подобно тому как в игре, остающейся игрой, должен просвечивать будущий урок, точно так же и сила должна быть озарена чем-то высшим, чем сила. Тогда только ребенок, подчиняясь объективной необходимости природы, будет позади нее предчувствовать объективность должного и будет тем самым подведен к пониманию и к признанию закономерности в человеческих отношениях.
Что же это такое, что превышает силу, и что способно придать ей некоторое высшее достоинство? Это высшее, чем сила, мы называем авторитетом. Авторитет есть власть, которой мы подчиняемся не через простое принуждение (явное или сокрытое), но уже через некоторое добровольное признание. В подчинении авторитету есть уже момент положительной оценки, чего нет в подчинении простой силе. Силе я подчиняюсь потому, что не могу ей не подчиниться. Против авторитета я могу восстать, и если я все-таки подчиняюсь ему, то потому, что считаю должным ему подчиниться. Так я принимаю какой-нибудь взгляд или подчиняюсь такому-то велению потому, что этот взгляд или это веление высказаны лицом, мною уважаемым, которому я вообще верю, ценность которого я вообще признаю. Поэтому в авторитете есть уже момент добровольности, или свободы. Но с другой стороны подлинной свободы здесь еще нет: я все-таки подчиняюсь здесь чужому взгляду и чужому слову, принимая его па веру как некий извне данный мне закон. Постольку авторитет есть гетерономия. Но постольку также он не есть высшая, или последняя ступень. Нельзя не подчиниться силе. Достойнее уже подчиниться какому-нибудь слову потому, что оно высказано лицом, пользующимся моим признанием. Но еще достойнее подчиниться этому же слову потому, что я сам, подвергнув его собственному рассмотрению, признал его правильным. Подчинение собственному разуму и последовательности своего собственного действия есть высшая ступень подчинения, или автономия. Сила — авторитет — разум в широком смысле этого слова, включающий в себя науку, искусство и нравственность, — вот ступени властвования и подчинения, осуществляющие в себе все большую и большую степень свободы и личности. Только личность, (т. е. существо, относящееся критически к себе самому и к окружающим, может достичь высшей ступени подчинения — подчинения разуму как сверхличному началу, гнушающемуся всякой тени внешнего принуждения. Подчинение разуму, будучи высшей формой подчинения, не умаляет, однако, значения авторитета. Существование, совершенно отвергающее авторитет, было бы поистине невозможным. Можно иметь свои политические взгляды и критически относиться к законодательству и суду, но отвергать совершенно авторитет законодателя и суда значило бы отвергать самое право. Можно иметь свои собственные научные убеждения, но отвергать совершенно авторитет другого ученого, не принимать ни одного чужого слова, не проверив самому его правильность, — означало бы чрезвычайно затруднить собственную научную работу, распылить свое творчество на мелочи, не дойти до главного и существенного. Подчинение авторитету вредно, когда авторитет является высшей инстанцией властвования. Но поскольку вообще механизм полезен, будучи на службе у свободы, постольку и подчинение авторитету полезно, если только оно состоит на службе у разума, которому личность в последнем счете подчиняется.
Если, таким образом, непосредственно превышающая силу власть есть власть авторитета, то как следует понимать устанавливаемое нами правило организации силы: а именно, что окружающая ребенка сила вещей должна быть организована так, чтобы в ней просвечивал будущий авторитет? Несколько общеизвестных примеров легко пояснят это положение. Когда мы требуем от детей одного, а сами поступаем иначе, то очевидно, что сила, с которой мы заставляем их поступать так, а не иначе, будет представляться для них голой силой: если наши требования могут быть нарушены старшими и даже нами самими, то почему они не могут быть нарушены детьми? Только тогда, когда веления старших неукоснительно исполняются окружающими, когда они не простые приказы и слова, а сама объективная действительность, неизменно и всегда повторяющаяся, которую себе нельзя даже представить иной, как нельзя представить себе иной окружающую нас природу, — приказы будут не чем-то просто должным, а как бы формулированием существующего. На этом именно основано значение примера и последовательного с неуклонной точностью проводимого распорядка жизни. Если сегодня я запрещаю что-нибудь, а завтра это же Разрешаю, если одному ребенку разрешается то, что рядом запрещается другому, то опять-таки веления и запреты будут представляться ребенку голой силой, произволом сильнейшего, — в них не будет просвечивать закономерность должного, или авторитет. И обратно: авторитет должен быть явлен в образе ненарушимой природной необходимости. «Разрешайте с удовольствием, — говорит Руссо, — отказывайте с нежеланием. Но пусть все ваши отказы будут окончательны, пусть ничто не колеблет их. Пусть нет, однажды произнесенное, будет твердо, как железо, которое ребенок, исчерпав несколько раз свои силы, не будет впредь пытаться поколебнуть». Последовательность в действиях включает в себя также последовательность в словах, обеспечиваемую правдивостью в отношениях к детям.
Примеров, подобных приведенных выше, можно было бы привести множество. Они общеизвестны. И мы привели их не для того, чтобы лишний раз напомнить их, а для того, чтобы показать, что все они вытекают из некоего одного начала, в котором и получают свое оправдание. Этот основной принцип организации силы теперь должен быть ясен читателю. К нему же в сущности сводится и теория так называемого естественного наказания, впервые развитая Руссо. «Не налагайте на ребенка никакого наказания, говорит Руссо, т. к. он не знает, что значит быть виновным». «Не противопоставляйте его чрезмерным желаниям ничего кроме физических препятствий или наказаний, порождаемых из самих действий». «Никогда не надо налагать на детей наказание как наказание, но оно должно всегда приходить к ним как естественное следствие их дурного действия». Так, например, если ребенок сломал окно своей комнаты, «пусть ветер дует на него ночь и день. Не бойтесь насморка, ибо лучше, чтобы ребенок получил насморк, чем стал сумасшедшим»8. Спенсер9 еще подробнее развивает эту теорию естественного наказания: оно есть как бы реакция самой природы на поступок, и потому оно приучает ребенка рассуждать о последствиях своих поступков (вырабатывает в нем чувство ответственности), оно всегда справедливо и объективно, лишено элемента произвола. Наконец, оно не портит характера детей и воспитателей и сохраняет между ними добрые отношения. «Изолирование» ребенка, беспокоящего других, о котором говорит Монтессори10, противопоставляя его наказанию, есть в сущности то же самое «естественное» наказание: помещенный в углу комнаты отдельно от других детей за то, что он нарушил общественный порядок, «он мало-помалу убеждался, как выгодно быть членом общества, столь деятельно трудящегося на глазах у него, и у него рождалось желание вернуться и работать вместе с другими». «Это был предметный урок, куда более действительный, чем какие угодно слова учительницы». Во всех этих положениях современной педагогики проводится, как видно, мысль, что должное имеет быть явлено ребенку не в вице приказаний, слов, запрещений, но в виде объективной силы вещей, оно должно быть замаскировано как природная необходимость, единственно только и доступная ребенку на ступени аномии. А это и значит, что сила должна, оставаясь силой, быть пронизана будущим авторитетом. И тогда, начав с подчинения силе, ребенок постепенно перейдет в подчинение авторитету.
«Естественное наказание» не есть, конечно, реакция самой природы наподобие огня, обжигающего руки прикоснувшегося к нему ребенка. Разбитое стекло не вставляется у Руссо и дитя изолируется у Монтессори не самой природой, но воспитателем, замаскировавшимся природой. Здесь действует уже чужая воля воспитателя, но она действует так, как будто это была сила самих вещей. Должное является здесь не само по себе, оно только просвечивает в силе, возвышая ее до авторитета. Тем самым ясно намечаются оба возможных искажения организации власти на ступени аномии: сила старших может совершенно оторваться от авторитета, — тогда она вырождается в произвол, беспорядочное насилие и вместо того, чтобы развивать личность ребенка, культивирует каприз и своеволие. Или она преждевременно переходит в авторитет: должное является тогда ребенку в виде словесного увещания, приказа или запрещения или в виде механического наказания и награды. Тогда в результате получается чисто механическое подчинение, без сознания его необходимости, подчинение, вымогаемое неустанным надзором и ждущее малейшего ослабления этого надзора для того, чтобы вылиться в поступках, протестующих против непонятной и назойливой власти старших, ничего, кроме голой силы, за собой не имеющей. Искусство воспитателя и здесь опять-таки состоит в том, чтобы уметь провести своего воспитанника между обеими крайностями оторвавшейся от авторитета и преждевременно выродившейся в авторитет силы.
5
Теперь от общих положений педагогики дошкольного образования мы можем перейти к рассмотрению тех конкретных систем его, которые в настоящее время ведут в педагогике борьбу за преобладание. Две из этих систем, а именно системы Фребеля и, Монтессори, представляются нам типичными как в свою: достоинствах, так и в недостатках. Каждая из них, будучи пронизана единым духом, который последовательно проводится ею в деталях, Удачно схватывает один из моментов ступени аномии, игнорируя се другой момент. Схватить эту противоположность, всеми чувствуемую, но трудно поддающуюся абстрактному формулированию, не только интересно само по себе, по уяснение ее поможет нам развить подробнее пока только намеченные нами в общих чертах положения. Мы начнем, естественно, с с и с т е м ы Ф р е б е л я.
Современник Шеллинга, Фребель, как известно, кладет в основу своей педагогической системы философию тождества, привлекавшую его своим гармоничным и поэтическим взглядом на природу и человека. Единство объекта и субъекта, понимаемое как единство бытия и должною, природы и культуры, было основным принципом философии тождества. Его же делает исходным пунктом своей педагогической системы и Фребель. Культура есть продолжение природы: то, что д о л ж н о сделать человеку, заложено уже в самой его п р и р о д е в виде изначальных инстинктов. Воспитание человека сводится именно, по мысли Фребеля, к развитию в ребенке присущих ему от рождения инстинктов. Таких основных инстинктов Фребель насчитывает четыре: это инстинкт труда, знания, инстинкт художественный и религиозный. Ребенок от природы деятелен и любознателен, он от природы чувствует красоту и стремится к Богу, как к своему Отцу. Культивировать эти уже заложенные в ребенке инстинкты надлежащим подбором материала для его игр и занятий и составляет задачу воспитателя. Культура есть, однако, по мнению Шеллинга, не только продолжение природы, но ее раскрытие: то, что человеческая свобода должна еще явить в актах своего раздельного, всегда дифференцирующего творчества, — все это уже извечно предсуществовало в природе, но в нераскрытом еще виде, в смутном образе еще нерасчлененного единства. Воспитание человека, согласно Фребелю, есть переход от нерасчлененного единства к расчлененному единству многообразия. Заложенные в душе ребенка инстинкты образуют смутное единство: стремление к труду и знанию, к красоте и Богу переплетены друг с другом, преследуются не порознь, не определяют собою особой деятельности, но действуют сразу вместе. Игра — это и есть деятельность, в которой сразу, в смутном единстве проявляются все инстинкты. На вершине образования, в актах подлинного человеческого творчества, мы имеем расчлененное единство отдельных сторон человеческой деятельности: труд, знание, красота образуют здесь гармоническое единство, синтез уже выделенных в своем своеобразии направлений духа. Но, чтобы от нерасчлененного единства возвыситься до синтетического единства многообразного, необходимо пройти посредствующую стадию дифференциации, или расчленения. Так семя, кроющее в себе в слитном виде будущий цвет, должно предварительно распасться, разложиться на отдельные составные части. Воспитание человека, будучи раскрытием его природы, и знаменует собою этот процесс расчленения и дифференциации11.
«Во всяком знании есть истина, во всякой пылинке организация (целостность)», — говорит Шеллинг. Точно так же игра должна быть целостным актом души. Она должна удовлетворять сразу всем инстинктам, которые только позднее, в школе, будут развиваться каждый своим отдельным путем. Этим определяется подбор материала для детской игры. Мы знаем уже, что этот материал, но Фребелю, должен быть прост и одновременно таить в себе возможность своего непрерывного, отвечающего росту личности ребенка усложнения. Но наряду с этим он должен быть многосторонен, затрагивать сразу все струны детской души, таить в себе единство многообразия. Фребель перечисляет эти отдельные стороны: это — природа, число и геометрический образ, слово и речь, искусство, Бог. Каждая игра должна быть изучением природы, в ней должна развиваться арифметическая и геометрическая интуиция ребенка, одновременно она должна упражнять его речь, открывать ему красоту в природе и Бога в мире. Всякий материал для игры, как бы он ни был элементарен, должен удовлетворять в с е м этим сторонам человеческого духа. Фребель потому так отмечает мяч, как идеальный материал детской игры, что, играя им, ребенок учится постигать природу (например упругость, инерция), осваивается с основной геометрической формой шара, благодаря неожиданным и многообразным превращениям мяча в изображаемые им. предметы обогащает свою речь, схватывает красоту формы и игры цветов и т. д. Недаром самое слово мяч, по-немецки B-ALL, говорит Фребель, указывает на вселенную (Bild vom ALL), которая отражается в нем.как в некоем микрокосме12.
Все детали Фребелевской системы, изложенные им в его статьях, посвященных детскому саду, вытекают из указанного принципа. Возьмем ли мы известные шесть даров: мячики, шар, цилиндр, куб, кубики, кирпичики, — все они подобраны с тем, чтобы сразу удовлетворять всем инстинктам ребенка. Ознакомление с природой идет здесь рука об руку с усвоением геометрических форм, одновременно развивается также и художественный вкус ребенка, — и все это переплетается с развитием речи, благодаря называнию изображаемых постройкой предметов на фоне исполняемой детьми песни или выслушиваемого всеми рассказа. Тот же принцип определяет и материал детских занятий после пятилетнего возраста, к которому приурочен последний из шести даров. Плоские геометрические фигуры, цветная бумага, плетение, линии, воплощенные в прутиках, и точка — в семенах, лепка — каждое из этих занятий должно охватывать всю душу ребенка в целом, удовлетворять сразу всем его инстинктам и задаткам.
Уже из приведенных примеров видно, как это требование всесторонности игры влечет за собою характерную для Фребелевой системы наклонность к символизму, к пребыванию в мире воображаемого В системе Фребеля особенно подчеркивается тот момент игры, который мы выше назвали, следуя Дьюи, удовлетворением простым значением вместо воплощения в действительности. Мячик, кубики, кирпичики, прутики и семена — это не неодушевленные вещи Нет, это все символы, изображающие или окружающую жизнь животных и людей, или похождения сказочных героев. Рисование и лепка тоже пребывают по преимуществу в мире фантазии. Наконец и гимнастические игры суть игры изобразительные: лягушка и аист, гусеница, заключенная в темнице куколка и освобождающаяся из нее в виде бабочки — вот темы гимнастических игр, представляющих собою своеобразные мистерии, в которых дети одновременно и актеры, и зрители. И все это на фоне песни, неустанно раздающейся в детском саду, превращающей в хоровод не только гимнастическую игру, но и другие занятия детей.
Детский сад Фребеля тем и отличается от школы, что он не знает разделения труда, как это мы имеем в школе, представляющей собою организацию работы. Детская садовница сосредоточивает в себе все уменья и все знанья, она есть старшая в доме, если не мать, то тетя, или старшая сестра. По мысли Фребеля, стоявшего, вообще говоря, за семейное воспитание, детский сад не должен заменять семьи. Он должен скорее служить показательным воспитательным учреждением для матерей, которые у себя дома должны бы проводить идеи Фребеля. Но, с другой стороны, детский сад и не есть просто расширенная семья, школа уже предчувствуется в детском саду: она просвечивает в нем в той дисциплине и организации, которую требует и культивирует общее пение и общественная игра. Здесь нет еще работы, совокупно выполняемой всем классом, но есть уже задатки ее в виде совместно разыгрываемого действия. Если в школе класс объединяется целью, которую совокупными усилиями предстоит воплотить в действительность, то в детском саду толпа детей объединяется образом, который она совместно переживает или изображает.
Можно бы вообще сказать, что детский сад Фребеля носит на себе отпечаток своего рода миротворчества. Ведь для мифа характерно то, что он представляет собою нерасчлененное еще единство сознания. Миф отвечает на тс вопросы, разрешение которых впоследствии взяла на себя паука: вопросы о существе мира и силах, в нем действующих. Одновременно он повествует о Добре и Зле, о назначении человека как нравственной личности, о его должной линии поведения и о его падении. Вместе с тем в мифе заключен и кодекс правовых норм. Наконец, миф говорит о месте человека в мире, о его отношении в Божеству, о способах богопочитания. И все это излагается не посредством понятий и отвлеченного рассуждения, но в виде образов в художественной раме стиха, и часто даже не излагается, а совместно изображается хороводом. То, что впоследствии, в культуре дифференцировалось на отдельные пути науки, нравственности, права, религии и искусства, — в мифе живет в слитном, нерасчлененном единстве. Миф заключает в себе будущую культуру которую он и порождает, последовательно выделяя из себя религию, право, науку, искусство. Но это еще преддверие культуры, культура в образе природы. Как природа, миф стихиен, безличен: он не есть ответ па сознательно поставленный вопрос, не есть продукт индивидуального творчества Он соборен, или коллективен, существует как бы извечно, передаваясь из рода в род. — Разве дух Фребелевского детского сада не есть дух мифа? Слитное единство нерасчлененного сознания, культура в образе природы, не столько воплощение должного и преобразование действительности, сколько его символическое изображение, соборное хоровое действие, основанное не на разделении т р у д а, а на слиянии в общем ч у в с т в е, — разве все эти особенности мифа не являются также характерными чертами системы Фребеля? Поистине Фребель в прикладной философии, каковой является педагогика, извлек из философии тождества тс самые следствия, к которым к концу своей деятельности пришел и сам Шеллинг в своей «философии мифологии». Нам но крайней мере идеальная детская садовница, как ее мыслил Фребель, представляется в виде хорагета детского хора, зачинательницы и руководительницы игры, возникающей самопроизвольно, соборно протекающей и затрагивающей все стороны детской души. Ведь столь часто встречающаяся фребеличка, сверху вниз наклонившаяся к детям и назойливо хлопающая в ладоши, есть только грубое искажение детской садовницы, этого, но мысли фребеля, хорагета детских игр. Этим именно определяются ее педагогическая подготовка, круг характеризующих ее знаний и умений: математичка и естественница, рассказчица народных сказок, она одновременно должна уметь петь и рисовать, владеть множеством разнообразных рукоделий, а главное — обладать даром игры, способностью перевоплощения, той мудростью жизни, которая позволит ей сложные человеческие отношения и все разнообразие культуры символически явить детям в доступных им образах, играх и занятиях.
Уже из этой общей характеристики системы Фребеля видно, в чем состоит ее ограниченность. В руках эпигонов, всегда прилепляющихся более к сказанному, чем к по фазумсвасмому, ограниченность эта должна была со временем обнаружить ту таившуюся в ней односторонность, которая и была раскрыта последующей практикой фребелизма и подмечена уже критикой. Система Фребеля односторонне идеалистична, говорит критика, и это справедливо, поскольку речь идет именно о системе, о том, что Фребелем было явно сказано, что можно и повторять как то, что от него осталось тогда, когда глубокое знание жизни и ребенка, отличавшее самого Фребеля и переданное им немногим его непосредственным сотрудникам, стало уже достоянием прошлого. Отвлеченный идеализм Фребеля проявляется в его системе двояко. Прежде всего в оторванности от жизни, в том символизме, в силу которого дети пребывают исключительно в мире значений и воображения. Правда, у самого Фребеля мы имеем и детскую грядку и даже образцовый скотный дворик, которые, по мысли Фребеля, должны бы были приучить детей обращаться с растениями и животными и подготовить их тем самым к будущей более серьезной и систематической работе в саду и огороде. Но и здесь последователи Фребеля, завороженные символической изобразительностью, готовы скорее засадить грядку красивыми цветами, могущими дать пищу соображению, а скотный дворик заселить кроликами, нежели допустить детей к уходу за растениями и животными более практического и полезного значения. Особенно у представителей правоверного американского фребелизма это абсолютирование символа и воображения вырождается в прямую боязнь всего нового, заставляющую их, по остроумному замечанию Стэнли Холла, предпочитать изобразительную игру в чаепитие с символическими чайниками и чашками всамделишному чаепитию, в котором дети сами бы по настоящему накрывали на стол, варили чай и пили его13. Игра, так организованная, искусственно удерживаемая в плоскости простого значения, совершенно отрывается от будущей работы: цели, которые ставит себе ребенок во время игры, не могут уже путем постепенного усложнения и связанного с ним удаления от самого процесса деятельности превратиться в цели работы. Работа перестает просвечивать в игре как ее педагогическое оправдание, и, играя, дитя не приучается к работе. Отсюда такая резкая грань между правоверным фребелевским детским садом и школой: детский сад игнорирует школу, не служит к ней подготовкой. Вступая в школу ребенок начинает сызнова свое образование, школа не в состоянии использовать полученные ребенком в детском саду знания и умения. Еще один шаг, и игра готова совсем уже выродиться в забаву, довлеющую себе, способную только занять детей, но не возвышающую их над ними самими, бессильную подвести их к чему-то высшему, чем она сама.
Тесно связанной с этим оказывается и вторая особенность фребелевского идеализма. Обосновывая педагогическое значение того или иного занятия, того или иного материала детской игры, Фребель почти совершенно игнорирует особенности психо-физиологической организации ребенка. Ему совершенно чуждо то биологическое понимание игры, которое развивает современная психология и согласно которому жизненное значение игры состоит в упражнении тех органов и способностей ребенка, которые участвуют в будущей работе взрослого человека. Детали материала детской игры обосновываются им чисто рациональным образом, путем отвлеченного анализа этого самого материала, в своей абстрактности вырождающегося иногда в комично-глубокомысленный анализ слова, как мы это имели с случае с мячом, немецкое н а з в а н и е которого будто бы оправдывает уже его педагогические достоинства. Какие органы и психические способности ребенка и в какой мере развиваются при тех или иных занятиях, — этот вопрос, решить который может только наблюдение и эксперимент, Фребелем оставляется в стороне. Неудивительно поэтому, что современная гигиена могла забраковать некоторые фребелевские занятия, например плетение из цветных бумажек, как вредно отражающиеся на зрении детей. Вполне понятно, что Фребель не знал тех психологических теорий, которые возникли уже после него и в значительной мере благодаря тому интересу к душе ребенка, который он возбудил всей своей деятельностью. Но то, что у самого Фребеля было только односторонностью, являющейся неизбежным уделом даже самых величайших открытий, превращается у его излишне правоверных последователей в самодовольную ограниченность, игнорирующую данные современной психологии и физиологии и дающую лишний толчок вырождению игры в забаву, — опасность, которую и без того уже, как мы знаем, таит в себе фребелевская система.
6
Именно эти фребелизмом пренебрегаемые психология и физиология являются исходным пунктом с и с т е м ы М о н т е с с о р и. Физиолог по образованию и врач по профессии, Монтессори пришла к своей системе воспитания после многолетнего изучения детского организма и продолжительной педагогической практики с ненормальными и отсталыми детьми. Ученица Сегена и Итара, врачей-педагогов, разработавших методы воспитания дефективных детей, Монтессори, как она сама говорит, пришла к мысли применить эти приемы воспитания, давшие столь блестящие результаты, и к нормальным детям. Она обращает совершенно исключительное внимание на гигиену ребенка, вменяет воспитательнице в обязанность тщательно следить за развитием его психофизического организма; антропометр (педометр), весы и другие приборы антропологического исследования ребенка являются необходимой принадлежностью «Дома ребенка». Свой метод Монтессори называет методом «научной педагогики» именно потому, что он весь основан, по ее мнению, на физиологии и психологии. Это — «экспериментальная педагогика». Монтессори готова даже назвать ее медицинской педагогикой, так неразрывно связаны в се системе медицина, как совокупность наук о жизни человеческого организма, с педагогикой14. И во втором отношении Монтессори решительно противостоит правоверному фребелизму. Если Фребель на детский сад смотрел преимущественно как на школу матерей, то Монтессори, не отвергая и этой функции «Дома ребенка», видит в нем уже определенно замену семейного воспитания. Заменяя семью, «Дом ребенка» не отделяет детей от родителей, но как бы «социализирует» семью. Отсюда жизненно-практический характер, на котором настаивает Монтессори в противоположность правоверному фребелизму. Одну из главных задач своего воспитания Монтессори видит в подготовке детей к жизни, они должны научиться сами одеваться, умываться, накрывать на стол, есть отчасти готовить, мыть посуду, убирать комнату, каждый ребенок должен уметь убрать свои игрушки, дети должны по возможности обходиться без помощи взрослых, чтобы стать самостоятельными. «Дом ребенка» должен подготовить детей к школе, снабдить их теми навыками и уменьями, которые необходимы для самостоятельной школьной работы, в частности, научить их чтению и письму15.
Уже обстановка «Дома ребенка» соответствует этому его житейски-практическому уклону. Монтессори упраздняет парты и скамейки. Вместо них она заказала легкие маленькие стулья креслица и столики, за которыми могут работать от одного до троих детей, и которые дети сами могут переносить. Материал для занятий «дидактический материал», как его называет Монтессори хранится в длинных низеньких шкафах, расположенных вдоль стен комнаты так, что лети сами могут открывать их и класть в них учебные пособия. Посуда, которою дети пользуются при еде, такова, что дети сами могут ее мыть, подавать и убирать в порядке дежурств. B передней имеются маленькие умывальники, которыми дети самостоятельно пользуются по приходе в «Дом». При «Доме имеется площадка для игр с уголком, отведенным для огорода и снабженным соответствующими возрасту детей орудиями. Домашние работы и «житейские упражнения» входят в программу занятии, и постольку именно Монтессори говорит о д о м е ребенка, а не о саде: по ее мысли это в полном смысле слова детский дом, в котором дети должны быть сами хозяевами и работниками.
Однако этот социальный и жизненно-практический момент стоит все же на втором плане. «Цель воспитания, — но выражению Монтессори, — развивать силы», и этой целью определяется всецело характер того «дидактического материала», которым преимущественно заняты дети «домов ребёнка» и который составляет, несомненно, центр всей системы Монтессори. Описание этого материала не входит в нашу задачу, тем более что ознакомиться с ним возможно, лишь увидав его на деле или по крайней мере прочтя его подробное описание в книжках самой Монтессори16. Мы здесь ограничимся только уяснением общего духа «дидактического материала». Монтессори ставит задачей «дидакт. материала» развитие отдельных органов человека. преимущественно развитие чувства. Она чрезвычайно дифференцирует различные чувства, при чем для каждого из них в отдельности подбирает соответствующий материал, упражнения с которым способны развить его до максимальной степени. Так для воспитания тактильного чувства служат наборы гладких и наждачных дощечек, карточек и разных материй. Термическое чувство упражняется набором металлических чашечек, наполненных водою различных температур. Барическое (чувство тяжести) — набором одинаковых по размеру, но разных по весу деревянных дощечек. Для развития стереогностического чувства (ощупывания) Монтессори пользуется фребелевским набором кирпичиков и кубиков. Соответствующим образом воспитываются глазомер и чувство формы и цвета. Слух развивается с помощью набора, состоящего из двух рядов по 13 колокольчиков и 4-х молоточков (распознавание тонов), и серии свистков (распознавание звуков). Исходя из той мысли, что задача воспитания — развитие всех сил человека, Монтессори не оставляет без внимания и чувство вкуса и обоняния: для упражнения их служат наборы разных порошков и конфет и наборы различных продуктов, как свежих, так и испорченных. Для каждого чувства подбирается специальный материал, и это изолированное упражнение отдельного чувства усугубляется еще особым «методом изолирования»: так например слуховые, тактильные и термические упражнения происходят с повязкой на глазах, т. е. при выключении чувства зрения и т. и.
Аналогичным образом протекает воспитание движений, в значительной мере сводящееся к упражнению участвующих в разных двигательных процессах мускулов: кроме системы специально разработанной гимнастики для этого служат упражнения с застегиванием и расстегиванием пуговиц (специальный прибор), шнурованием, специальная гимнастика дыхания, губ, зубов и языка. Воспитание умственной деятельности, которая для защищаемой Монтессори сенсуалистической точки зрения есть не что иное, как сочетание восприятия с моторными процессами, сводится к комбинированному упражнению органов чувств и двигательных процессов: сюда относятся «уроки номенклатуры», связанные с упражнением с геометрическими вкладками (обучение форме и цветам) и усложняемые наблюдением окружающей среды под руководством учительницы, игра с вырезанием геометрических фигуp, рисование но разработанной система (штриховка черная, затем цветная и т. д.), ленка, игры с наименованием цветов и их оттенков и т. и. Все это завершается упражнениями, имеющими целью своей введение в арифметику (упражнения с цифрами, «уроки с нулем», упражнения на запоминание цифр), и наконец кульминируется в приобретшем особую известность методе обучения чтению и письму.
В основе этого метода лежит психофизиологическое изучение письма, анализ тех двигательных механизмов, которые участвуют в процессе писания. Этот анализ показывает, что дети затрудняются писать не потому, что они не знаю букв, а потому что у них недостаточно еще развились те органы (например соответствующие мускулы кисти руки), которые участвуют в процессе письма. Следовательно, первоначальная задача обучения письму сводится к тому, чтобы надлежащим подбором упражнений подготовить к процессу писания соответствующие органы. Это и делает Монтессори: обучение письму по се методу начинается с рисования геометрических фигур, от чего ребенок переходит к их заштриховыванию (этим устанавливается мускульный механизм необходимый для управления орудием письма). Затем только ребенок приступает к обведению пальцем писанных букв, вырезанных из наждачной бумаги и наклеенных на картон, чем устанавливается ассоциация мускульно-тактильного ощущения со зрительным. Только после этого соответствующие буквы называются ребенку, в результате чего зрительное и мускульно-тактильное ощущения ассоциируются со слуховым. Затем следуют подробно разработанные упражнения в составлении слов из сделанных букв и в их писании. Процесс обучения письму, таким образом, тесно сочетается с обучением чтению в элементарном смысле этого слова, понимая под чтением чисто механический процесс перевода зрительного восприятия в звуки. Чтение в Смысле восприятия понятий при помощи писанных слов следует потом, завершая собою весь процесс обучения чтению и письму. Своеобразие этого метода состоит в том, что письму дети научаются не путем писания, а путем упражнения в подготовительных к письму действиях (в частности, путем рисования и штриховки). Они научаются писать до того, как приступают к письму, и потому начинают писать сразу, вдруг или самопроизвольно или когда учительница, убедившись из наблюдения над их упражнениями в штриховке, что их мускульный механизм достаточно подготовлен к процессу письма, предлагает им написать какую-либо букву или слово. Весь процесс обучения письму и чтению, начиная от подготовительных к нему упражнений и кончая самостоятельным писанием письма, занимает чрезвычайно мало времени. Так, по свидетельствую Монтессори, двое из ее малюток четырех лет менее, чем в полтора месяца, научились писать так, что написали каждый от имени своих товарищей по письму с добрыми пожеланиями инженеру Таламо. И притом, как может убедиться читатель книги Монтессори из приложенных к ней фотографий, написали эти письма почти что каллиграфически, — в то самое время, когда ученики элементарных школ, обучающиеся по обыкновенному методу, в целый год еле овладевают механизмом чтения и письма.
Следует ожидать, что изолированность отдельных чувств, характеризующая систему Монтессори, по необходимости должна продолжаться и внутри детского общества, в отношениях детей друг к другу. Метод Монтессори есть в значительной мере метод гимнастики, который каждый из учеников должен проделывать в отдельности, и где коллективное упражнение возможно лишь в виде одновременного повторения всеми одних и тех же движений, как это мы имеем при обучении строевой службе или в ритмической гимнастике. И действительно, если детский сад Фребеля в идее своей напоминает хор, основанный на контрапунктическом согласии многообразного, то дом ребенка Монтессори более походит на собранную вместе кучу детей, то занятых каждый своим особым делом, то в унисон производящих одинаковые движения. Монтессори в начале своей книги решительно отвергает всякого рода коллективные уроки, она настаивает на индивидуальном воспитании, понимая под ним изолированные занятия учительницы с каждым ребенком в отдельности17. Поэтому она и считает возможным соединение в доме ребёнка детей столь различных возрастов, как двухлетки и шестилетки. Каждый ребенок, по ее мысли, занимается чем хочет и как хочет, согласно своим склонностям и вкусам. В этом отношении детям должно предоставить полную свободу. В самых решительных выражениях Монтессори восстает против рабства обыкновенной школы и обычного детского сада, в которых учительница навязывает всем детям одни и те же определенные занятия. Парты, даже самые усовершенствованные, пригвождая детей к определенному месту в классе, символизируют для нее рабский дух старой школы. В Доме ребенка дети располагаются со своим дидактическим материалом как хотят, по-своему расставляют столики и стулья, устраиваются по желанию на полу «работают» то в одиночку, то кучками по двое по трое, переходят с места на место, подходят к учительнице («директрисе»), когда им понадобится и т. п. Идеал свободного воспитания до того владеет умом Монтессори, что, читая ее, кажется иногда, что читаешь Руссо. Совершенно в духе Руссо она отвергает всякие наказания и тем более награды. «Подчинять волю ребенка посторонней воле недопустимо, как всякое насилие», — говорит она почти что словами Толстого, высказывая все эти мысли со страстностью человека, впервые открывшего новую истину. Совершенно в духе Руссо высмеивает она шумливое и назойливое многоделание обычного учителя, выставляя для своей «директрисы» идеал ничегонеделания. — Легче одеть и накормить ребенка, чем сделать так, чтобы он сам одел себя и накормил, говорит она. Но делать что-нибудь за другого — обязанность слуги. Воспитатель не должен быть слугою. Задача учителя — только «бросить луч света и пойти дальше». Его главная добродетель — не показывать, не рассказывать, а наблюдать. Воспитательница должна проникнуться, по ее словам, духом натуралиста, наблюдающего природу. Хорош был бы натуралист, который предписывал бы природе ее ход и, недовольный медленностью ее процессов, ускорял бы темп их развития! Объективность, свойственная наблюдению природы, — вот высший долг воспитателя.
Правда, в «специальной части» своей книги, излагая свой педагогический опыт, Монтессори по необходимости отступает от своих столь резких первоначально формулировок. Она признает, что в обществе, а значит и в доме ребенка свобода может быть только «относительная»: «свобода ребенка имеет пределом общие интересы». «Необходимо избегать подавлять непосредственные движения, стремления детей, за исключением поступков бесполезных и вредных, которые должны быть подавляемы и пресекаемы… Следует бороться и мало-помалу уничтожать все поступки детей, которые не могут быть допущены», — говорит она. В той самой главе, где она говорит об упразднении наказаний, она рассказывает, что в ее практике не раз обнаруживались Дети, «которые беспокоили других, не обращая ни малейшего внимания на наши увещания». Таких детей, продолжает она, мы изолировали в углу комнаты. «Поместив его в удобное креслице, мы сажали его так, чтобы он видел своих товарищей за работой, давали ему его любимые игрушки и игры». Такая изоляция, хотя и связанная с принуждением, но лишенная момента угрозы и явного осуждения, почти всегда успокоительно действовала на ребенка. «Таким путем удавалось дисциплинировать всех детей, сначала казавшихся неукротимыми»18.
Почему же Монтессори, так много говорящая о социальном воспитании, сама в своем доме ребенка в состоянии осуществить лишь низший вид социального единства — механическое единство унисона? Ответив на этот вопрос, мы тем самым вскроем основную ограниченность всего ее метода и таящуюся в нем опасность, прямо противоположные недостаткам фребелевской системы. Если Фребель, исходивший из философской системы Шеллинга, был в своем небрежении психофизиологического организма ребенка односторонне идеалистичен, то ограниченность Монтессори, напротив, состоит именно в том, что она обосновывает свою систему исключительно на физиологии и психологии, пренебрегая совершенно философской стороной вопроса. Резче всего это сказывается на ее понятии развития. Развитие ребенка сводится для нее исключительно к развитию сил способностей организма: развитие мускулов, грудной клетки, зрения, осязания, слуха и т. д. Понятие образования определяется ею всецело м а т е р и а л о м, подлежащим воспитанию. Что должно воспитать? — вот вопрос, который она только и ставит, естественно отвечая на него: надо воспитать в человеке все, что только находит и нем физиология и психология! Поэтому она вполне последовательно включает в свою систему воспитания и воспитание, например, вкуса и обоняния, не задавая себе даже вопроса: д л я ч е г о необходимо развитие этих чувств, какую ц е л ь может оно преследовать. Вопрос о ц е л я х образования, как чисто философский вопрос, ею, естественно, не затрагивается. А между тем — даже максимальное развитие органов восприятия и движения обеспечивает ли на деле то, что мы называем идеалом развитого человека? Разве виртуозная тонкость в различении оттенков цветов и глазомер, не уступающий глазомеру дикаря, не сочетаются часто с полным непониманием живописи и рисунка, а способность улавливать тончайшие шумы и наличие даже абсолютного слуха — с банальным музыкальным вкусом, предпочитающим пошлую слащавость глубокой и серьезной музыке? Ведь художественное восприятие есть восприятие не вещества, по его живописного или музыкального смысла, и потому для понимания живописи или музыки далеко недостаточно развитого зрения и развитого органа слуха. В этом смысле глубоко прав был Платон, говоря, что мы постигаем не зрением и слухом, но только через п о с р е д с т в о зрения и слуха. Как можно слышать слова и не понимать их значения, так можно видеть и различать цвета картины и слышать все составляющие аккорды тона — и все же Не увидеть картины и не услышать сонаты или симфонии. Но то же самое применимо и к научному развитию человека: глазомер, барическое, термическое и тактильное чувства могут быть обострены до крайности, обоняние может соперничать с нюхом хорошей охотничьей собаки, — и при всем том человек может в умственном отношении (точнее, в отношении способности познания окружающей природы) быть совершенно неразвит. Художественное и научное развитие человека явно не совпадает с развитием его психофизиологического организма. Всесторонне развитой человек — это не тот, у которого развиты зрение, слух, осязание, обоняние, но прежде всего тот, кто приобщился ко всем ценностям культуры, т. е. владеет методом научного мышления, понимает искусство, чувствует право, обладает хозяйственным складом деятельности. В этом отношении Фребель гораздо глубже понимал задачу образования ребенка, замечательно, что он говорит не о развитии чувства зрения, слуха и осязания, но о развитии чувств (или инстинктов) труда, знания, красоты, религиозного чувства. Ему предносится культурное содержание, которое человек должен активно усвоить, и задачу образования ребёнка он видит в равномерном и целостном приобщении его к многогранной целокупности культуры, включающей в себя хозяйство и науку, искусство и религию. Уже в этом различном употреблении двусмысленного слова «чувство» резко проявляется различие фребелевского идеализма и натурализма Монтессори. Для Фребеля чувство определяется усваиваемым содержанием, культурной целью, и он говорит о чувствах ч е г о — труда, знания, красоты. Монтессори, игнорируя цель образования, употребляет слово чувство в смысле материала, подлежащего преобразованию, говоря о чувствах тактильном, зрительном, слуховом, барическом, термическом и т. п.
Следует ли отсюда, что воспитание внешних чувств, столь усовершенствованное Монтессори, — ненужная и пустая затея? Отнюдь нет. Если мы и познаем не слухом и зрением, то все же через посредство слуха и зрения, и потому воспитание внешних чувств — совершенно необходимый элемент образования. Но оно далеко не есть все образование, и, более того, оно должно быть подчинено подлинным целям образования и происходить в меру, потребную для этих целей, хотя, быть может, в первоначальном воспитании оно по необходимости и будет занимать весьма много места. Зрение, слух, осязание несомненно должны быть развиваемы, но не до крайности, не безгранично, а в меру, поскольку это нужно для деятельности знания, искусства и хозяйства, орудиями и средствами которых они являются, а главное также не самодовлеюще, а в связи с познавательным, художественным и хозяйственным развитием ребенка. От специального же развития вкуса и обоняния мы, пожалуй, заранее откажемся, и с более легким сердцем, чем Монтессори, сама меланхолично заявляющая, что опыты ее в этом отношении не привели к сколько-нибудь удовлетворительным результатам19. И постольку мы, быть может, будем более верны самим психологии и физиологии (лишний пример того, что натурализм, суеверно относящийся к естествознанию, противоречит его же собственным данным). Ведь не случайно, а в силу закона порога ощущений мы воспринимаем ощущения только средней интенсивности: чрезмерное обострение наших органов восприятия может оказаться не только образовательно бесполезным, но и биологически вредным, означая излишнюю затрату нашей нервной и душевной энергии, а в иных, крайних случаях — до того несносным, что может потребовать даже медицинского вмешательства20. Система Монтессори отрицает все, могущее так или иначе питать воображение. Она отвергает изобразительные игры, отрицает даже сказки, как уводящие ребенка в мир ирреального. Развивая чисто сенсуалистическую теорию воображения21, Монтессори знает одно лишь пассивное воображение, которое есть не что иное, как подражательно-произвольная комбинация воспринятых элементов реальности. То, что психология называет творческим воображением, есть для нее лишь усложненное пассивное воображение. Детское творчество ею решительно отвергается. В этом отрицании детского творчества Монтессори несомненно отчасти права: теория и практика дошкольного образования действительно злоупотребляют термином творчество. Творчество в подлинном смысле слова означает создание в мире чего-то нового, до сих пор не бывшего. Акт творчества есть незаменимый и постольку индивидуальный акт, делающий создателя его в свою очередь незаменимым и индивидуальным членом культурного человечества. Так даже виртуоз или актер, играющий давно нам знакомую пьесу, творит постольку, поскольку он своей игрой открывает нам совершенно новую, дотоле от нас сокрытую сторону, некоторый новый оттенок всем известного образа. Творчество предполагает способность самостоятельной постановки отдаленных целей и уменье напряженно и неуклонно трудиться в преследовании раз поставленной им цели. Оно предполагает мужественную готовность жертвовать ради поставленной цели всеми мимолетными впечатлениями, соблазнами, манящими возможностями, открывающимися нам по пути преследования этой цели. Только личность творит в подлинном смысле слова, ребенок же обладающий лишь темпераментом, играет, увлеченный своим воображением. Автономную деятельность творчества, которая даже в актах искусства, по-видимому уводящих нас в мир ирреальных образов, направлена всегда не преобразование действительности, на победу над веществом, нельзя поэтому смешивать с аномной деятельностью игры, удовлетворяющейся всегда простым значением и приблизительным его воплощением в действительности. Поэтому разговоры о детском творчестве действительно теоретически двусмысленны, а недавно бывшие еще в моде затеи с украшением стен классов исключительно детскими рисунками (с изгнанием картин мастеров), детскими выставками, вплоть до роскошно издаваемых детских журналов (поскольку они не имеют научно-показательного значения) — практически вредны, внушая детям преувеличенное представление о ценности их деятельности и слишком поверхностное — о работе подлинных творцов и обнаруживая только снобизм их авторов, которые в обращении к примитиву ищут исцелений от собственного творческого бессилия.
Если, таким образом, Монтессори права в своем отрицании детского творчества, следует ли отсюда и то отрицание воображения, которое отличает всю се систему? Существо игры, мы знаем, состоит в том, что, бессильная преобразовывать реальность, она удовлетворяется образом фантазии. Не приводит ли отрицание фантазии к уничтожению игры? И действительно, про детей Монтессори меньше всего можно сказать, что они играют. Совершенно неслучайно Монтессори говорит о «дидактическом материале», об индивидуальных у р о к а х, о б у р о к а х тишины, «директрису» называет учительницей, а самую комнату, где дети занимаются со своим дидактическим материалом, — комнатой «умственного труда». В противоположность правоверному фребелизму, таящему в себе, как мы видели, опасность вырождения игры в забаву, система Монтессори кроет в себе опасность преждевременного превращения игры в урок, т. е. в работу, цель которой поставлена работающим другими. Но преждевременный урок неизбежно означает торжество механизма. В самом деле, живущий только в настоящем, не умеющий еще отделять цели своей деятельности от самой деятельности, ребенок, которому задали урок, сможет только повторять показанное ему учителем, но не работать самостоятельно, идя своим путем к поставленной ему другими цели. Его личность не будет расти в этой навязанной ему работе, и чувство однообразия и скуки будет ее неизбежным спутником. Рост личности ребенка требует все усложняющегося материала, который, будучи достаточно разносторонним, обращался бы к его душе, как к целому. В этом глубокая правота системы Фребеля. Монтессори, напротив, исходя из своей сенсуалистической философии, смотрит на душу ребенка как на простую сумму отдельных органов чувств. Если Фребель оценивал материал детской игры прежде всего в зависимости от того, насколько в нем отражается целокупность окружающего ребенка мира, и насколько он сразу заставляет звучать все стороны души ребенка в целом, то дидактический материал Монтессори, напротив, строго приноровлен к отдельным чувствам: монотонное застегивание и расстегивание пуговиц сменяется столь же однообразными занятиями с вкладками, эти последние — упражнениями с наждачными буквами и т. д. Вместо единой целостности зарождающейся личности ребенка мы имеем простой агрегат отдельных мускулов и органов восприятия, упражняемых монотонной гимнастикой. Следствием этого же натурализма, для которого целое есть всегда лишь, простая сумма частей, и является упомянутое выше отрицание коллективных занятий и игр. Единство унисона, в котором одно и то же однообразно повторяется всеми, а вообще говоря, единство одного только помещения, в котором каждый ребенок отдельно занимается со своим материалом22, — как глубоко отлично это от хорового начала, пронизывающего собою детский сад Фребеля! Но целостность детского общества, как и целостность отдельного ребенка возможны лишь там, где дети играют, а стихия игры есть воображение. Развитие чувств и двигательных аппаратов имеет цену лишь тогда, когда чувства и мускулы не довлеют себе, но когда они служат какому-то делу, доступному и понятному ребенку. Но первоначальная деятельность ребенка есть питаемая воображением игра. Ярче всего ограниченность этого вытекающего из натуралистического атомизма и ведущего к механической пассивности понятия развития проявляется в результатах известного нам метода обучения письму. В течение полутора месяцев четырех- и пятилетние дети научаются писать с изумляющей нас каллиграфичностью. Но отвлечемся на время от правильности и изящества выведенных детьми буки и обратим внимание на с о д е р ж а н и е написанного. Что пишут дети Монтессори? «Мы желаем доброй Пасхи инженеру Таламо и начальнице Монтессори». «Я хочу добра г-же директрисе, моей учительнице г-же Массе Сильвии и также д-ру Марии Монтессори. Дом Ребенка, улица Камианьи» и т. д. Мы не отвергаем возможности обучения чтению и письму в дошкольном возрасте. Мы считаем даже желательным, чтобы в школу ребенок поступал, умея уже читать и писать. Но тогда обучение следует поставить так, чтобы чтение и письмо были для чего-то нужны ребенку. Если же они употребляются только для того, чтобы писать официальные поздравления начальству и первые попавшиеся, явно подсказанные учительницей слова, то очевидно, что занятие ими будет чисто механическим занятием; которое не может скоро не надоесть ребенку, в котором не будет проявляться его активность и не будет расти его зарождающаяся личность. Чтение и письмо должны быть нужны ребенку. Это значит, что они должны быть предметом его руководимой воображением игры26. Как мы установили это выше, воображение тоже не должно довлеть себе. Правильная организация игры состоит в том, чтобы, играя, ребенок постепенно приучался к работе. Это значит, что, удовлетворяясь первоначально минимальным воплощением своего образа фантазии, он должен постепенно приучаться к более сложному и конкретному воплощению его в реальности. Тем самым цели его деятельности будут становиться все более устойчивыми и будут постепенно выделяться из самой деятельности, пока, наконец, воплощение образа фантазии в действительность не подведет его вплотную к преобразованию действительности, т. е. к работе. В этом усложнении и упрочнении преследуемых ребенком целей, связанном неизбежно с расширением его культурного кругозора, с усвоением им все расширяющегося культурного содержания, и будет заключаться рост его личности. Но одно — подводить постепенно игру к работе и воображение к реальности, другое — их отрицать сразу же и совершенно. Мы готовы согласиться с Монтессори, что воображение не есть творчество, что оно кроет в себе моменты произвола, пассивности, что оно ниже ясного и точного восприятия реальности23. В этом именно и состоит пункт нашего расхождения с правоверным фребелизмом с его символичностью, придающей воображению самодовлеющее значение. Воображение должно быть отменено. Да, — но подобно тому как принуждение вообще может быть уничтожено не путем простой отмены, а путем постепенной борьбы с ним самого принуждаемого, точно так же и воображение может быть не отменено, а преодолено самим ребенком. Оно должно быть «снято» (aufgehoben) в уроке, как преодоленный им, но и сохраненный в нем момент24. А для этого надо не упразднять воображение, а организовать его в указанном нами направлении. Питаемая воображением игра ребенка не есть творчество. Да, но это есть единственная доступная ему активность. Ошибка Монтессори состоит в том, что, отрицая творчество ребенка, она выбрасывает за борт и его активность.
Такт опытного, вдумчивого педагога, готовность сознаваться в собственных ошибках, глубокое знание детской психологии и умение наблюдать ребенка, отличающие самое Монтессори, ослабляют в се руках указанную опасность механизации деятельности ребенка. Хоровым пением, беседой, переходящей иногда почти что в сказку, культивированием религиозного чувства и всей своей увлекающейся и увлекающей личностью Монтессори сглаживает недочеты своего метода и предотвращает кроющуюся в нем опасность. Там, где, как например в Англии, Швейцарии и Америке, имеется традиция подлинного и опытными руками осуществляемого фребелизма, применение метода Монтессори по-видимому только способствует обновлению дошкольного образования. Но для этого нужно, чтобы метод этот применялся не догматически и сопровождался тем же духом искания, который свойствен самой Монтессори. Там же, где этого не будет, где восторжествует новое монтессорианское правоверие, мы будем несомненно свидетелями и торжества механизма25.
7
Противопоставлением систем Фребеля и Монтессори мы можем закончить наш очерк теории дошкольного образования. Мы намеренно избрали для конкретизации наших общих положений обе эти системы потому, что каждая из них, односторонне выделяя один из существенна моментов игры, содержит в себе, наряду с внутренней правдой, и опасность, типичную для всех попыток ее организации. Правота Фребеля в том, что, определив естественную деятельность ребенка как игру, он выделил питающий ее момент воображения и подчеркнул необходимость для игры разносторонней целостности, как в смысле отражения в ней всей целокунности природы и культуры, так и в смысле обращения ее к целостной душе ребенка. Детский сад он правильно представлял себе в виде хора, в играющем единстве которого как бы просвечивает будущее единство трудового школьного общества. В основе этого воззрения на сущность игры лежало глубоко продуманное понятие развития человека в смысле приобщения ребенка к культуре во всей целостности ее духовного содержания. Одностороннось Фребеля состояла в том, что, исходя из чисто философского понятия игры, он игнорировал ее психо-биологическое значение и придавал воображению и самой игре слишком самодовлеющее значение. Отсюда крайность мечтательного символизма, опасность вырождения игры в забаву, чрезмерного отделения детского сада от школы, которой он должен был бы служить подготовкой. В основе этой ограниченности Фребеля лежал, как мы знаем, унаследованный им от Шеллинга отвлеченный идеализм с его мифологическим пониманием природы как нераскрытой культуры, и игнорированием поэтому реальной психофизиологической природы ребенка, природы врачей и натуралистов.
В выделении этого психофизиологического момента игры, биологическая функция которой сводится к упражнению участвующих в будущей работе взрослой особи органов, состоит как раз правота Монтессори. Исходя из правильного психо-биологического взгляда на игру, Монтессори первая дает научно разработанную систему материала детских занятий упражнения с которым должны развить и даже изощрить органы восприятия и двигательные аппараты ребенка и тем подготовить его психофизиологический организм к будущей работе. В связи с этим стоит ее глубоко правильная тенденция сблизить детский сад с жизнью, ввести в игру детей жизненно-практическую струю, а самый детски и сад сделать школой внутри дома, в котором родители естественно объединяются для воспитания детей. Ограниченность Монтессори, пренебрегающей философской стороною вопроса, коренится в ее узком понимании развития как гимнастики органов чувств и двигательных аппаратов человека, и связанном с ним отрицании воображения. Отсюда игнорирование целостной души ребенка, опасность вырождения игры в пассивное, чисто механическое занятие, а детского сада — в «комнату умственного труда», отличающуюся от школы внутренней разобщенностью между собой учащихся, благодаря так называемым «индивидуальным» урокам. В основе этой ограниченности Монтессори лежит, как мы знаем, ее натурализм, вполне понятный для врача-физиолога, но не только не вытекающий, а часто даже противоречащий данным естествознания. Натурализм этот, слагая целое механически из частей, опустошает душу ребенка и игнорирует контрапунктическое начало согласия многообразного в детском обществе.
Между обеими опасностями вырождения игры в забаву и в пассивное механическое упражнение должны мы провести воспитанника. Это и значит, что игра, оставаясь игрой, должна быть вся пронизана будущим уроком. Нарисовать конкретную систему педагогики дошкольного возраста, которая синтезировала бы системы Фребеля и Монтессори, выходит как за пределы нашей задачи — дать философские начала педагогики, так и за пределы нашей компетенции; жизнеспособными в педагогике могут быть только те конкретные системы, — которые не априорно дедуцируют из принципов частности, а просто-напросто излагают (как это мы и имеем у Фребеля и Монтессори) имевший место педагогический опыт. Мы только можем здесь сказать, что в основе этой новой системы, очертания которой намечаются в движении нового фребелизма, в работах Дьюи и особенно Стэнли Холла, должен, сознательно или бессознательно, лежать не отвлеченный идеализм, не натурализм, а конкретный идеализм, удовлетворяющий равно запросам философской идеи и требованиям знающего свои собственные пределы естествознания. Практически она должна включить дидактический материал Монтессори в оживленную воображением фребелевскую игру, дабы тем самым подвести воображение к реальности и дать возможность ребенку, активно его преодолев, подняться на высшую ступень работы. Но если бы даже эта система и лежала готовой перед нами, мы все-таки не могли бы преподать ее детским садовницам как новую догму, заслуживающую безусловного подражания.
Настоящая детская садовница, артистка своего дела, не должна быть ни фребеличкой, ни монтеесоркой, она должна быть прежде всего сама собой. Не выполнять чужие рецепты, а беспрестанно творить должна она, используя педагогический опыт других и применяясь к окружающей ее обстановке. А для этого она должна знать теоретические основания своего дела, обладать как философской, так и психофизиологической подготовкой. Воодушевление и мудрость хорагета должна она сочетать с холодным бесстрастием наблюдателя-натуралиста26.
Литература вопроса. Положенное в основу всего нашего изложения о б щ е е д е л е н и е н а с т у п е н и аномии, гетерономии и автономии проводится и Н а т о р п о м в его «Социальной педагогике». В русской литературе оно только высказывается в виде отвлеченного принципа без всякого дальнейшего применения М. Р у б и н ш т е й н о м в его «Педагогической психологии».
Об игре см.: Дьюи. Психология и педагогика мышления. Психологическое исследование игры
О силе и авторитете кроме «Эмиля» Руссо много поучительного в романе П е с т а л о ц ц и «Лингард и Гертруда».
И з с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р ы о д о ш к о л ь н о м в о с п и т а н и и: Ф р е б е л ь, Воспитание человека; Детский сад; М. Монтессори. Дом ребенка; Руководство к моему методу; С т е н л и Х о л л, Педагогика детского сада; Д ь ю и, указ. соч.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА III
- В его Nachforschungen uber den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengescblechls (1797). Пссталоцци различает в этой книге три состояния: nalurlicher, gesellschaftlicher, sittlichcr Stand. Это в сущности была также и мысль Канта, что признавал и сам Пссталоцци, в письме к Фелленбергу писавший: «Ход моего опыта приблизил меня в существенном к результатам Кантовой философии». Срв. Наторп. Песталоцци, гл. I, § 5.
- Эмиль Oeuvres compl., Т. II, стр. 25.
- Шиллер. Письма об эстетическом воспитании человечества. Письмо 15-е; Дьюи. Цит. соч., стр. 145 сл.
- Дьюи, стр. 146 сл., 193.
- Э. Грос. Душевная жизнь ребенка, стр. 61 сл.
- Воспитание человека, русск. пер. стр. 77.
- Эмиль, Oeuvres, Т. II, стр. 89.
- Там же, стр. 90, 80, 104, 102.
- Спенсер. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Глава 3-я.
- Монтессори. Дом ребенка, стр. 111.
- Срв. Воспитание человека, особ, введение, и Детский сад. статья 1-я.
- Срв. Детский сад, статья 1-я и ст. 3 (о мяче). Нем. изд. Seidell, 1883 г, II т стр. 13 сл., 17 сл., 40.
- Стэнли Холл. Педагогика детского сада. Срв. Дьюи. Ц. соч., стр. 147.
- Дом ребенка, глава «История методов», стр. 46 сл.; стр. 87 сл.
- Там же, глава «Речь, произнесенная на открытии Дома ребенка», стр. 67 сл. Срв. 370 сл.
- Дом Ребенка, стр. 173 — 350; «Руководство к моему методу», стр. 9 - 49.
- Там же, стр. 114.
- Там же, стр. 111.
- Дом ребенка, стр. 195.
- В медицинской практике известны случаи до того обостренного прирожденного чувства обоняния, что субъекты, страдающие им, принуждены бывают обращаться к хирургическому вмешательству («гиперэстезия»),
- В особой статье, написанной по поводу обвинения ее в игнорировании воображения. Русск. пер, с рукописи: «Воображение», Рус. Школа, 1915 г., № 5—6, стр. 174. сл.
- Это признание одних только индивидуальных уроков и коллективных гимнастических упражнений объясняется также исходным пунктом Монтессори: работа с дефективными детьми, сводящаяся по преимуществу к специальным упражнениям недоразвитого чувства или чувств, заменяющих отсутствующие (осязание у слепых), по необходимости носит «индивидуальный» характер.
- Статья «Воображение», стр. 185 сл.
- В смысле Гегелевой и Платоновой (срв. ниже, гл. 7, § 2) диалектики.
- Срв. например описание сцены в Доме ребенка на via dei Marsi: дети, которым предложено было — одним шагом, другим бегом, одним вдоль правой, другим вдоль левой стены — проходить мимо посетителей, говорили «scusi» (извините). Но «произносили это и те, которые никого не могли обеспокоить, а также и те, кому приказано было бежать средним проходом, в котором не стояло ни одного человека». Е. Тихеева.
- Будучи несогласны с общим духом метода Монтессори обучения чтению и письму, мы считаем безусловно правильным ее стремление перевести обучение чтению и письму из школы в детский сад. Так как рассмотрение этого вопроса поможет нам еще с другой стороны отграничить детский сад от школы, мы на нем остановимся несколько подробнее. Подобно речи, умение читать и писать (в элементарном смысле этого слова) является скорее навыком психофизического организма ребенка и не может быть поэтому предметом школьного преподавания. Как мы увидим в следующей главе, существо урока в школе состоит в том, что весь класс сообща разрешает одну учителем поставленную задачу. При обучении чтению и письму, напротив, каждый ученик в отдельности должен усвоить одинаковые навыки. Отсюда тщетность даже самых совершенных и облегченных школьных методов обучения грамоте — при всех этих методах дети не могут заниматься охотно и с увлечением, потому что перед ними нет цели, которую они сообща должны разрешить, дополняя каждый своими усилиями усилия других. В этом отношении между уменьем читать и писать, уменьем говорить, самому одеваться и раздеваться, уменьем (элементарным) рисовать нет принципиальной разницы. Заслуга Монтессори именно в том, что она показала, что уменье писать есть в значительной мере чисто мускульная способность. Мало того, как немыслима о б щ а я р а б о т а в классе с детьми, не умеющими говорить, держать карандаша, свободно владеть своими движениями, так при условии современной культуры чрезвычайно затруднена и совместная работа класса, состоящего из детей, не умеющих читать и писать. Все это приводит нас к заключению, что в шкалу ребенок должен поступить уже владеющим этим орудием общей работы, т. е. умеющим читать и писать, и потому естественной стихией обучения чтению и письму является детский сад. А это значит, что наилучший метод обучения чтению и письму тот, при котором дети не учатся читать и писать, но при котором оба эти навыка являются предметом игры. А Для этого нужно, чтобы буква так же стала элементом детской жизни, как таковым является, например, речь. Давно уже замечено, что в интеллигентных семьях, где написанное слово есть естественный элемент жизненной обстановки, а при наличии старших братьев и сестер — детской комнаты, младшие дети научаются писать и читать сами собой, так же, как все дети научаются сами собой говорить. Естественный способ обучения чтению и письму состоит, таким образом, в надлежащем воздействии на окружающую ребенка обстановку: чтение и письмо должны стать нужными ему в его игре. Тогда соответственный подбор материала для его игр и занятий (при котором дидактический материал Монтессори может сыграть свою полезную роль) сделает специальное обучение чтению и письму ненужным. Интересно, что сама Монтессори считает необходимым сделать чтение и письмо предметом игры. Срв. Дом ребенка, стр. 309 сл. Вполне понятно, что практически перенести начальное обучение чтению и письму из школы в детский сад возможно будет только тогда, когда сеть обязательной и бесплатной школы будет дополнена сетью бесплатных детских садов.
Глава IV. СТУПЕНЬ ГЕТЕРОНОМИИ, ИЛИ ТЕОРИЯ ШКОЛЫ. ИДЕЯ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ
Вступая в школу, ребенок переходит из мира инстинктивных связей и привязанностей, составляющих обстановку семьи, или из атмосферы играющего хора, составляющей существо детского сада, в мир внешне урегулированной общины. Скрепляющим началом в этом новом мире является уже общий труд и подчинение общему закону. Общий труд предполагает преследование каждым определенных устойчивых целей, т. е. дифференциацию работы. Подчинение общему закону, без чего немыслима дифференциация труда, предполагает наличие определенных прав и обязанностей. В этом смысле переход к школе есть переход от естественной ступени аномии к ступени внешнего, общественного принуждения, или к гетерономии. Это есть как бы переход от природы к праву. И потому в отношении нравственного образования задача школы сводится по преимуществу к воспитанию правового чувства и общественного сознания в человеке. Но гетерономия, знаем мы, ценна не сама по себе она есть переходная ступень к автономии, как и право, будучи своего рода искаженным долженствованием, свое достоинство и значение черпает из чистого, в нравственности являемого долженствования. Поэтому в школе так же должна предчувствоваться высшая ступень автономии, как в правильно организованном детском саду должен был просвечивать будущий совместный труд и общий закон школы. Образование в школе должно быть организовано так, чтобы в нем ясно просвечивала будущая цель образования личности к свободному самоопределению. В ближайших главах мы и покажем подробнее, что означает этот общий принцип организации школы в его конкретных приложениях.
1
Мы установили выше, какая резкая грань отделяет творчество человека от инстинктивной и протекающей в сфере воображения игры ребенка. Творчество включает в себя способность мужественного и неуклонного преследования устойчивых и, вообще говоря, отдаленных целей. Поэтому урок, т.е. работа, направленная на осуществление таких устойчивых и отдаленных, но другими поставленных целей, является необходимой переходной ступенью на пути от игры к творчеству. Прежде чем осуществлять поставленные себе самим цели. Человек должен научиться вообще самостоятельно осуществлять цели деятельности, хотя бы эти цели и были предписаны ему другими. Но именно потому, что урок не есть высшая ступени творчества, он должен быть организован так, чтобы служить переходом к творческой работе. В его гетерономии должна так же предчувствоваться будущая автономия, как аномия игры должна была быть пронизана будущей гетерономией урока. Плохо организованные уроки воспитывают людей, которые всю свою жизнь только и умеют, что осуществлять другими предписанные цели, т. е. ремесленников, или чиновников. Правильная организация урока сводится, напротив, к тому, чтобы, делая уроки, ребенок учился чему то высшему, чем урок. Как же пронизать урок творчеством? Для разрешения этой задачи прежде всего необходимо, чтобы цели урока, хотя они и предписываются ученику учителем, были всегда таковы, как будто ученик их сам себе поставил. Поэтому они должны быть понятны ученику, очевидны в своем значении, с интересом и охотой им усвояемы. Иначе говоря, они должны быть близки ученику, или конкретны. В младшем возрасте это означает, что они должны носить по преимуществу жизненно-практический характер. Для детского ума, как и для ума первобытного человека, близко и конкретно то, что может быть немедленно пущено в ход для удовлетворения жизненных потребностей. По времени мы прежде всего действующие, а не познающие существа. И потому в начале только то знание близко и понятно, которое полезно нам в нашем действии. Наше знание возникло из утилитарных потребностей, и правильная педагогика должна повторить этот путь, которым шло все человечество в целом. Совершенно верно говорит Д ь ю и: «Преподавание арифметики не является конкретным только потому, что пользуются щепками, бобами или точками; между тем, если ясно восприняты употребление и свойства числовых отношений, идея числа конкретна, даже если пользовались одними цифрами». «Когда мышлением пользуются для какой-нибудь цели, хорошей или низкой по значению, оно конкретно; когда им пользуются просто как средством для дальнейшего мышления — оно абстрактно»1. Конечно, «полезное» ребенка не есть всегда «полезное» взрослого человека. Жизненные потребности ребенка включают в себя и его игры и его удовольствия, почему правильнее говорить не столько об утилитаризме, сколько о прагматизме детского мышления. Но как бы то ни было мы научаемся раньше ценить знание и понимать его, когда пользуемся им практически. Только с расширением нашего жизненного кругозора привыкаем мы мыслить абстрактно, т. е. искать знания Ради самого знания. Правота трудовой школы в том именно и состоит, что она считает необходимым и с х о д и т ь из этого прагматического интереса ребенка к знанию и к искусству. Отсюда следует необходимость применяться при постановке уроков к окружающей ребенка жизненной среде: в сельской местности уроки Должны, естественно, иметь иное содержание, чем в фабричном районе, а в этом последнем опять-таки иное, чем в области ремесленного труда.
Если, таким образом, в младших классах цели урока определяются но преимуществу жизненной средой учащихся, то в старших классах, где практический интерес, первоначально пестовавший знание и искусство, уже уступил место им же пробужденному интересу к знанию ради знания и к искусству ради искусства, цели урока должны сообразоваться с наклонностями отдельных учеников, быть индивидуализируемы. Только тогда цели урока, будучи на деле поставлены ученикам учителем, будут представляться им такими, как будто они сами себе их поставили и лишь не догадались формулировать их так же точно и определенно, как это удалось учителю, разделяющему их интересы, знающему их склонности и лишь более опытному и знающему, чем они. Как далек этот разделяемый всей современной педагогикой взгляд на постановку урока от старого идеала централистической и бюрократической педагогики, и насколько больше предполагает он у учителя инициативы, бдительности воли, творчества, требуя от него всегда вновь обретаемого и непрерывно пополняемого знания среды и учащихся вместо раз навсегда получаемого знания официальной программы и принятого учебника!
Урок должен быть пронизан творчеством и вместе с тем оставаться уроком. Это значит, что, хотя цели урока и предписаны учениками извне, им должны быть предоставлена свобода в осуществлении этих целей, инициатива в выборе средств, необходимых для решения поставленной уроком задачи. Определенность в постановке целей урока, требование точного решения поставленной уроком задачи и наряду с этим самостоятельность в выборе пути, ведущего к достижению цели, — эти требования, предъявляемые современной педагогикой к уроку, резко отличают ее от старой педагогики, видевшей существо урока не столько в точном решении поставленной учителем задачи, сколько в аккуратном повторении учеником того, что показано или рассказано учителем. Путь доказательства теоремы, способ решения задачи определенного типа, порядок грамматического разбора, схема писания сочинений, даже когда допускались отступления от старозаветной хрии*, — все это предписывалось в точности учителем как образец, которого надлежало безусловно придерживаться. Наоборот, самые цели урока сплошь и рядом ставились слишком общими, неопределенными, допускавшими в соей расплывчатости самое разнообразное толкование, как, например, знаменитые темы сочинений о значении воды и моря в жизни человека, о женских типах Пушкина и т. п. Этой общностью имелось в виду удовлетворить требованию индивидуализации и самостоятельности учащихся, а на деле поощрялся поверхностный диллентантизм, ловкость в компилировании по заранее данному образу двух-трех ходячих книжек. Глубоко нрав Ферстер, подчеркивающий важность воспитания точности в работе и настаивающий поэтому на упражнениях даже в старших классах, в точном переводе с иностранного языка, в точной передаче виденного и слышанного, пересказах и рефератах научных статей, которые должны возможно точнее передать содержание чужой мысли2. Подобно тому, как конкретное не есть наглядное, в смысле поддающегося картинному изображению, а есть прежде всего жизненно- близкое и практическое, точно так же и общее и абстрактное не есть неопределенное и расплывчатое: точное изложение какой-нибудь научной статьи есть задача несравненно более абстрактная и общая, чем сочинение на приведенные выше темы.
____________________
*Хрия — риторическая речь но данным правилам (греч.). — Прим. ред.
Становясь все более общим и абстрактным, урок не должен ничего терять в своей точности. Он только усложняется в своей цели, и самая цель эта становится все более независимой от утилитарно-практических интересов и от этого все более отдаленной. Но чем отдаленнее цель урока, и чем, следовательно, длиннее путь, ведущий к ней, тем больше инициативы и самостоятельности возможно и должно предоставлять ученику в выборе этого пути. В этом именно и заключается возрастающая пронизанность урока творчеством, а отнюдь не в замене точных и определенных целей работы — неопределенными и расплывчатыми, будто бы позволяющими проявиться самостоятельному творчеству ученика. Творчество, означая упорное и неуклонное стремление к однажды поставленной цели, предполагает высоко развитое «чутье дистанции» между замыслом и выполнением, то самое стремление к адекватности и точности воплощения, которое заставляло Флобера и Толстого по 20 раз переписывать наново отдельные страницы их произведений. Тот, кто не умеет точно формулировать чужой научной мысли, очевидно, никогда не придет даже к постановке вопроса, могущего привести его к интуиции собственной научной теории. Именно ради воспитания человека к творчеству мы говорили урок должен оставаться уроком, т. е. содержать всегда точную и определенную цель работы, быть только пронизанным творчеством и к нему устремленным, но не переходить в него преждевременно. Поэтому индивидуализация урока в старших классах означает специализацию образования соответственно наклонностям и способностям учащихся, но никоим образом не ослабление точности и определенности подлежащей решению задачи. Требование точного выполнения заданного, «чистоты работы» есть непременное условие всякого урока. Преждевременное превращение урока в творчество ведет не к воспитанию творцов, а к воспитанию дилетантов, удовлетворяющихся расплывчатой общностью, приблизительностью исполнения, которая закрывает всякий путь к подлинному творчеству.
Отсюда не следует, что особенно в старших классах, когда у юноши просыпается жажда творчества, школа не должна идти навстречу этому естественному стремлению к самостоятельной работе. Но эта работа должна быть тогда подлинно автономной и протекать в рамках самостоятельных организаций учащихся — научных, художественных и технических кружков, в которых учитель является уже не руководителем работы, а только ее критиком. В следующей главе мы увидим, какое громадное образовательное значение может иметь эта в пределах школы, но вне чисто школьной работы протекающая деятельность обществ и союзов учащихся. Но значение ее особенно усиливается именно от того, что она протекает параллельно гетерономной школьной работе, параллельно уроку, развивающемуся в направлении все большей общности и индивидуализации, но не ослабляющему своего основного требования точности и чистоты в исполнении заданного. И здесь опять-таки автономия должна просвечивать в школе, но не поглощать присущей школьной работе гетерономии.
Читателю теперь должно быть ясно, в чем смысл установленного нами принципа организации урока Подобно игре и урок кроет в себе два пути своего вырождения. Оторвавшись от превышающей его ступени творчества, от которой он получает свое оправдание и смысл, урок вырождается в чисто механическую работу, в повторение учеником образца, показанного учителем. Но и преждевременно превратившись в творчество, он вырождается в практику поверхностного дилетантизма, воспитывающего разгильдяйство в работе вместо творчества и удовлетворение приблизительностью вместо стремления к адекватности воплощения. Такое понимание урока не представляет собою чего-либо нового в современной педагогике. Мы только подвели философский фундамент под воззрения, становящиеся все более очевидными и свое резкое и законченное выражение получившие в так называемом движении трудовой школы. Но вокруг понятия трудовой школы теперь накопилось столько недоразумений, она обрела сейчас столько нежелательных друзей, что следует подробно остановиться на самом ее понятии, грозящем ныне утратить всякую определенность. Мы и попытаемся дать точное и отчетливое определение понятия трудовой школы, отграничить ее от встречающихся искаженных ее пониманий и выяснить тс условия, при которых только возможно ее действительное осуществление. Это даст нам возможность развить установленный выше принцип организации урока в его еще более конкретных применениях.
2
Понятие трудовой школы в его современном смысле впервые было намечено Песталоцци, развившим идею трудового образования в противоположность общепринятому в его время профессиональному образованию. И действительно, противопоставив трудовую школу профессиональной, мы лучше всего, пожалуй, схватим одну из основных сторон трудовой школы. Для профессиональной школы характерно, что в центре системы обучения стоит самая профессия — соответствующее ремесло или занятие служащее предметом обучения. Школа ставит себе целью выпускать людей, умеющих хорошо производить продукты соответствующего ремесла. Она имеет задачей удовлетворять интересы потребителей продуктов определенного ремесла — в первую очередь интересы государства, этого крупною потребителя современного общества. Профессиональный характер всей образовательной системы особенно характеризовал школьную политику просвещенного абсолютизма, государственного строя, господствовавшего как раз в эпоху Песталоцци. Существо абсолютизма состояло именно в том, что в центре всей его политики стояли интересы государства: личность отельного человека почиталась за ничто, она не имела собственного достоинства, была лишь средством в руках всемогущего Левиафана, земного бога — государства. Государству нужны были военные, врачи, инженеры, техники, и соответственно этому учреждались школы, имевшие своей исключительной целью удовлетворить эти нужды государства. Выпускать ремесленников, могущих производить работу, нужную в настоящее время государству, — вот цель профессиональной школы.
В противоположность этому трудовая школа, даже когда она исходит из труда, имеющего производительное хозяйственное значение, полагает в центре даваемого ею образования уже не интересы самой профессии (ремесла или занятия), а интересы личности образовывающегося. На следующем, заимствованном у известного американского теоретика трудовой школы Д ь ю и3 примере можно лучше всего пояснить указанное различие. Представим себе трудовую школу, которая исходя, скажем, из хозяйственного труда «приготовление пищи», поставит целью обучения развитие личности ученика, а не приготовление хороших кухарок и поваров — цель, которую ставит себе профессиональная школа кулинарного искусства. В чем выразится тогда различие между двумя способами преподавания того же самого искусства — приготовлять пищу. Трудовая школа, заинтересованная в развитии личности учащегося, поставит труд приготовления пищи в связь со всей культурной жизнью человечества, сделает его исходным пунктом для выработки мировоззрения ученика, тогда как профессиональная школа, имеющая своею целью только удовлетворение вкусов потребителей, ограничится доставлением сведений и навыков, необходимых для будущих хороших поваров. В самом деле, труд приготовления нищи, несмотря на всю свою видимую узость и низменность, может стать исходным пунктом самого широкого образования личности учащегося, — ведь он стоит в центре всей хозяйственной жизни человека, ему человечество посвящает, несомненно, наибольшую часть всего своего труда и времени. Питание — что оно собою представляет? Уяснение этого вопроса приведет нас к физиологии человека. Какие вещества поглощаются организмом в процессе питания: белок, жиры, крахмал и т. п. — мы вступаем в область органической химии. Какие виды нищи и в какой мере доставляют необходимые питательные вещества — мы вступаем в область анатомии и физиологии животных и растений. Сколь паша анатомия быка будет отличаться от известной кулинарной «анатомии», делящей быка на части в зависимости от того, какие блюда получаются из тех или иных частей бычьего мяса! Какие виды животных и особенно растений употребляются в пищу, где они находятся и живут — мы переходим к систематике и морфологии растительного и животного царства, к географии растений и животных. Что представляют собою те полуфабрикаты, из которых приготовляется пища (масла, крупы, кофе, чай и т. п.), как они производятся, — тем самым мы входим в область технологии. Где производятся соответствующие продукты, каким трудом пользуются при их производстве, как они доставляются нам по сложным каналам хозяйственной жизни, — так затрагиваем мы вопросы экономической географии политической экономии. Мы пользуемся посудой при изготовлении нищи: чем различаются между собою разные виды посуды (медная, никелевая, глиняная, эмалированная и т. п.), как надо обращаться с ними, — мы вступаем в область химии, изучая процессы окисления металлов и т. п. Мы пользуемся печами (плитою, русской печью, духовкой). Каково устройство печи? Что такое процесс горения? — Мы затрагиваем вопросы физики и химии горения. Положительно ни одна область науки и культурной жизни человека не останется нерассмотренной: обучая приготовлению пищи, мы протянем нити ко всем областям жизни природы и человека. Так ограниченная с виду практическая деятельность станет источником развития личности учащегося, ее общего образования, и, с другой стороны, самая эта деятельность будет понятна во всем ее громадном значении для жизни человечества, будучи поставлена в связь со всей совокупностью его природной и культурной жизни. — При трудовом образовании узкая практическая деятельность приобретает всеобъемлющее значение, понимается как органическая часть в с е й ц е л о к у п н о й ж и з н и природы и человечества и потому служит источником общего образования личности. При профессиональном обучении она остается самодовлеющей, изолированной даже от других видов труда, сводится к приобретению и з о л и р о в а н н ы х сведений и навыков, связанных между собою лишь интересами будущих потребителей продукта данной деятельности.
Узкая с виду, ограниченная деятельность — приготовление нищи кроет в себе всю полноту природной и культурной жизни, является как бы микрокосмом, отражающим в малом строение целостного и необъятного мира. Поэтому так понятая практическая деятельность и становится источником общего развития личности: занимаясь ею, человек растет и расширяется в своем духовном содержании. Напротив, при профессиональном взгляде па труд практическая деятельность, оторванная от целокупности культуры и сводящаяся к повторению разрозненных и неизменно одинаковых действий, сковывает личность человека и не обогащает ее. В первом случае личность растет в с в о е й п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и: труд есть источник роста ее внутреннего духовного богатства, он есть творчество, которому личность отдастся свободно и радостно. Во втором случае труд основан на принуждении: он не удовлетворяет личности, ощущается ею как тяжелая поденщина. В н е т р у д а, н а д о с у г е ищет человек удовлетворения интересов своей личности. Образование личности требует с этой точки зрения досуга.
Такое противопоставление образования личности труду отличало мировоззрение древности и средневековья. Самое наименование свое, как места образования, школа получила от греческого слова, означающего в переводе «досуг». Развитие личности стояло в центре греческой системы образования. Но древность полагала, что это развитие достигается лишь путем использования досуга. Образованный человек поэтому должен быть освобожден от труда. Напротив, трудящийся не может стать подлинно образованным, а следовательно и свободным человеком. Так равно думали Платон и Аристотель, резко разделявшие общество на два слоя: образованных — досужих людей и трудящихся — несвободных. Реформация впервые изменила взгляд на труд: Лютер и особенно крайнее крыло Реформации — пуритане не только объявили всякий труд святым и угодны Богу делом, но и провозгласили, что истинное служение Богу требует не отрешения от мира, а погружения в мирскую работу. «Только трудясь в мире, занимаясь ремеслом, земледелием, торговлей, служит человек по-настоящему Богу: развитие личности возможно не вне труда, а в труде. Труд не есть проклятие человека, а его благословение. В этом именно и состоял светский характер Реформации. Профессия человека, понятая как развивающее личность служение Богу, превращается тем самым в призвание человека. И до сих пор немецкое Beruf — согласно идущей от Реформации традиции — продолжает означать одинаково как профессию, так и призвание, хотя в жизни мы ныне редко встречаем единство того и другого. Для столь немногих профессия является их действительным призванием, и сколько людей призвание свое видят вне повседневного выполняемого ими труда! В эпоху просвященного абсолютизма эта идея Реформации заглохла: служение Богу и развитие личности уступили место гегемонии земного бога-государства, по отношению к которому отдельный человек являлся лишь неимеющим самостоятельной ценности средством. Идея образования в труде и через труд, становящийся в силу этого призванием человека, была вытеснена системой профессиональной выучки, т. е. приготовлением людей, занимающихся нужными государству профессиями. Противопоставляя профессиональной школе трудовое образование, Песталоцци вновь поднял заглохшую было мысль. Во всех своих сочинениях и особенно в своем романе «Лингард и Гертруда» Песталоцци проводит эту мысль о труде, как развивающем личность источнике образования. Однообразное ремесло прядильщика и ткача Гертруда сумела сделать развивающими личность ребенка занятиями. Поэтому и говорит Песталоцци: «Дети Гертруды работают с виду так, как будто бы они были поденщикам и, но души их не подействуют». Эта независимость души от труда достигается через ее рост в труде. А это возможно лишь тогда, когда профессия осознана как необходимая часть органической целокупности культуры в ее тесных взаимно переплетающихся отношениях со всеми сторонами жизни природы и другими видами человеческого труда. Тогда из поденной работы она преображается в призвание человека.
Вполне возможно и даже очень вероятно, что учащиеся трудовой школы, прошедшие по описанному выше способу курс приготовления нищи, выйдут менее искусными поварами, чем ученики кулинарной школы, специально натасканные в изготовлении вкусных и излюбленных потребителями блюд Но они зато, если хотите, будут варить кашу с восторгом, «всей душой», — чего нельзя конечно, сказать о профессионалах, все значение своего труда видящих в удовлетворении чужих потребностей. Отсюда видно уже, как неправильно видеть существо трудовой школы в се утилитаризме. В отличие от профессиональной школы, не выходящей за пределы чисто утилитарного, трудовая школа, напротив, делает утилитарное, жизненное, практическое только и с х о д н ы м п у н к т о м своего образования. Погружая отдельную трудовую деятельность в целостность культуры и природы, она освобождает ее как раз от ее узко утилитарной ограниченности. Следовало бы поэтому скорее говорить о прагматизме, а не об утилитаризме трудовой школы.
Какое громадное значение в деле народного образования может иметь такой способ трудового обучения, показывает опыт известною мюнхенского теоретика и практика трудовой школы К. К е р ш е н ш т е й н е р а. При вступлении своем в 1895 г. в должность заведующего делом школьного образования г. Мюнхена Кершенштейнер констатировал, что, несмотря на обязательную в Баварии семилетнюю будничную и обязательную трехлетнюю воскресную школу, результаты обучения оказываются до крайности неудовлетворительными — до того, что иногда даже наблюдаются случаи рецидива безграмотности. Этому не могли противодействовать в должной мере и дополнительные вечерние школы для подростков от четырнадцати до восемнадцатилетнего возраста: в виду того, что программа этих школ повторяла обыкновенно обычную школьную программу (та же арифметика, немецкий язык и т. п.), школы эти, несмотря на попытки сделать их обязательными, неохотно посещались населением. Чтобы помочь делу Кершенштейнер реорганизовывает дополнительные школы на основе практически-трудового образования. «Это уже не прежние дополнительные школы с продолжающимся книжным учением, мало интересные для учеников, потому что они стояли далеко от тех занятий, которым посвящал себя кончивший начальную школу ученик. Новые дополнительные школы тесно связаны с ремеслом учеников, с их специальными занятиями и, чтобы стоять ближе к ним, разбиты даже не но группам ремесел, а по отдельным мелким ремеслам. Так, есть особые школы для пекарей, колбасников, мясников, наборщиков, литографов, столяров, декораторов и позолотчиков, медяников, жестяников, слесарей, печников и каменщиков, садовников, часовщиков, дрогистов и пр.». Вначале, как сообщает сам мюнхенский педагог, эти специализированные школы были встречены с недоверием, но вскоре все поняли их действительное значение для посещавших их учеников (занятых в разных производствах). «Многие хозяева-мастера, которые вначале вышучивали или игнорировали эти школы, были обращены своими же собственными учениками, возвращавшимися из практической школы в мастерские с интересом, оживлением и полезными знаниями. Ученик идет теперь не в ненавистную (потому что далекую от него, от его дела) дополнительную школу, а в свою собственную (своего дела), специальную- там рядом с ним сидит уже не безразличный ему сосед, а родственный по занятию его товарищ, у которого он нередко может непосредственно научиться; перед ним не чуждый ему учитель, а мастер или подмастерье его же ремесла, с которым ему придется делить тягости и невзгоды жизни, который, быть может, будет его конкурентом, но тем не менее старается развить в нем те способности, что делают из него дельного сотоварища по ремеслу»4. Так в результате трудового образования не только профессия облагораживается до призвания (что быстро сказалось в резком повышении уровня ремесленного производства г. Мюнхена), но и наилучшим способом достигается задача научного образования и развития личности вообще.
3
Обучение предметам с производительным трудом учащихся придает совершенно своеобразный характер внутреннему строю трудовой школы. Этой своей второй стороной трудовая школа отличается не только от профессиональной, но и от старой общеобразовательной школы, которую защитники трудовой называют книжной или словесной школой, мы же назовем точнее — пассивной. Строй последней определяется следующим отношением учителя к ученикам и учеников друг к другу. Учитель что-то делал: рассказывал, доказывал теорему, производил разбор предложения, объяснял прочитанное, рисовал, вырезал из дерева или клеил из картона на уроках ручного труда. Все 30—40 учеников класса должны были вслед за ним, каждый в отдельности, повторять его рассказ, доказательство, объяснение, рисунок, ручную работу. Этому строю обучения соответствовал и внешний распорядок класса: рядом сидящие ученики, делающие одинаковую работу и вне их видный для всего класса учитель, показывающий одинаковый для всех образец. Наглядность обучения понималась в этой школе, как живость и яркость одинакового для всех образца.
Совершенно иначе обстоит дело в трудовой школе. Здесь всему классу в целом задается общая работа, которую отдельные ученики, каждый на своем месте, сообща выполняют. Нужно ли обмеблировать помещение для младшего класса, изготовить игрушки для детского сада при школе, засадить огород, разбить цветник, объяснить прочитанное в классе литературное произведение, — все сообща, дополняя каждый своими усилиями друг друга, производят некоторый общий продукт. Учитель только задает задачу, руководит общей работой класса, помогает своим советом и трудом там, где работа почему либо застопорилась, но не делает образца, который все ученики в отдельности должны за ним повторять. В этой активной школе совместный труд всего класса создает нечто новое, до того не бывшее, тогда как в старой пассивной школе каждый ученик, делая одинаковую работу со своим соседом, повторяет уже кем-то сделанное и готовое.
И в этом отношении трудовая школа исходит, таким образом, из принципа целостности, между тем как пассивная школа исходила из принципа одинаковости. Совокупная работа над общим заданием отводит каждому ученику его индивидуальное место в трудовой общине класса, делает его труд р а в н о ц е н н ы м с трудом товарища, незаменимым трудом другого, хотя бы даже учители. Она дифференцирует класс, делает из класса организованное, дружно работающее общество, а из ученика — индивидуальный и незаменимый орган целого. Напротив, пассивная школа исходила из принципа, всегда служившего, как мы еще убедимся в дальнейшем, источником насилия и дезорганизации. Всем ученикам она предписывала ф а к т и ч е с к и р а в н у ю (одинаковую) работу, образец которой проделывался предварительно учителем. Но так как ученики фактически никогда не равны учителю, так же как не равны фактически между собою, то на почве повторения всеми одинакового неизбежно возникали соперничество и система отметок. В трудовой школе нет места соперничеству, так как, трудясь над общим делом, все выполняют разное: отставший в работе не перегоняется, а подгоняется более успевшим, ибо задержка в работе одного задерживает работу всех. Здесь мы имеем только здоровое соревнование, а не соперничество с его желанием обогнать соседа. В пассивной школе образец учителя повторяется каждым учеником в отдельности. Здесь неизбежно возникает сравнение работы одного ученика с одинаковой работой другого. Возникает оценка работы учеников, причем за мерило ее берется образцовая работа учителя: кто точнее всего воспроизвел сделанное учителем, тот больше всех преуспел. Тот, кто больше всего отстал от учительского образца, оказался наименее успевающим. Но так как образец учителя в общем недосягаем ни для одного ученика, то поистине прав был тот учитель, который никому не ставил пять, утверждая, что на пять знает он сам, а лучший ученик знает только на четыре. Система отметок поэтому неизбежно связана с пассивной школой. Уничтожать ее, оставляя старый строй преподавания, — это значит бороться с симптомами болезни, не искореняя самого недуга. Отмените отметки в пассивной школе, и они неизбежно возродятся в виде словесных обозначений: «в. у.», «хор.», «удовл.», как мы все это видели на практике. Предпишите их трудовой школе, и они не привьются, так как нет того мерила, которым можно измерять одинаковую работу каждого ученика.
Из сказанного видно, насколько неправильно трудовую школу понимать, как школу исключительно или даже преимущественно ручного труда. Очень многие думают, что преподавание истории, например, станет трудовым оттого, что на уроках истории дети, вместо того, чтобы слушать учителя или читать книжку, будут срисовывать образцы античной утвари и оружия или клеить из картона средневековый замок. Ручная работа, как и всякая другая, может тоже строиться не по принципу целостности, а по принципу одинаковости, как то и бывало всегда в старой школе на уроках ручного труда. И напротив, чисто умственный труд может строиться на основе совокупного созидания всеми общего продукта труда. Вот пример чтения в классе по трудовому принципу. Учитель или кто-нибудь из учеников прочитывает художественное произведение. По окончании чтения начинается совместное обсуждение прочитанного: каждый ученик выносит на общий суд подмеченные им индивидуальные черты прочитанного. В результате совместного обсуждения возникает и продукт общего труда: яркий и целостный образ художественного произведения, в котором жива каждая деталь, подмеченная и защищенная в своем значении тем или иным товарищем. Конечно, в младших классах для углубления анализа, для того чтобы ребенок имел больше поводов и времени пережить прочитанное, полезно прибегнуть к рисованию на прослушанный сюжет. Но это совсем не необходимо, а частью и не нужно в старших классах. И даже при рисовании центр тяжести остается лежать не на рисовании как таковом, а на совместном обсуждении всеми отдельно нарисованного. Роль учителя и здесь состоит только в том, чтобы поставить задачу и руководить общей работой класса. Как далек такой урок от обычных уроков объяснительного чтения, где при пассивности всего класса учитель говорит и суетится за всех, своим разжевыванием каждого слова прочитанного, неизбежными отклонениями в сторону прогоняет первоначальное живое впечатление от прослушанного, так что перед учениками остается только труп художественного произведения, который они должны затем, повторяя объяснения учителя, но частям воспроизводить!
В пассивной школе — много говорящий, все показывающий суетливый учитель и пассивно воспринимающий разрозненный в одинаковой работе класс. В трудовой школе — активно работающий, объединенный в работе над общим заданием класс и неслышно, не но виду у всех, а незаметно одухотворяющий работу всего класса учитель. Можно ли назвать его роль пассивной? Да, если под активностью понимать суетливое многоглаголание. Нет, если под активностью понимать самостоятельное творчество учителя. В самом деле, характерное для пассивной школы отношение работы Учеников к работе учителя отражается и на работе последнего. Предлагая своим ученикам образец для повторения, учитель сам неизбежно ищет образца для своей собственной работы и находит его в учебнике, этом образцовом уроке еще более авторитетного и знающего учителя. В трудовой школе гегемония учебника сломана: как ученики не повторяют в ней учителя, так и учитель не может в ней повторять учебника. Каждый класс представляет собой нечто индивидуальное и своеобразное, и потому один урок здесь никогда не сможет повторить другого. Как это и всегда бывает в жизни, под внешней пассивностью учителя трудовой школы кроется напряженность самостоятельной внутренней работы, постоянная бдительность воли, умеющей ставить задачу так, как она вытекает из сложившейся индивидуальной обстановки, вовремя приходящей на помощь там, где работа почему-либо застопорилась, своевременно парирующей встретившееся затруднение.
Подобно уроку чтения могут быть на трудовой основе поставлены и уроки других «словесных» предметов, например урок истории, состоящий в совместном разборе прочитанного исторического памятника. Надо вообще отрешиться от ничем не оправдываемого противопоставления слова материальным вещам, — все равно в целях ли чрезмерного его возвеличения или, напротив, сугубого принижения. Подобно дереву, железу и глине слово есть достойный предмет человеческого труда, лишь бы только труд этот был активным, созидающим личность человека. Физическое вообще ничем не лучше и не хуже психического, от которого оно в сущности не может быть отделено. Физический труд всегда связан с умственной работой. И слишком часто умственный труд сводится к физической работе органов речи и писания. Смысл трудовой школы состоит не в том, чтобы свести всякий умственный труд к физическому, но в том, чтобы всякий труд, как физический, так и умственный, сделать источником целостного развития личности. Написанные или сказанные учеником слова, так же как и действия его рук должны отражать в себе и созидать собою личность ученика. Тогда ученик не только станет незаменимым участником совокупной работы класса, но и определит свое индивидуальное место в мире, научившись всякую деятельность связывать с целостностью природы и культуры.
4
Двумя рассмотренными нами сторонами, сводящимися впрочем к одному принципу — целостности, исчерпывается существо трудовой школы. Для более полной характеристики ее следует еще остановиться на некоторых следствиях из основного принципа. Мы увидим тогда, что трудовая школа разрешает целый ряд затруднений, которые не только была бессильна разрешить пассивная общеобразовательная школа, но которые с развитием последней вставали перед нею со все большей заостренностью. Тем самым трудовая школа обнаружится перед нами во всей своей чисто педагогической необходимости.
Прежде всего трудовая школа окончательно порывает с обычным в старой школе делением предметов на так называемые общеобразовательные и специальные. В старой школе это деление приводило даже к делению учителей на две категории: с одной стороны — учителя древних языков, русского языка, математики, истории, с другой — гимнастики, нения, рисования, ручного труда и даже новых языков. Выше, на примере предмета «приготовление пищи», мы показали, как узкий с виду, «специальный» предмет может при надлежащем преподавании стать источником широкого и в полном смысле слова общечеловеческого образования. С другой стороны, стоит только вспомнить, как в старой школе преподавались многие так называемые общеобразовательные предметы, чтобы убедиться, что дело не в предметах, а в способе их преподавания. В самом деле, можно ли сказать, что преподавание древних языков в старой школе, сводившееся большею частью к усвоению чисто внешних грамматических форм языка, образовывало личность, хотя бы даже знакомило ученика с духовным содержанием античной культуры, этим основным составным элементом и современного культурного миросозерцания? Трудовая школа решительно порывает с предрассудком о внутренней общеобразовательной ценности предмета как такового. Всякий предмет может быть преподаваем так, что он станет источником общего развития личности, и любой предмет точно так же может заглушить всякое стремление к общему образованно. Тем самым трудовая школа соприкасается с лучшими представителями старой педагогики, среди которых, например, Н. П и р о г о в уже в «Вопросах жизни» высказал правильную мысль, что дело не в том, что преподаешь, а как преподаешь. Тем самым она разрешает и трудный для старой школы неразрешимый вопрос об уравнении в их образовательной ценности всех школьных предметов: все учителя, что бы они ни преподавали, являются равно достойными и имеющими право на равный авторитет в глазах учеников членами школьного целого.
Неравенство отдельных предметов между собою в пассивной школе было следствием более глубокого ее основного недостатка: се чисто механического, лишенного органической целостности строения. Подобно тому, как отдельные ученики сидели рядом, ничем между собою не объединенные, кроме как повторением одинакового образца, точно так же и отдельные учебные предметы проходились параллельно друг другу, не находясь между собою ни в каком органическом взаимодействии. Каждый отдельный предмет представлял собою замкнутое целое со своим особым материалом, изучавшимся безотносительно к материалу другого предмета. Совершенно в духе такого механического параллелизма отдельных предметов проходили и заседания педагогических советов старой школы: отдельные учителя встречались на них только для того, чтобы чисто механически подвести итоги успехам каждого ученика по всем предметам. О главном же, что только и можно было бы выяснить в результате совместного обсуждения — о взаимодействии между отдельными предметами, о том чтобы вопросы и темы, разбираемые на уроках физики, находились во внутренней связи с уроками русского языка, истории, географии, не говоря уже об естествоведении и математике — об этом на педагогических советах не было речи. Работа педагогических советов совершенно уподоблялась работе ученика и учителя, они не создавали своего учебного плана преподавания, а только выполняли уже готовый образец. Этот разброд отдельных учебных предметов, отсутствие центра между ними заставили в последнее время лучших представителей пассивной школы поднять вопрос о так называемой «концентрации предметов». Раньше этот вопрос не подымался, потому что школа как профессиональная, так и общеобразовательная, была все же проникнута единым духом; учебный план ее представлял некоторое единство. Такой, например, была хотя бы даже русская классическая школа до середины 90-х годов прошлого века. Правда, это единство достигалось чисто механическим образом путем насильственного подавления всех предметов «главными» — древними языками, на которые отводилось наибольшее число часов и которые предъявляли ученику наибольшие требования. С разрушением классической школы в ее чистом виде этот внешний центр оказался утраченным, и наша общеобразовательная школа вступила в полосу явного эклектизма. Концентрация предметов достигалась в ней уже чисто случайным образом, в зависимости от личных качеств преподавательского состава: в той или иной школе отдельные предметы приобретали господство постольку, поскольку тот или иной преподаватель умел более других увлекать своим предметом учеников. В поисках отсутствующей концентрации в последнее время был выдвинут популярный лозунг родиноведения. Сначала опять-таки родиноведение было понимаемо как особый предмет наряду с другими, который, особенно в младших классах, должен был подавить другие предметы. Вскоре убедились, однако, что родиноведение не может быть особым предметом, что это есть скорее метод, которым надо пользоваться при преподавании всех других предметов. Но так как этот метод в конце концов сводится к тому, что в качестве исходных тем при преподавании русского языка, истории, географии, естествоведения и даже математики должны браться явления непосредственно окружающего ребенка мира, то родиноведение было наконец понято как система начального обучения Все явления действительности располагаются как бы по концентрическим кругам в зависимости от их близости к ученику. Так сначала «родина» — это окружающая ученика жизнь с радиусом в 1—2 версты, с радиусом в 10 верст, затем это — Сибирь, затем вся Россия и, наконец, весь мир в целом. Соответственно этому одни и те же явления со все увеличивающимся радиусом захвата изучаются в разных предметах с разных сторон. Тем самым устанавливается тесная связь между отдельными предметами, школа приобретает утраченный ею центр, но уже центр, основанный не на насилии со стороны отдельного предмета, а на дружном и согласном взаимодействии всех. — Но тем самым, если только вспомнить то, что выше было сказано о конкретном и абстрактном, мы и приходим к трудовой школе. В самом деле, близкое и далекое нельзя мерить чисто внешним образом — радиусом расстояния данного явления от ученика. Атом с его внутренним строением, гистологическая клетка, инфузория находятся в непосредственной близости к ученику, однако они несомненно дальше отстоят от него, чем поле и река, находящиеся в одной версте расстояния от школы, чем кухня и мельница. Близко то, что конкретно, т. е. с чем связано непосредственное практическое употребление, что может быть сейчас же приложено к жизни, что объяснит имеющий непосредственное жизненное значение факт. Далеко, напротив, то, что абстрактно, т. е. — что имеет самостоятельное познавательное значение и не имеет непосредственного жизненного применения. Поэтому правильно понятое родиноведение и совпадает с принципом трудовой школы: исходить при обучении из какой-нибудь практической деятельности, дабы затем постепенно конкретно-практическое мышление заменять абстрактно-познавательным и познание природы ради жизни заменять жизнью ради познания. Так, концентрируясь на разных ступенях обучения вокруг разных видов практической деятельности, отдельные учебные предметы вступают между собою в тесное взаимодействие, и учебный план приобретает внутреннее единство и устойчивость. Какую именно практическую деятельность принять за такой центр, — это зависит от окружающей обстановки: в сельской местности это будут, быть может, последовательно огород, сад, ноле и изготовление тканей, лес и столярные работы; в горной местности — лес и столярные работы, земля с ее богатствами и горнозаводское дело; в городе — то или иное ремесло или та или иная отрасль фабричного производства. «Родина», т. е. жизнь окружающей среды, будет определять систему начального обучения. Таким образом, и в этом отношении трудовая школа отличается тем, что механическая рядоположностъ предметов заменяется в ней принципом органической их целостности.
Отсутствие в старой пассивной школе центра, объединяющего и как бы сдерживающего отдельные учебные предметы, поставило ее еще перед одной грозной опасностью. Это — многопредметность, отличающая развитие учебных планов старой школы за последние десятилетия. Чуть ли не каждая реформа учебных планов школы приводила к включению в состав обязательной программы какого-нибудь нового предмета. И то же самое наблюдается внутри каждого отдельного предмета: программы отдельных учебных предметов обнаруживают явную и упорную тенденцию к непрерывному разбуханию. Это явление естественно вытекает из свойственного пассивной школе понятия общего образования, как суммы определенных готовых сведений, подлежащих внедрению в головы учеников. Надо знать всю историю русской .словесности. Почему также не историю западноевропейской литературы, а также литературы античной (греческой и римской), имеющих громадное общеобразовательное значение? Надо знать всю алгебру, геометрию и тригонометрию. Почему также не аналитическую геометрию и дифференциальное и интегральное исчисление? Ведь все эти предметы имеют не меньшее общеобразовательное значение, следовательно для полноты образования все они должны быть включены в учебные планы. Современная наука, как и вся культурная жизнь в целом, захвачена чрезвычайно быстро идущим процессом дифференциации: то, что раньше было только одним отделом какой-нибудь науки, становится ныне как по своему объему, так и по своему значению самостоятельной наукой. Если общее образование означает, как это понимала педагогика пассивной школы, усвоение всего того, что имеет общее значение, то периферия общего образования неизбежно возрастает прямо таки в грозной пропорции. Глубоко нрав Кершенштейнер5, говоря: «Представим себе двадцатитысячелетнюю культуру человечества, тогда даже самые ревностные филологи и историки не будут в состоянии овладеть всеми прошлыми культурными наречиями и культурными сокровищами». Простым увеличением числа учебных часов и учебных лет не выйдешь из этого положения, ибо ускорение, характеризующее процесс роста культуры, неизмеримо превышает возможное удлинение школьного обучения. Выйти из этого положения можно только, коренным образом изменив взгляд на задачи обучения. Сейчас уже нет историков, которыми была бы известна «вся история», от Адама до наших дней. Сейчас уже нет физиков, которым были бы известны все даже существенные факты и законы. А между тем есть историки и есть физики. Как же возможно знать историю и знать физику, не ознакомившись со всем относящимся к этим наукам материалом? Современная педагогика считает, что это вполне возможно: знает историю не тот, кто ознакомился со всей историей от Адама до наших дней, а тот, кто овладел методом исторического исследования. Овладеть методом невозможно, конечно, без ознакомления с материалом — необходимо его самостоятельно исследовать, и не нужно знакомиться с о в с е м материалом. Но для этого недостаточно просто о з н а к о м и т ь с я с материалом — достаточно всесторонне и глубоко исследовать некоторые ограниченные его части6.
Возможность такой всесторонней и самостоятельной проработки материала и предоставляет трудовая школа. Она ставит целью заразить ребенка духом исследования и всесторонней проработки изучаемого материала, почему она и исходит в своем обучении из материала близкого и конкретного. Заразивши ученика духом исследования действительности, вначале по необходимости в целях жизненно-практических, она затем уже сможет постепенно освободить его исследовательский интерес от внешнего служения жизни и направить мысль ученика на исследование мира ради самого исследования. Но такая всесторонняя проработка материала по выше очерченному трудовому принципу возможна, конечно, только тогда, когда программы учебных предметов не только не будут продолжать непрерывно пухнуть, но будут самым решительным образом сокращены, а некоторые предметы даже исключены из учебных планов как самостоятельные учебные предметы. Пройти современную программу физики при пассивном преподавании быть может и мыслимо в 200 учебных часов. Для того же, чтобы пройти ее всю активно, но методу трудовой школы, — в мастерской и лаборатории, — для этого понадобится вдвое или даже втрое большее число часов. То же самое относится и ко всем другим предметам. Предъявляя ученику большие требования в смысле самостоятельной его работы, трудовая школа должна, очевидно, предоставлять ему больше времени для выполнения этих требований. Не беда, что ученик выйдет из трудовой школы с меньшим запасом сведений, чем тот, который красуется в программах школы пассивной. Он выйдет из трудовой школы, владея тем орудием (методом научного исследования), которым добываются какие бы то ни было сведения. Таким образом трудовая школа снимает трудности, оказавшиеся непреодолимыми для старой школы. Поистине, если бы не было трудовой школы, ее надо было бы выдумать: до того безысходными оказались те противоречия, которые возникли внутри старой школы всилу ее естественного развития. Но сколь противоречат себе самим те педагоги и те представители власти, которые, с одной стороны, принудительно вводят трудовую школу, а с другой, совершенно в духе пассивной школы включают в учебные планы все новые и новые предметы и предписывают школе обязательные программы, но объему своему не только не уступающие, но нередко даже превосходящие программы старой школы7.
Все сказанное нами выше Кершенштейнер формулирует в следующих трех требованиях, предъявляемых им к народной школе: 1) школа должна ограничиться минимумом учебного материала; только при этом условии ученику может быть 2) предоставлена возможность многосторонних и основательных наблюдений сначала над явлениями, лежащими вне школы, а затем уже в самой школе — в лабораториях, мастерских, школьных садах, аквариумах, террариумах и т. п. Тогда только 3) будет на деле развиваться самостоятельность и самоопределение ученика. К этим трем требованиям он присоединяет еще четвертое — а именно, считает необходимым обратить в школе особенное внимание на преподавание рисования. На этом последнем требовании мы должны будем остановиться еще несколько подробнее. Старая пассивная школа относилась к рисованию как к особому предмету, не имеющему общеобразовательного значения и лишенному связей с другими предметами. Ученики на уроках рисования рисовали по большей части то, что не встречалось на других уроках. В еще большей степени здесь наблюдалось то же самое, что характеризовало положение другого, однако уже «общеобразовательного» предмета — Русского языка. На уроках последнего ученики «излагали» и «сочиняли» то, что не встречалось на других уроках. С другой стороны, когда им приходилось что-нибудь излагать или сочинять на других уроках (математики, физики, истории), не обращалось совсем внимания на стиль изложения, уменье владеть словом как органом выражения мысли. Принуждаемые излагать ради изложения и рисовать ради рисования до того, когда прекрасное искусства могло открыться им в своей самодовлеющей ценности, ученики приучались к бессодержательному формализму и отвращались от слова, линии и краски — этих могучих орудий выражения содержания человеческой души. Ставя своей задачей развитие личности ученика через участие его в целостной работе класса, трудовая школа, напротив, должна особое внимание обращать на уменье ученика выражать во внешних символах свое внутреннее и духовное содержание — результаты своих личных наблюдений и работы мысли. Рисунок есть не менее достойное и могучее средство выражения, чем слово. Поэтому графическая грамотность для трудовой школы столь же важна, как грамотность словесная. И в самом деле, как можно сделать практическую деятельность источником общего образования без уменья в чертеже и рисунке выразить основные общие отношения, в ней встречающиеся? — Грамотность не самоцель, она имеет смысл и обучение ей наилучше достигается лишь тогда, когда правильно употребленное слово и правильно сделанный рисунок выражают некоторое духовное содержание. А так как это духовное содержание вначале имеет преимущественно жизненно-конкретный характер, то и в обучении рисованию придется исходить из того, что «близко» и «конкретно» ребенку.
Трудовая школа, наконец, разрешает еще одно затруднение, пред которым пассивная школа оставалась бессильной: а именно, она только в полной мере делает осуществимым идеал всеобщего образования, выдвинутый старой педагогикой, так же как и связь школы с жизнью, в частности с населением. В самом деле, пока школа строилась на принципе досуга, а не труда, она могла захватывать лишь сравнительно небольшой слой населения, могущий позволить себе роскошь долголетнего обучения детей. Для большинства населения школа оказывалась поневоле весьма непродолжительной (8 и 9-ти годичной) — и то даже в наиболее богатых странах, как, например, Швейцария и Америка. В других же странах всеобщее школьное обучение фактически но необходимости сводилось к 4—5 годам, вследствие невозможности для этих стран на более долгий срок отрывать детей старше двенадцатилетнего возраста от обычного хозяйственного труда. В двух направлениях трудовая школа разрешает это затруднение. Во-первых, связывая обучение с трудом, она не отрывает детей совсем от хозяйственной деятельности, но придает их труду лишь общеобразовательное значение. Тем самым значительная часть детского труда, выполнявшегося ранее вне школы, продолжает выполняться в школе, сохраняясь, таким образом, для общего хозяйства страны. С другой стороны, усиливая интерес к своей профессии, облагораживая ее до призвания, трудовая школа повышает тем самым общую производительность труда взрослого населения, как то показывает опыт мюнхенских «дополнительных школ», а также общий ход развития за последнее время швейцарской школьной системы. Восемь лет обязательного школьного обучения швейцарской народной школы, слагавшиеся из 6 лет «народной» и 2 лет «повторительной» школы, все более и более превращаются в 12 лет фактического всеобщего обучения по мере того, как четырехгодичные «дополнительные школы» для сельского населения в центре своей школьной программы ставят не «общеобразовательные» предметы в старом смысле слова, а сельское хозяйство, преподаваемое по трудовому принципу, т. е. так, что, исходя из него, ученик приходит к основным вопросам естествознания и культуры8. Тем самым школа вступает в связь и тесное общение с местным населением: она в подлинном смысле этого слова становится проводником новых идей, новых способов труда, новых навыков — пионером культуры.
5
В предыдущих параграфах мы старались дать возможно более полную характеристику трудовой школы, исходя из одного принципа, выражающего на наш взгляд существо ее, — принципа целостности. Теперь нам предстоит ознакомиться еще с односторонними и постольку искажающими существо ее пониманиями трудовой школы.
Наиболее грубым типом такого искажения является взгляд, согласно которому главную особенность трудовой школы составляет отсутствие в ней служительского персонала, так что дети сами убирают в ней помещения и выполняют все другие необходимые домашние работы. Выше мы с достаточной полнотой уже показали, что существо трудовой школы состоит не в том, что дети выполняют в ней работу, раньше выполнявшуюся другими, но что они иначе будут выполнять эту работу, а именно так, что она будет служить источником развития личности. Нельзя отрицать, что уборка помещений и целый ряд других домашних работ, как мы сами показали это выше на примере изготовления пищи, могут иметь высокое социальное и общеобразовательное значение особенно если они не навязываются извне, а естественно вытекают из жизни школьного коллектива. Но дело, таким образом, не в самом факте работы, а в способе ее постановки. От того, что школа будет обходиться без служителей, она не станет еще трудовой школой, а будет только напрасно отнимать у ребенка его время и энергию. И, напротив, от того, что в школе некоторые домашние работы, выполнение которых детьми, по условиям времени и места, не может быть поставлено так, что они будут служить источником общего образования, будут выполняться служителями, школа не перестанет быть трудовою.
Несколько шире понимается труд тогда, когда под ним подразумевают не одну только уборку помещений и домашние работы, но всякий ручной труд вообще. Выше мы уже указали на узость и ограниченность такого понимания трудовой школы. Работа руками ничуть не лучше работы головой. Все дело в том, как производится та и другая. И уже во всяком случае задача наша не низвести всякий труд учащегося до ручного труда, а, напротив, — ручной труд сделать в возможно большей степени источником самостоятельной умственной работы.
Значительно шире и потому опаснее то понимание трудовой школы, согласно которому трудовое обучение имеется лишь там, где в результате совместной работы класса возникает некий о б щ е п о л е з н ы й продукт труда (например, возделанное иоле, огород, мебель и т. п.). Труд понимается здесь исключительно в смысле хозяйственной производительной деятельности, и трудовая школа приобретает в этом понимании односторонний у т и л и т а р н о-практический характер. Сущность трудовой школы действительно состоит в том, что вместо пассивного повторения каждым одного и того же образца учителя, весь класс в совместной работе создает некий до того не бывший общий продукт. Но должен ли этот общий продукт непременно иметь общеполезную х о з я й с т в е н н у ю ценность? Отнюдь нет, и выше на примере чтения в классе литературного произведения мы показали, что таким продуктом может быть и совместно создаваемый классом художественный образ, имеющий не общеполезную, а эстетическую ценность. С другой стороны, простое занятие хозяйственной деятельностью, в результате которой получается общеполезный продукт, не дает нам еще трудовой школы, раз практическая деятельность не будет связана с общим развитием личности, куда входят и научные и художественные запросы. Наша задача и здесь опять-таки состоит не в том, чтобы весь труд сузить до хозяйственного труда, а в том, чтобы хозяйственный труд поднять в его достоинстве, связав его с трудом, имеющим чисто художественное или научное значение. Оспариваемый нами сейчас взгляд верен лишь постольку, поскольку он говорит, что и с х о д н ы м п у н к т о м образования в народной школе должен служить именно хозяйственный труд. Но отсюда отнюдь не следует, что хозяйственный труд должен всецело заполнять работу в школе. Такой утилитаризм может оказаться чрезвычайно вредным для школы, как то очень удачно показывает Г. Ф е р с т е р9, несправедливо называющий его, однако, американизмом. В действительности современные американские педагоги, выдвинувшие идею трудовой школы, прекрасно сознают, что чрезмерный утилитаризм оказывается в конце концов вредным даже с точки зрения хозяйственного образования. Так, например, Д ь ю и10 верно говорит: «Истинно практичный человек дает свободу уму при рассматривании предмета, не требуя слишком настойчиво в каждый момент приобретения выгоды; исключительная забота о делах полезных и прикладных настолько суживает горизонт, что в дальнейшем приводит к разрушению. Не окупается, если привязывать свои мысли слишком короткой веревкой к столбу полезности. Способность деятельности требует известной широты взгляда и воображения. Люди должны, но крайней мере, достаточно интересоваться мышлением ради мышления, чтобы выйти за границы рутины и привычки. Интерес к знанию ради знания, к мышлению ради свободной игры мысли необходим для э м а н с и п а ц и и практической жизни, чтобы сделать ее богатой и прогрессивной». Не только мышлением ради мышления, прибавим мы от себя, но прекрасным ради прекрасного. Это и есть тот необходимый в составе общего образования «созерцательный» элемент, о котором говорит в своей книге Ферстер. Приучая исследовать действительность и понимать прекрасное сначала на материале, имеющем конкретно-практический характер, трудовая школа не должна, однако, ограничиваться этим материалом, но с расширением жизненного кругозора учащегося должна освобождать его интерес от связанности его практическим моментом и тем самым подвести его к чистой науке и чистому искусству. Поэтому, особенно в старших классах, вполне мыслимо, что обстановка старого класса, в которой имеются только голые парты, куда учитель каждый раз с собой приносит образец для одинаковой работы, заменится в трудовой школе не только мастерской, в которой выполняется «общеполезный продукт», но и лабораторией, в которой учащиеся исследуют природу из чисто а б с т р а к т н о г о интереса к знанию, а также и комнатой со столами и книгами, в которой из того же чистого интереса к знанию они изучают природу, историю человечества, литературное и художественное творчество. Но даже и в младших классах «конкретно-практическую» деятельность, служащую исходным пунктом обучения, не следует понимать слишком утилитарно и все уроки насильственно связывать с выполнением общеполезного продукта! Во-первых, таким общеполезным продуктом может быть не только мебель, огород, поле, но и просто красивый цветник, сцена и декорации школьного театра, игрушки для детского сада и т. п. Во-вторых, конкретное, т. е. «то, что может быть непосредственно использовано для дела», означает не непременно то, что полезно для жизни взрослых, но что имеет непосредственное значение для жизни детей (устройство шалаша и землянки для прогулок, устройство площадки для крокета и лаунтенниса, изготовление шаров и молотков для крокета или просто, наконец, прогулка в лес, на реку, к историческим памятникам). Смотря на конкретно-практическую деятельность как на исходный пункт общего образования, мы, с другой стороны, отнюдь не думаем, что в старших классах хозяйственный труд должен быть с о в е р ш е н н о вытеснен занятиями чисто научного и эстетического характера. Действительно, обучение наукам и искусству, связанное рапсе с конкретно-практической деятельностью, Должно в старших классах освободиться от нее: этого требуют интересы научною и художественного образования, как мы это покажем подробнее ниже11. Уроки в мастерской должны замениться уроками в лаборатории и библиотеке. Но это не значит, что наряду с ними в старших классах известная часть времени не может по-прежнему отводиться хозяйственному труду, тоже постепенно приобретающему все более самодовлеющее и серьезное значение и через это становящемуся все более и более сосредоточенным. Хозяйственный труд в старших классах мы считаем совершенно необходимым не только потому, что большая часть учащихся посвятит себя после школы именно хозяйственной деятельности, но особенно потому, что, на наш взгляд, каждый человек должен приобщиться не только к науке и искусству, но и к хозяйству. Мы не против хозяйственной деятельности, которую мы считаем столь же достойной, как труд ученого, художника и государственного деятеля. Мы только против чрезмерного сужения понятия труда до пределов хозяйственной деятельности. Хозяйственный труд есть лишь один вид труда вообще, который есть понятие не экономическое только, а этическое. И трудовая школа, ставящая в центре своей образовательной работы личность учащегося, должна исходить из понятия труда в этом широком смысле слова.
6
Характерным образом суживает понятие труда П. П. Блонский в своей в высшей степени любопытной книжке «Трудовая школа». Блонский, как и мы, восстает против понимания трудовой школы, как школы ручного труда, девизом которой является «обучение, главным образом, ручному труду и обучение всему через ручной труд». «Мы не должны чуждаться ручного труда, — говорит он, — но мы не должны им увлекаться. Мы идем от него, но не к нему, и он заполняет у нас, да и то отчасти, лишь школу первой степени»12. Нельзя также сказать, чтобы в понимании Блонского трудовая школа страдала чрезмерным утилитаризмом, особенно если иметь в виду школу второй ступени (ч. II). Правда, половина рабочего времени подростка отводится на индустриальный труд на фабриках и заводах, и только половина — на научные, литературно-художественные занятия и спорт (в пропорции 4:2:1:1)13. Правда также, что, хотя научные и литературно-художественные занятия ведутся в особых «студиях» (социально исторической, физико-математической, биологической, географической, литературной, рисовальной, музыкально-вокальной), они по изучаемому ими материалу связаны с индустриальной работой подростка на фабрике и заводе (так, соответственно принципу «от работы при машине к физике» отдел теплоты проходится, например, тогда, когда подросток работает на фабрике при паровой машине, отдел электричества тогда, когда он переходит к обслуживанию динамо и т. п.). Однако Блонский настолько широко смотрит на вещи, что включает в программу занятий своей трудовой школы целые отделы, не связанные с индустриальной и вообще ни с какой хозяйственной работой (например «свет» в физике, историю религий и т. п.), целые науки, носящие отвлеченно-абстрактный характер (например философию), занятия чистым искусством, музыкой, литературой, даже «введение в науку о языке» и т. п.14. Поэтому его трудовая школа и не носит такого утилитарно-практического характера, как это могло бы показаться на первый взгляд. Напротив, Блонский, по-видимому, вполне согласился бы с нашим положением, что конкретно-практическое есть исходный пункт обучения, и что задача школы не коснеть в практически-утилитарном, а подвести ученика к пониманию чистой науки и чистого искусства (срв., например, «от индустрии через художественную индустрию к искусству и пониманию его»)15.
При всем том, Блонский, исходя из определенного социально-политического взгляда на современную эпоху, суживает, однако, понятие труда, понимая под ним исключительно «индустриальную работу», «машинный труд», «труд на фабриках и заводах»16. В основу этого своего взгляда Б. кладет следующее понимание труда: «труд есть такой процесс между человеком и природой, в котором человек подчиняет природу своей воле, заставляет ее служить человеческим потребностям». Отсюда «трудовое воспитание состоит в том, что ребенок планомерно и организованно упражняется в целесообразной деятельности, создающей из данных предметов предметы, полезные для человечества, т. е. обладающие потребительной ценностью. Трудовое воспитание есть воспитание властелина природы». Но так как «в труде самым характерным являются не столько продукты труда, т. е. создаваемые из предметов потребительные ценности, сколько орудия и способ труда», то «самым существенным моментом в трудовом воспитании является развитие в ребенке умения пользоваться орудиями труда. Сущность трудового воспитания — развитие умения пользоваться орудиями и техникой труда»17. А так как нынешняя эпоха есть эпоха машинного производства, то все образование трудовой школы должно сосредоточиваться вокруг индустриального труда. Этот взгляд и проводится Б. чрезвычайно последовательно на всех ступенях школы, начиная с детского сада и кончая старшим возрастом. Так, в детском саду уже ребенок должен присматриваться к орудиям ремесленного и земледельческого труда (пилкам, молоткам, рубанку и т. д., лопатам, серпам, плугам, жнейкам и т. д., ткацкому станку), знакомиться с автоматическими механизмами, для чего вводится «бродяжничанье» детей, «присутствие их на работах у старших», «подручничество», а также игры с заводными автоматическими игрушками. Темами строительных игр являются: «школа, мастерская, фабрика, лавка, пристань, вокзал»18. В школе первой ступени первый год посвящается «ознакомлению с окружающею трудовой жизнью» большого индустриального центра, третье лето, кроме «работы над экспериментальной грядкой», — «ознакомлению с земледельческими машинами», пятый год, кроме слесарных работ, — «демонстрации кузнечного дела». В школе второй ступени половина всего времени отводится на работу на ближайших фабриках и заводах, а четверть — на научны занятия. «Индустриально-трудовая школа в своих научных занятиях лишь подготовляет и использует тот материал, который дает подростку фабрика и завод. Настоящая школа — именно фабрика и завод. Там учится подросток, в этой сокровищнице техники и социологии. На часах же о с о б ы х научных занятий он лишь прозревает и резюмирует». «В идеале научные работы должны вестись на самом заводе, который в идеальных условиях, как аккумулятор изобретений человеческого гения, должен стать научной школой юношества. Но сейчас, по необходимости, производительный труд будет во времени отделен от научной работы подростка». При этом «индустриальный характер этой школы осуществим и в сельской местности, как потому, что школы второй ступени открываются обычнее всего в первую очередь именно в индустриальных селах, так и потому, что вообще эти Школы должны быть в деревнях проводниками, а иногда и пионерами Индустрии». Для полноты трудового образования «подросток меняет виды труда, переходя, например, за год два раза в различные мастерские». Так как в настоящее время во многих местах это было бы трудно организовать, то можно было бы «в виде суррогата сейчас рекомендовать передвижение подростков по различным школам». Вокруг индустриального труда, центрируются научные занятия: в социально-исторической студии исходным пунктом является «история местной фабрики», в физико-математической студии — «перемещающие машины», «паровая машина», «динамо» и т. п. Так достигается широкое «политехническое образование», дающее «органическую связь науки и техники, отвлеченных теоретических формул и совершенного практического действия».
Мы не будем возражать против индустриальной школы Блонского с точки зрения неосуществимости ее при настоящих условиях русской жизни. Осуществление трудовой школы вообще предполагает целый ряд условий, ныне отсутствующих, и Блонский сам, конечно, согласится, что его трудовая школа есть лишь идеал, который в полной мере вряд ли может быть осуществлен. Отдаленность идеала не есть серьезное против него возражение. Поэтому в дальнейшем мы покажем, что шкала Блонского не может быть и д е а л о м преобразования школы, так как она по существу есть искажение идеи трудового образования, и постепенно осуществление его в жизни отдалит школу от проникновения в нее трудового начала.
В самом деле, трудовая школа исходит из практической деятельности ученика, считая, что, направленный сначала на жизненно-конкретное и близкое, труд ребенка будет затем, с ростом его личности, освобождаться от своей утилитарной ограниченности и тем самым приобретать все более и более общечеловеческое и самодовлеющее значение. С развитием личности человека «труд для жизни» все более и более становится «трудом для труда». В частности, «исследование ради полезного дела», «украшение полезного» постепенно вырастает до «исследования ради исследования» и «искусства ради искусства», а параллельно с этим также практическая деятельность, все более осознаваемая в своем общечеловеческом значении, вырастает до «призвания». Проводимое Блонским ограниченное понимание труда как труда преимущественно, если даже не исключительно индустриального, — способно ли оно дать пищу внутреннему росту личности ребенка и тем самым удовлетворить основному принципу трудового образования? Сам Блонский делает для младшего возраста уступку, соглашаясь с тем, что, хотя отчасти, школу первой ступени заполняет ручной труд. И все же исключительная направленность на индустриальный труд в корне искажает трудовой принцип как в детском саду, так и в школе первой ступени. Так, вместо того, чтобы самостоятельно работать, осуществляя посильные и понятые им задания, дети в детском саду занимаются «бродяжничеством», «подручничеством», «присматриванием» — занятия, которые, быть может, пассивно ознакомят детей с в н е ш н и м в и д о м индустриальной работы старших, по не захватят их активно трудом. Темами строительных игр являются во что бы то ни стало «школа, мастерская, фабрика, лавка, вокзал», хотя, например, для деревенского ребенка изба, скворешник, голубятня, амбар, мельница (даже ветряная) исполнены более глубокого смысла и жизненного значения. Усиленно рекомендуются Блонским автоматические игрушки только потому, что они — машины, хотя очень часто автоматическая игрушка, изображающая непонятную в своем практическом употреблении и чуждую ребенку машину, не даст ему решительно никакой пищи для самостоятельной, развивающей его личность деятельности. Первые осенние месяцы школы первой ступени проходят опять-таки в «ознакомлении с административной и хозяйственной Москвой», причем даже не беда, если на деле это сведется к тому, что дети будут стоять в хвостах и ознакомятся не столько с производством бумаги и карандашей, сколько с «героями канцелярий», ведающих их распределением. Они зато будут знать, как «добываются» необходимые в их жизни предметы потребления и усвоят дух хозяйственной жизни нового индустриального общества. В последующие годы много времени отводится на то, что дети опять-таки только «знакомятся» с земледельческими машинами, и им «демонстрируется» кузнечное дело. «Гегемония индустриального труда», мы видим, ведет на деле к тому, что активная деятельность ребенка заменяется пассивным ознакомлением, труд — присматриванием, самостоятельное исследование действительности и применение добытого знания к жизни — выслушиванием рассказов о чужой жизни и трудовой деятельности других. То же самое повторяется и в трудовой школе второй ступени. Половина рабочего времени подростка отводится работе на фабриках и заводах, причем за год (а за вычетом летних месяцев — за несколько месяцев) два раза меняется мастерская. Это необходимо в видах полноты «политехнического» образования. Если в данной местности не имеется соответствующих фабрик, то ученики перекочевывают в соседнюю местность. А если и это невозможно, то «индустриальные пробелы подростка восполняются путем экскурсий, чтения и научно-теоретических занятии». Таким образом и здесь гегемония «индустриального труда» ведет к восстановлению пассивного начала в школе: р а с с к а з ы об индустриальном труде и пассивное с ним ознакомление оказываются предпочтительнее ремесленного труда в школьной мастерской и умственного труда в школьной лаборатории. Даже в качестве суррогата индустриального труда ремесленный труд оказывается ниже п а с с и в н о г о о з н а к о м л е н и я с фабричной работой. Быстрый переход от одного производства к другому, дающий чисто внешнее знакомство с фабрично-заводской работой, предпочитается постепенному росту личности учащегося в каком-нибудь одном труде, все более углубляющемся и захватывающем все больше сторон жизни трудящегося, только потому, что «индустриализм» лучше «ремесленничества», и сельское хозяйство тоже должно, по мнению Блонского, индустриализироваться. — Тем самым извращается не только принцип органического и целостного развития личности, но и принцип труда как созидающего целостность школьной общины начала. При гегемонии «индустриального труда» во что бы то ни стало сохранится ли труд класса как трудовой целостной единицы? Вряд ли. Работа на фабрике, работающей уже своим заведенным порядком, вперемежку с взрослыми, не входящими в школьную общину, есть повторение где-то далеко от школы выработанного образца, а не самостоятельное разрешение совместно с товарищами поставленной задачи. С другой стороны, работа в научных и художественных «студиях», как представляет ее себе Блонский, тоже слишком часто сводится к совместному только обсуждению классом индивидуальной работы каждого (реферата, доклада).
Гегемония «индустриального труда», наконец, приводит к явной искусственности той связи, которая устанавливается между работой в мастерских и работой в студиях. «От работы при машине — к физике» — на деле но схеме Блонского это означает: два часа ты работал на фабрике у паровой машины с пятью своими товарищами и пятью взрослыми рабочими, выполняя образец, установленный где-то далеко инженером Совнархоза. Потом с пятью теми же товарищами и двадцатью другими ты в течение часа под руководством учителя (хотя бы даже в лучшем случае того же инженера) по поводу паровой машины изучаешь законы термодинамики. Где тут возможность на деле, в живом труде, убедиться в том, что игнорирование такого-то физического закона ведет к такому-то техническому несовершенству, где тут возможность использовать самому в практической деятельности приобретенное размышлением знание? Трудовой принцип и здесь уступает место пассивному усвоению рассказа, т е м о й которого только является индустриальный труд.
Нетрудно показать, что в результате и самый индустриальный труд приобретает искусственный, чисто отвлеченный характер. Он разделяет здесь судьбу всякого гегемона: страдают не только интересы научного образования, но в конце концов и интересы хозяйственного, в частности, самого индустриального образования. В самом деле, технически совершенное далеко не всегда означает хозяйственно совершенное. Чтобы экономически оправдывать себя, т. е. работать с хозяйственной выгодой, машина подобно живому организму, нуждается в определенной культурной и природной обстановке. Технически менее совершенная машина в известных условиях будет обладать большею производительностью, чем машина, оборудованная по последнему слову техники. Так, например, если в глухую сибирскую деревню вы привезете сложную сноповязалку, не обеспечив деревню постоянной и налаженной связью с промышленными центрами, откуда можно получать запасные части машины, смазочные масла и другие питательные материалы (машина в работе непрерывно обновляется и в этом смысле «питается»), то через несколько месяцев машина перестанет работать и отвадит крестьян от употребления машинного труда. Между тем, более примитивная машина, требующая для поддержания своей работы более простой пищи, могла бы легко оправдать себя в той же самой обстановке, действительно поднять производительность местного хозяйства, приучить население к машинному труду и тем самым подготовить почву для того, чтобы через несколько лет то же село могло уже с хозяйственной для себя выгодой использовать совершенную сноповязалку, которая, преждевременно туда введенная, стояла бы без дела, оставаясь мертвым капиталом. Таким образом машина, чтобы производительно работать, должна быть приспособлена к окружающей среде: тогда только она сможет пробудить дремлющие силы природы и заставить их как бы добровольно служить человеку, т. е. обеспечить человеку господство над природой. Поэтому воспитание будущего властелина природы (цель, которую ставит своей трудовой школе Блонский) не должно ограничиваться технической стороной дела, т. е. ознакомлением с современными машинами и с работой, как она производится на фабриках и заводах. Задача хозяйственного образования, т. е. воспитания в человеке духа предприимчивости, без которого не может обойтись никакое общество, в том числе и коммунистическое, никогда не будет разрешена тем, что одну часть дня подростки будут работать на соседних фабриках и заводах (дважды в год меняя мастерские), а вторую часть дня в научных студиях переходить «от машины к науке», т. е. изучать законы природы, пользуясь примерами из техники. Прекрасно зная технику, подростки школы Блонского будут все же беспомощны в разрешении конкретной хозяйственной задачи: у них не будет умения использовать с максимальной хозяйственной выгодой окружающую природную и культурную обстановку и находить именно то, что нужно для данной среды, чтобы пробудить дремлющие в ней силы. Ибо все их хозяйственное образование в «юношеской школе» сводилось к тому, что они, с одной стороны, участвовали в другими налаженной и другими руководимой индустриальной работе, а с другой стороны, обсуждали как з р и т е л и эту работу с разных точек зрения, но с а м и не разрешали ни одной хозяйственной задачи. Школа их была лишь дополнением к чужой мастерской, но не была сама хозяйственной единицей центром хозяйственной жизни. Трудовая школа Блонского хозяйственного образования не дает и именно потому, что хозяйственное образование в ней, вместо того чтобы удовлетворяться ролью одного из важных составных элементов трудового образования, объявило себя гегемоном образования, т. е. трудовым образованием вообще.
Гегемония индустриального труда приводит к уничтожению трудового начала, потому что часть (индустриальный труд) никогда не может заменить целого (труда вообще). И действительно, в индустриальной школе Блонского индустриальный труд есть более т е м а научных занятий, чем пронизывающий их принцип. Это ведет к торжеству пассивного начала над активным. Основной принцип трудовой школы — от конкретно-практического к отвлеченно-абстрактному — в корне извращается индустриализмом. Ведь машина сама по себе не есть нечто конкретное: очень часто она В поставленном по трудовому принципу техническом образовании сама машина должна непрерывно расти в своей абстрактности и усложненности: от простой «конкретной» лопаты через соху к усовершенствованному плугу, от самодельной наполовину динамо к динамо, работающей с помощью парового двигателя. Но это возможно только тогда, когда школа сама будет хозяйственной единицей, тесно связанной с окружающей ее местной природной и культурной средой, когда учащиеся будут работать в школе, разрешая близкие им задания близкими им в своей конкретности машинами, а не отсылаться на работу в соседние фабрики и заводы, где они будут осуществлять далекие им цели, обсуживая далекие для них и постольку отвлеченные, хотя и усовершенствованные машины.
Отвлеченный техницизм Блонского сказывается не только в победе пассивного начала над активным, но и в сугубой искусственности, даже нарочитости всей его программы. Школа ручного труда, сводящая весь человеческий труд к ручному труду, достигает этого ценою в высшей степени искусственного пристегивания картонажных работ к урокам истории и т. п. Получаются картонажные работы на исторические темы, ничего общего, однако не имеющие с трудовым изучением истории. И точно так же школа индустриального труда, сводящая весь человеческий труд к труду индустриальному, достигает этого ценою в высшей степени искусственного пристегивания всех научных и литературно-художественных занятий к работам на фабриках и заводах. От того только, что учащиеся будут исходить на уроках физики и истории от разбора машин, трудовое изучение физики и истории не будет еще достигнуто. Мы отнюдь не возражаем во что бы то ни стало против индустриального труда: при известных обстоятельствах, в известном возрасте индустриальный труд может так же, как и всякий другой, быть источником общего развития личности и постольку может входить в состав трудового образования. Нет ничего невозможного также в том, что когда-нибудь индустриальный труд до того пронизает собою все стороны практической деятельности, что трудовая школа, исходящая из конкретно-практического, станет действительно в своем исходном пункте Школой индустриальной. Но это станет только тогда, когда машина сделается естественной стихией всей трудовой, домашней и школьной жизни человека. Тогда развитие личности будет естественно связано с нею как это мы имеем в школе Блонского. Мы согласны поэтому с Блонским19: нельзя «ремесленно-трудовую» школу Кершенштейнера делать недвижным образцом трудовой школы для всех народов и всех эпох человечества. Но сам Кершенштейнер нигде этого и не утверждает: несомненно только, что в Ремесленной обстановке М ю н х е н а школа, чтобы быть трудовой, Должна в своем исходном пункте носить ремесленный характер, также как в сельской России она может стать действительно трудовой, лишь положив в основу развития учащегося сельскохозяйственный труд. Человеческий труд чрезвычайно разнообразен, подвижен, многолик: и трудовая школа должна поэтому исходить из самого широкого понятия труда, не суживая его произвольным, ограниченным пониманием.
«Трудовая шкала» Блонского искусственна и отвлеченна. Она поэтому не просто неосуществима, но и утопична. Ведь утопичность идеала в том именно и состоит, что между целью и средствами, входящими в содержание каждого идеала, имеется внутреннее противоречие. А это внутреннее противоречие в индустриальной школе кроется в том, что, заранее слишком суживая понятие труда, индустриальная школа поступается самым принципом труда и постольку не приближает шкалу даже к индустриальному труду, а отдаляет ее от него.
7
Для завершения нашей характеристики трудовой школы нам надлежит еще выяснить вопрос об условиях ее осуществления Всякая школа существует в некоторой конкретной обстановке, определяющей ее внутренний строй. Какова жизнь общества и государства, такова и школа. При каких же условиях может существовать трудовая школа? Что нужно для того, чтобы она не была только формально декретирована, но и реально осуществлена? В каком направлении должны работать власть и сами учителя, чтобы хотя постепенно провести в жизнь действительно трудовое образование?
Все вероятно легко согласятся с тем, что для действительного проведения в жизнь трудового принципа необходима некоторая материальная основа: мастерские, приборы, орудия труда, классные библиотеки, специально приспособленные помещения и соответствующая мебель. Если не будет возможности дать старым школам новое материальное оборудование, а вновь открываемые школы оборудовать по-новому, то, вопреки всем декретам, школа останется по-прежнему пассивной, а преподавание в ней по необходимости — чисто «меловым». Но нельзя думать, что вопрос материального оборудования школы сводится к простому отсутствию или наличию в школе соответствующего инвентаря. Инвентарь трудовой школы не есть нечто мертвое, что можно однажды заказать и перевезти в готовом виде. Он должен непрерывно пополняться сообразно с ходом занятий и притом не но одинаковому образцу из центра, как этого было достаточно для старой пассивной школы, но по специальным заказам руководителей данной школы. А для этого необходимо наличие большого числа местных мастерских учебных пособий и местных педагогических книгоиздательств, обладающих соответствующими научными и литературными силами.
Если от внешнего оборудования школы мы обратимся к обоим живым центральным факторам трудовой школы — ученику и учителю, то увидим, что и здесь также материальное и духовное богатство является необходимой предпосылкой трудовой школы.
Эта последняя в неизмеримо большей степени, чем школа пассивная, захватывает всю личность ученика. Поэтому действительное осуществление трудовой школы возможно только там, где условия существования не вынуждают детей посвящать много времени и сил хозяйственным нуждам семьи и, главное, где хозяйственная обстановка такова, что у подростка нет необходимости в возможно более быстрый срок подготовиться к какой-нибудь определенной профессии, обеспечивающей ему возможность более или менее самостоятельного существования. Выше мы указали, что трудовая школа, углубляя профессию до призвания, подымает хозяйственный уровень населения и делает возможным действительно всеобщее обучение. Но, с другой стороны, она, в свою очередь, требует некоторой высоты хозяйственного уровня, которая позволила бы населению подняться над непосредственными интересами сегодняшнего и завтрашнего дня и ради ближайшей пользы не забывать своего более отдаленного, но и более глубокого длительного интереса. Профессиональная школа, ограничивавшая свое обучение усвоением навыков, непосредственно необходимых для той или иной профессии, держалась не только бедностью государства, нуждавшегося в школах, могущих в возможно более короткий срок подготовить необходимых ему служащих, но и бедностью населения, требовавшего от школы того только, что необходимо для возможно скорейшей подготовки к какой-нибудь работе своих детей. Бедность, можем сказать мы, перефразируя слова Дьюи, привязывает образование слишком короткой веревкой к столбу полезности. Трудовая школа, именно потому что она практическую деятельность делает исходным пунктом общего развития личности, предполагает освобождение от слишком узко понятой полезности, и поэтому условием ее осуществления является повышение хозяйственного благосостояния населения.
То же самое относится и к учителю трудовой школы. Повторять установленный в центре образец, проверять выполнение учениками этого образца, как то имело место в пассивной школе, — все это требует меньше времени, меньшей самодеятельности со стороны учителя, всему этому легче научиться, чем то непрерывное напряжение педагогического творчества, которое составляет сущность работы учителя в трудовой школе. Дело отнюдь не исчерпывается тем, чтобы создать нового учителя, хотя и эта задача требует громадной предварительной работы но учреждению высших педагогических учебных заведений, могущих быть рассадниками новых педагогических идей и новых преподавательских сил. Не менее важно сохранить этого нового учителя, т. е. поставить его в такие условия работы, при которых механизм и рутина, стерегущие всякую практическую, особенно педагогическую деятельность, не заглушили бы в нем того внутреннего стремления к творчеству, которое могло быть сообщено ему во время пребывания его в педагогической академии. Если для того, чтобы существовать, учитель по-прежнему должен будет иметь 36 недельных уроков, то никакие самые строгие декреты не искоренят чисто пассивного преподавания. Изменится только выполняемый учителем и учениками образец: вместо старого монархического и «буржуазного» образца будет выполняться «индустриально-коммунистический» образец, но суть дела останется неизменной, и трудовая школа будет трудовой только по названию. То же самое касается и сравнительного отношения числа учащихся к числу учащих: в трудовой школе последнее должно быть гораздо ниже того, которое допускалось в школе пассивной. Наконец, всякое творчество предполагает возможность непрерывного совершенствования: для этого необходимо широкое развитие издательского дела, обилие педагогических популярных и научных журналов и изданий, правильно функционирующие каникулярные курсы для учителей, имеющие своей целью периодически освежать их научные знания и восстанавливать их связь с университетами и другими высшими учебными заведениями. Но все это предполагает наличие богатой материальными и духовными силами культуры.
Для сохранения будущего нового учителя не менее важны также правовые условия его существования. Если у учителя не будет возможности свободно отстаивать и проводить в жизнь свои педагогические взгляды, хотя бы они во многом расходились со взглядами власти, то очень быстро вся его деятельность превратится в выполнение установленного образца, что в свою очередь сведет и работу учеников к тому же самому. Свобода учительских союзов, кружков, организаций, совещаний, собраний есть поэтому, также как и материальное благосостояние учителя, необходимое условие трудовой школы. Свободное профессиональное движение, идущее снизу, а не насаждаемое принудительным образом сверху по одному одинаковому образцу, есть та естественная атмосфера, которая учительский союз может сделать ячейкой подлинной творческой педагогической работы учителей, на собраниях союза знакомящих друг друга с результатами своей работы, делящихся на них своими сомнениями, неудачами, достижениями, проверяющих и распространяющих свои взгляды.
Сюда же относятся правовые гарантии работы учителя внутри самой школы, что непосредственно подводит нас к вопросу об отношении школы к государству. Не углубляясь в него сейчас подробно, укажем только, что трудовая школа предполагает условия, обеспечивающие самостоятельность не только отдельного учителя, как такового, но и школьного коллектива в целом. Мы не стоим за неограниченную автономию педагогов, но полагаем, что школьный коллектив, куда непременно входят представители обслуживаемого школой населения, не должен быть связан в своем педагогическом творчестве слишком тесными рамками обязательных к исполнению государственной программы и однотипной сметы. Только при чрезвычайном сокращении обязательного для всех школ программного минимума, при допустимости большого разнообразия учебных программ и планов, при надзоре со стороны государства, поставленном так, что в первую очередь спрашивается не «что» пройдено, а «как» пройдено, при самоуправлении школьного коллектива, обеспечивающем возможность дружной целостности его работы, возможно реальное, а не мнимое существование трудовой школы. Но создание такой атмосферы свободы и права предполагает не только наличие у правительственной власти доброй к тому воли. Оно предполагает в свою очередь фактическую к тому возможность, т. е. богатство. В самом деле, если у правительства нет в распоряжении достаточного числа нужных ему слуг, то школы, изготовляющие таковых в возможно короткий срок по определенному, из центра предписанному образцу, будут по необходимости преобладать.
Таким образом, богатство и право — эти два условия осуществления трудовой школы — держат друг друга. Значит ли это, что нам при пашей бедности и отсутствии у нас правовой культуры следует отказаться от идеала трудовой школы как заведомо неосуществимого? Такой максимализм отнюдь не вытекает из развитого нами выше понимания трудового образования. Самые условия его существования — материальное и духовное богатство и право — формулированы нами тоже так, что допускают разные степени осуществления. В меру увеличения богатства и права возможно и последовательное введение в школу трудового начала. Учительство и школьные власти не должны просто ждать богатства и права, чтобы только тогда начать как-то сразу преподавать по трудовому принципу. Сократится число обязательных в школе предметов, сократится сумма обязательно требуемой в школе программы, — и, вместо введения новых местных предметов и выработки своих местных подробных обязательных программ, школы смогут ввести трудовой принцип в преподавание оставшихся предметов. Появится возможность оборудовать мастерскую, создать лабораторию или ученическую библиотеку — опять новые перспективы для дальнейшего расширения трудового начала в школе. Мы не изверились в будущем нашей страны: мы верим в будущее ее богатство и в будущий ее правовой строй. И потому мы думаем, что учительство должно уже сейчас готовиться к преобразованию школы нашей в трудовую. Каждый этан в увеличении нашего богатства и нашей правовой культуры должен быть отмечен новым усилием со стороны учительства в этом направлении. Для этого необходимо только твердо и отчетливо представлять себе, что такое трудовая школа, уметь, с одной стороны, резко отличать производительный труд от маскирующихся трудом его суррогатов, а с другой — уметь не подменять единую, но кроющую в себе бесконечное многообразие видов идею труда ее изменчивыми, временными и ограниченными воплощениями.
Трудовая школа не есть, таким образом, нечто готовое и данное, что может или сразу, полностью быть осуществлено или не быть вовсе. Задача трудовой школы — осуществление принципа целостности в постановке каждого отдельного урока и в организации совместной работы класса — может быть разрешена полностью лишь тогда, когда педагогическая работа совершенно преодолеет подстерегающий ее на каждом шагу механизм Но такая безусловная победа над механизмом есть только цель наших достижений, а никогда не факт нашей жизни. Как бы ни были благоприятны внешние условия работы учителя и как бы ни отвечал он сам своему призванию, он всегда по необходимости будет выплачивать дань механизму, в результате чего совместный труд будет вырождаться в одинаковую, по общему образцу выполняемую работу, и идея конкретной целостности будет принимать личину одинаковой отвлеченной общности. Значит ли это, что трудовая школа — химера, существующая только в утопии? Нет, это значит только, что трудовая школа есть регулятивный принцип, идея, допускающая различные степени своего осуществления и указующая путь реальной школьной работе. И с этой точки зрения следует оценивать данную нами выше ее характеристику, намеренно слишком резкую и отнюдь не претендующую на то, чтобы стать образцом безусловного подражания. Чтобы остаться верной идее труда — этой основной идее школы — нынешняя школа должна переродиться в направлении того нового типа школы, который так настойчиво, с попятными преувеличениями, ищет современная педагогическая мысль и основные линии которого мы старались выше начертать20. Но что этот новый тип школы вытекает из всего предыдущего ее развития, что он предчувствовался уже и предыдущей педагогической литературой, и что и старая школа в своих лучших образцах тянулась все к той же идее трудовой школы, — это мы сами старались показать.
Литература вопроса. О школе вообще кроме Н а т о р п а «Соц. педагогика», §§ 21, 27, срв. Ф е р с т е р а «Школа и характер». — Из многочисленной литературы о трудовой школе отметим (на русск. яз.): К е р ш е н ш т е й н е р. Основные вопросы школьной организации. Спб. 1911 и М. 1911. Понятие трудовой школы. М. 1910 и 1913. Понятие характера и воспитание характера. Спб. 1913. Математическое и естественно-научное преподавание в сборн. «Задачи и устройство средней школы». Спб. 1911. Развитие у детей способности рисования. Спб. 1914. Д ь ю и. Школа и общество. Спб. Изд, «Посредника». Педагогика и психология мышления. Б л о н с к и й П. Трудовая школа, 2 вып. 1919 г. Р у б и н ш т е й н. Основы трудовой школы. Иркутск 1920.
К истории вопроса: П е с т а л о ц ц и. Лингард и Гертруда; Как Гертруда учит своих детей.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА IV
- Психология и педагог, мышления, гл. 10. Старая теория абстракции, происходящая еще от Локкова эмпиризма, считала, что абстрактное есть общее, как продукт отвлечения нашего ума, тогда как конкретное — это те представления, которые являются непосредственным продуктом восприятия нами единичной действительности. Однако мы никогда не воспринимаем единичной действительности, но только отдельные ее моменты. Новейшая психология показывает, что наши первоначальные представления обладают средней общностью: как представления о единичном, так и представления высокой степени общности возникают потом и предполагают высокий уровень способности «абстракции». Это объясняется тем, что для нашего практического действия нам вполне достаточно знания родовых качеств предметов средней общности. Единичное (тем более индивидуальное) и общее высших степеней общности не нужно нам для нашего действия, почему для представления их и требуется специальное усилие внимания. Что первоначальный состав наших представлений характеризуется средней общностью, — показывают хотя бы детские рисунки, фиксирующие именно не единично-индивидуальные, а только родовые качества изображаемых предметов. Этим доказывается, что «абстрактное» означает не отвлеченное от единичной действительности, а отвлеченное от нашего действия. Конкретное — не единичная действительность, а жизненно-практическое. Абстрактно — знание, имеющее интерес ради себя самого. Срв. Бергсон. Материя и память, гл. 2 и Н. Лосский. Обоснование интуитивизма, гл. 8 «Общее и индивидуальное».
- «Школа и характер», гл. «Педагогика повиновения», отд. «Педагогич. значение малого». — Срв. слова Гете в «Вильг. Мейстере»: «В малом, что я правильно делаю, я вижу образ всего великого, что правильно творится в мире».
- «Школа и общество».
- Основные вопросы шк. организации. М. 1911, стр. 128 — 129.
- Основные вопросы школьной организации, стр. 59.
- См. ниже гл. 8, §§ 3—4.
- Так например в интересах правового воспитания будущего гражданина правильнее было бы вместо прибавления к 34 часовой недельной программе еще новых 4 часов уроков правоведения, на которых пассивно излагаются мысли о праве, развиваемые учителем, исключить 4—6 часов из обязательной программы, дабы освободившееся время было использовано в целях преподавания хотя бы одного учебного предмета по трудовому принципу. Научившись видеть в своем товарище не соперника, а сотрудника по общей работе класса, ученик привык бы тогда подчинять свои личные интересы интересам целого. Он привык бы уважать тогда труд соседа в его незаменимости, свой собственный труд и самый рост своей личности приучился бы не отделять от целокупного труда той трудовой общины — класса, незаменимым членом которой он сам являлся бы. Жизнь в целом одна только способна внушить человеку уважение к собственной личности и праву, как к личности и праву другого. Поэтому только трудовая школа, а отнюдь не уроки правоведения даже у лучшего учителя способны дать будущему гражданину подлинно правовое воспитание.
- Срв. главу 6. § 3.
- Школа и характер, стр. 62 сл.
- Психология и педагогика мышления. 124.
- Срв. главу 11.
- Б л о н с к и й. Ч. I. стр. 10. 11.
- Там же. Ч. II, стр. 12 сл.
- Там же. Ч. II. стр. 22 сл., 16 сл., 34, 38 — 46, 48.
- Стр. 37.
- Ч. I. стр. 9 - 12, Ч. II, стр. 5 - 12.
- I, стр. 8.
- Там же, стр. 26, 12, 30.
- Ч. I, стр. 10.
- Недостатком книжки Рубинштейна о трудовой школе является как раз то, что в его изложении совершенно уже утрачивается всякая грань между намечающимся новым и старым типом школы. Немудрено поэтому, что в предшественники трудовой школы у него попадают и Рабле и Коменский, Фребель и даже Гербарт (последний, например, только потому, что он настаивал на пробуждении у ученика многостороннего интереса), а к числу современных ее представителей и защитники идеи свободного воспитания, как например Бертольд Отто.
Глава V. СТУПЕНЬ ГЕТЕРОНОМИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). АВТОРИТЕТ И СВОБОДА В ШКОЛЕ
1
От следования природному влечению и от понуждения со стороны естественной необходимости ребенок не сразу может перейти к осуществлению своего жизненного назначения, предполагающему добровольное ограничение своего внешнего Я в пользу сверхличных целей. Добровольное подчинение закону долга предполагает умение подчиняться закону вообще, ограничивать свои непосредственные влечения более отдаленными и длительными интересами целого. Должное, первоначально совершенно непонятное ребенку и открывающееся ему впервые лишь в образе естественной необходимости природы, должно быть наконец явно формулировано как должное. При правильной постановке образования на ступени аномии такая формулировка должного в виде определенных правил поведения не явится уже для него чем-то совершенно новым В детском саду ребенок уже привык подчиняться определенному распорядку жизни, считаться с волей и интересами других детей, следовать правилам общей игры: он уже чувствует должное в человеческих отношениях, вплотную подведен к нему, хотя это должное и не формулировано еще в определенных правилах, но открывается ему лишь в образе природной необходимости. При таких условиях от детского сада до школьной дисциплины только один шаг; школьная дисциплина первоначально и должна означать простое формулирование в общих правилах поведения того, что ребенком уже чувствуется как жизненная необходимость и что им фактически исполняется. И здесь опять-таки подтверждается высказанное нами выше положение о повторении отдельным человеком развития, пройденного некогда человечеством в целом. Ведь первоначальные кодексы нрава являются не чем иным, как формулированием фактически выполняемого обычая. В это смысле правильно было подмечено, что должное первоначально не только не противопоставляет себя фактически существующему, но есть не что иное как формулирование фактически существующего, из которого оно медленно и постепенно высвобождается в своем отличном от бытия своеобразии Идеальная линия долга не отличается первоначально от фактической линии поведения; и сначала человек поступает так, а не иначе не потому, что ему это предписывает его индивидуальный долг, а потому, что так поступают все, что таков факт теряющегося в прошлом, не людьми, а как бы самой природой установленного обычая.
Если подчинение авторитету внешнего закона вырастает из следования фактически выполняемому обычаю, то цель авторитета и его внутреннее оправдание коренятся в разуме, автономное подчинение которому превышает но своему достоинству гетерономию авторитета. Значение авторитета в том именно и состоит, что он есть необходимая посредствующая ступень между внешней силой, которой естественно подчиняется ребенок, и свободным подчинением внутреннему закону долга. Этим определяется основное правило организации авторитета: школьная власть как носительница внешнего закона должна быть организована так, чтобы воспитывать к свободе. В ней так же должно просвечивать автономное подчинение разуму, как в уроке должно предчувствоваться будущее творчество человека. Как же пронизать авторитет свободой? Как сделать, чтобы, подчиняясь школьной дисциплине, дети тем самым учились не просто послушанию власти, а следованию велениям долга? И здесь опять-таки указание точных рецептов невозможно. Педагогика может установить лишь общий принцип, применение которого в отдельных случаях должно видоизменяться в зависимости от особенностей окружающей обстановки, что предполагает неустанное творчество воспитателя. Этот принцип в данном случае может быть формулирован нами следующим образом: хотя правила поведения и предписываются ученику извне (школьной властью), они должны быть таковы, к а к б у д т о ученик сам их себе поставил. На некоторых общеизвестных примерах попробуем разъяснить смысл этого общего положения. Мы увидим, что все они легко приводятся к нему, как своему основанию.
Школа требует, например, от учеников обязательного ношения формы. Если форма эта не имеет никакого рационального основания, попятного ученикам, то выполнение учениками этого требования школы будет только простым послушанием предписанному закону: в нем не будет просвечивать свободы, и им не будет воспитываться чувство долга. Напротив, если требование формы вытекает из соображений гигиены и удобства во время совместной работы, то, выполняя предписание школы, ученики тем самым будут исполнять свой долг по отношению к себе и другим (забота о своем здоровье и здоровье товарищей по работе). Это значит, что предписываемые школой правила поведения должны быть оправданы условиями совместной работы. Только тогда они будут понятны ученикам в своих мотивах («как будто сами ученики их себе поставили») и не будут вызывать против себя естественного для молодости возмущения. Оправданные требованиями совместной работы класса правила школьной дисциплины должны, очевидно, равно распространяться на учащихся и учителей, одинаково принимающих участие в общей работе. Ничто не колеблет более авторитета учителя и школьной дисциплины, как неисполнение учителем обязательных для учеников правил поведения, так же как, с другой стороны, ничто не укрепляет более авторитета учителя, чем смелое признание им содеянной ошибки. В учениках должно быть живо сознание, что предъявляемые к ним требования суть не прихоть имеющих власть учителей, но объективная необходимость, вытекающая из факта общежития. Они должны быть приведены к понятиям закона и нрава, существо которого состоит в том, что оно связывает не только подвластных, но и властвующих. А это значит, что в школе должен господствовать дух права, она должна представлять собою не неограниченную деспотию начальника, а как бы правовое государство в миниатюре.
Внутренняя организация школы не всегда соответствовала духу права, основным требованием которого является равенство перед общим законом. Если мы возьмем, например, иезуитскую школу, послужившую, как известно, образцом для первых русских школ еще в допетровскую эпоху нашей истории, то мы найдем в ней принципиальное утверждение неравенства не только между учениками разных классов, но даже в среде учеников одного и того же класса. Проводя в школе иезуитский принцип заслуги и основывая школьную дисциплину на системе наград и наказаний, иезуитская школа устанавливала различное положение для разных учеников в зависимости от их заслуг перед школой, что на практике сводилось конечно к заслугам перед начальством. Заслуженные ученики имели в школе привилегированное положение не только в том смысле, что им разрешалось то, что не разрешалось другим ученикам, но и имели право власти над своими товарищами. Такое право предоставлялось в особенности заслуженным ученикам старших классов над младшими учениками. В известных очерках бурсы Помяловского мы имеем изображение выродившейся и искаженной школы этого типа. Отдельные слабые следы этой внутришкольной системы привилегий сохранялись в школе долгое время спустя, после того как система иезуитской школы была, вообще говоря, оставлена: сюда относятся рассаживание учеников в классе в зависимости от их заслуг, так называемые разрядные списки учеников, техника ведения которых была еще предметом подробного «исследования» в популярных руководствах по педагогике конца прошлого века, и многое другое. Система привилегий иезуитской школы в точности соответствовала основной воспитательной задаче: внедрить в учениках способность безусловного послушания авторитету. Авторитет был для нее последней и высшей ступенью властвования и подчинения. Именно в восстановлении силы поколебленного Реформацией авторитета и видела свою основную задачу католическая реформация, главным орудием и руководителем которой был иезуитский орден. В противоположность этому идеалу послушания однажды признанному авторитету современная школа есть детище Реформации: авторитет, как бы ни был он высок и бесспорен, не есть для нее нечто последнее. Выше авторитета стоит разум человека, и самое подчинение авторитету должно быть оправдано разумом, свободно принимающим предписание авторитета. Способность послушания не есть поэтому последняя цель воспитания; послушание есть только средство, имеющее целью воспитание в человеке чувства долга, удовлетворяемого его свободным действием. А это значит, что авторитет школьной власти должен быть пронизан свободой, и, следовательно, веления авторитета должны быть в состоянии выдержать критику разума. Но последнее возможно только тогда, когда, вытекая исключительно из понятных ученикам условий совместной работы, они распространяются в равной мере на всех работающих. Тогда только, хотя и предписанные извне, правила поведения будут все же таковыми, как будто они были предписаны учениками самими себе. Тогда также послушание им будет больше, чем простое послушание, оно будет исполнением своего личного долга. Таким образом, не только современное понимание школьной работы как подготовки к призванию, но и современное понимание школьной власти как власти правовой укоренено в последнем счете в выдвинутом Реформацией идеале. Воспитание правового чувства в человеке и является одной из основных функций школы: правильно организованная школа воспитывает в человеке способность уважать право другого и отстаивать собственное право, дурно организованная школа, напротив, вытравляет чувство права и законности, сколько бы уроков ни отводила она отвлеченному изучению правоведения1.
Если основанная на принципе заслуги система наград и наказаний отвергается современной школой, стремящейся осуществить внутри себя начало права, то следует ли отсюда, что «всякое наказание есть зло», как это склонна утверждать современная педагогика2? Мы менее всего намерены приписывать наказанию какую-то исключительную силу и видеть в нем своего рода панацею воспитания. Не подлежит сомнению, что к наказаниям особенно охотно прибегают там, где за отсутствием времени, многолюдством воспитанников, отсутствием интереса к детям нет возможности хорошо наладить воспитание. Постольку частое использование наказания как средства воспитания есть очевидный симптом механизма, власти которого подпала соответствующая практика воспитания. Взыскать и наказать за содеянный дурной поступок гораздо легче, чем правильным воспитанием предупредить совершение этого поступка. Для этого не нужно ни напряжения творчества ни бдительности воли воспитателя, и достаточно только «недреманого ока» начальства. Механическое по своему происхождению, наказание испытывает к тому же судьбу всякого механизма: оно кроет в себе начало своего внутреннего разложения. Будучи повторяемо, оно теряет силу воздействия на воспитанника, вырабатывает в нем привычку и безразличие к себе. Чтобы сохранить прежнюю силу воздействия, оно при повторении должно каждый раз усиливаться в степени, в результате чего наказывающий неминуемо должен в конце концов придти к «высшей мере» наказания, в данном случае к исключению из школы. Таким образом, как единственная и даже излюбленная мера воспитания, наказание несомненно уничтожает само себя, вырождаясь в средство механического вынуждения поступков, с которыми в душе воспитанник не согласен, и воспитывая тем самым в ученике лицемерие, лживость и угодливость. Поэтому нам вполне понятно отрицательное отношение к наказанию как к преимущественно механическому средству воспитания.. Но представляя собой естественную реакцию против злоупотребления наказанием, не является ли огульное отрицание наказания в свою очередь только данью, которую педагогическая теория выплачивает механизму? Теоретическое отрицание наказания — не сводится ли оно на деле к тому, что педагогическая теория просто закрывает глаза на проблему большой важности и оставляет тем самым без руководства практику воспитания, которая всегда пользовалась, пользуется и будет пользоваться наказанием, сколь бы ни утверждала теория противного?
Нетрудно, однако, показать, что отрицание наказания не только не проводимо на практике, но не может быть последовательно проведено даже в теории. Более того: как ни парадоксально это звучит на первый взгляд, но можно показать, что педагогическая теория в сущности и не отрицала никогда наказания как такового. В самом деле: вполне мыслимо отрицание принуждения вообще. Наказание отрицается тогда не как наказание, а как один из видов принуждения, и отрицание наказания есть тогда частный случай некоторого более общего отрицания. Так и поступает теория свободного воспитания, вполне последовательно с своей точки зрения отвергающая наказание. Но возможно ли, с одной стороны, отвергать теорию свободного воспитания и признавать, вообще говоря, принуждение в воспитании, а с другой стороны — отвергать безусловно всякое наказание? В этом отрицании наказания на фоне признанного принуждения не кроется ли противоречие и внутренняя неясность мысли? Ибо, приходя к детям как «естественное следствие их дурного действия» и будучи «естественным», наказание не перестает быть наказанием, т. е. сознательной реакцией воспитателя на дурной поступок ребенка, и притом реакцией принудительной, налагаемой на него извне воспитателем. Ведь между ожогом, как естественным следствием неосторожного обращения с огнем, и холодом, испытываемым Эмилем от того, что Жан Жак нарочно не вставляет разбитого Эмилем окна и притом тогда именно, когда окно разбито Эмилем не по неосторожности, а с умыслом, — имеется резкое различие. В первом случае мы действительно имеем реакцию самой природы на поступок человека. Реакция эта лишена какого бы то ни было нравственного смысла, и мы ее испытываем ежечасно, как в большом, гак и в малом. Во втором случае мы имеем только замаскировавшуюся под природу реакцию воспитателя на дурной поступок ребенка. Реакция эта имеет своей целью осудить дурной поступок, привести ребенка, его совершившего, к сознанию его неправильности и подтвердить тем самым объективность должного в человеческих отношениях, хотя и нарушенного дурным поступком, но не умаленного от того в своей силе как должного. Что на ступени аномии объективность должного, непонятная, как таковая, ребенку, должна быть явлена ему в образе естественной необходимости природы, и воспитатель должен наказывать так, к а к б у д т о бы наказывает не он, а сама природа, — это мы сами признали выше, и в этом состоит бесспорная правота идеи естественного наказания Руссо3. Но от этого наказание не становится меньше наказанием, оно только принимает определенную, теорией и практикой оправдываемую форму, и постольку даже у Руссо отрицание наказания является не столько отрицанием наказания, сколько отрицанием всех других форм наказания, кроме «естественного».
Можно ли удовлетвориться, однако, этой формой естественного наказания? Единственно пригодная на ступени аномии и, как мы видели, в общем вполне осуществимая в детском саду, может ли она быть успешно применяема и в школе? Конечно, уже в детском саду нельзя за разбитое одним ребенком окно заставлять всех детей испытывать действие холода. Правда, вполне возможно зато, как мы видели это на приводимом Монтессори примере, изолировать в порядке естественного наказания дурно ведущего себя ребенка от других, не мешая этим игре всех детей. Но школа в отличие от детского сада представляет собою организацию совместной работы, и именно чем более все ученики представляют собою организованную целокунность работающих. Поэтому естественное наказание в школе просто неосуществимо: направленное на одного, оно по необходимости будет затрагивать и других, не заслуживающих наказания. По счастью, однако, естественное наказание не только не осуществимо в школе, но и нежелательно. Являть объективность должного в образе природы имеет смысл только тогда, когда должное еще непонятно ребенку, но в школе, где совместная работа учеников подчиняется уже явно высказанным правилам, эту работу регулирующим, нет уже никакого смысла игнорировать нарушение этих правил, понятных ученикам в своей общественной необходимости. Ошибка педагогов, признающих вообще принуждение и отрицающих наказание, состоит в том, что они не различают между отдельными ступенями воспитания. Наказание для них есть нечто однородное, однообразное, имеющее всегда одну и т у ж е форму чисто внешне устрашающего механического воздействия. Таковым оно и является в дурном воспитании, применяющем одинаковые средства наказания как к семилетним детям приготовительного класса, т а к и к кончающим школу юношам. И заменяя его для раннего детства «естественным» наказанием, представляющимся им отрицанием наказания, они для старшего возраста поневоле остаются при одном голом отрицании.
На самом деле наказание таково, каково воспитание. Оно имеется всегда там, где есть принуждение, и в зависимости от характера последнею принимает различные формы. Где воспитание лишено творчества и в своем механическом однообразии подводит под один ранжир детей дошкольного возраста и оканчивающих школу юношей, — наказание принимает одиозную форму справедливо отвергаемого педагогикой механического внешнего воздействия, игнорирующего в своем однообразии различие возрастов. Где воспитание строится на принципе фактической свободы, оно отсутствует как наказание и принимает форму случайной реакции внешней среды или столь же беспорядочного самосуда толпы (случай с вором в яснополянской школе). В правильно организованном воспитании на ступени аномии оно должно принять форму естественного наказания. И если верно то, что мы выше говорили о школе, как в первую очередь правовом сообществе, проникнутом идеей из совместной работы вытекающего и для всех в равной мере обязательного закона, то очевидно, что в школе, на ступени гетерономии, оно должно принять форму правового акта. В наших представлениях о наказании этот смысл наказания как правового акта как-то слишком часто забывается. Наказание представляется нам всегда в виде штрафа, ареста или тюрьмы, и мы склонны поэтому односторонне видеть в нем только меру устрашения и мести. Забывается, что наказание возникло в интересах охраны преступника. Периоду наказания в нашей истории предшествовал период родовой мести; нарушивший закон преступник объявлялся вне закона, объявлялся «волком» и извергался тем самым из человеческого общения. Наказание при своем возникновении было ценою, которою преступник покупал вновь «мир», становился вновь под охрану им же нарушенного закона, ограждающего его от самосуда и родовой мести со стороны родичей жертвы преступника (потому первоначально наказание и носит характер денежной пени — «купли мира»). В этом смысле глубоко прав Гегель, говоря, что наказание есть честь преступника, воздаваемая только свободному человеку в отличие от раба и животного. Поэтому не в причинении, зла преступнику и не в устрашении смысл наказания, а в охране «мира», то есть права и в том числе права самого преступника, а это достигается только тем, что беспристрастный и признанный обществом авторитет высказывает оценку нарушившего право поступка, о с у ж д а е т недолжное действие и тем самым подтверждает силу нарушенной преступником, но от того не умаленной в своей значимости правовой нормы4. Такова же цель наказания как педагогического акта. Это все та же цель нравственного образования — воспитание в человеке чувства объективности должного. На ступени аномии, где отсутствует еще авторитет и нет явно формулированных правил поведения, наказание по необходимости принимает форму «естественного» наказания. На ступени школы оно, напротив, должно стать тем, чем оно является по существу, т. е. принять явную форму правового акта5.
Каким требованиям должно удовлетворять наказание как правовой акт? Прежде всего оно не должно быть непосредственной реакцией учителя на проступок ученика. Сколь бы ни был виновен ученик и прав учитель, в последней всегда сохранится оттенок мести, возмещения за личную обиду. Как в суде государственном наказание налагается лишь после объективного рассмотрения всех обстоятельств дела и выслушания объяснений виновного, так и в школе оно должно быть результатом объективного и беспристрастного разбирательства поступка, как бы ни была на первый взгляд очевидна вина виновного. Если, далее, в самом наказании отсутствует момент оскорбления личности наказанного, а лицо, налагающее наказание, обладает должным авторитетом в глазах учеников, то можно быть заранее уверенным, что наказание, даже строгое, будет в душе признано ими, в том числе и самим наказанным, как справедливый и должный акт. Взаимное доверие между учениками и учителем, являющееся одновременно условием и следствием правовой атмосферы в школе, есть конечно необходимая предпосылка справедливости наказания. При наличии его наказание легко может ограничиваться самыми мягкими формами (сводиться к выговору), и вместе с тем оно будет одним из могущественнейших средств поддержания в учениках уважения к авторитету школьного закона и самого учителя. Ничто, напротив, не подрывает более авторитета учителя в классе, как уклонение его от оценки дурного поступка ученика, особенно если этот поступок носит обидный характер по отношению к одному из товарищей или к самому учителю. Вовремя заклеймить недолжный поступок справедливым актом осуждения, лишенного, однако, оттенка пристрастия, личного раздражения, мести и оскорбления личности осужденного, — есть великое и трудное искусство воспитателя.
Наказание, сказали мы, должно носить характер правового акта и быть результатом справедливого и беспристрастного приговора. Не следует ли отсюда, что лучше всего оно будет удовлетворять этим требованиям, если оно будет прерогативой товарищеского суда? Несомненно, в этой своей форме наказание более всего способно проявить свой правовой смысл. И товарищеский суд, особенно разрешающий недоразумения, возникающие между учениками, представляется нам необходимым институтом идеальной школы. Следует только еще и еще раз подчеркнуть, что необходимым условием правильного функционирования товарищеского суда является авторитетность его в глазах учеников. А это возможно только там, где практика школьного самоуправления приучила уже учеников к разрешению собственными силами своих общественных дел, где имеется уже привычка подчиняться решениям избранных учениками же органов управления, где последние пользуются доверием избравших их товарищей. Наказание, налагаемое лицом, не пользующимся доверием класса и не обладающим в его глазах авторитетом, всегда будет вызывать против себя возмущение и вырождаться в чисто механическое орудие устрашения, — все равно, есть ли это лицо учитель или поставленный самими же учениками коллективный орган. Поэтому товарищеский суд есть не начало, а завершение школьного самоуправления. Только после того, как класс приобрел уже прочные навыки самоуправления, возможно учреждение в нем товарищеского суда, особенно — предоставление последнему права наказания за нарушение школьной дисциплины. Поэтому также столь желательно участие в товарищеском суде учителя, способного предотвратить поспешные и ложные шаги, столь опасные именно в первое время, когда новому учреждению надо еще только завоевать доверие класса. Ниже мы подробно остановимся на проблеме школьного самоуправления и тесно связанного с ним товарищеского суда. Сейчас мы коснулись этого вопроса лишь для того, чтобы показать, сколь неправильно огульное отрицание наказания, особенно странное со стороны тех, кто готов признать школьное самоуправление в его самых крайних формах, включающих также товарищеский суд. «Естественное наказание» на ступени аномии, а в школе — наказание как правовой акт, являющийся при благоприятных условиях (и то в старших классах) прерогативой товарищеского суда, — вот две основные предельные формы наказания, соответствующие основным ступеням нравственного образования вообще. Установить между ними постепенный переход в соответствии с нравственным развитием личности ребенка, первоначально понимающего одну лишь силу природной необходимости и проистекающий из нее чисто материальный ущерб и только постепенно проникающегося идеями закона и сознания своих и чужих прав и обязанностей, — уже дело умения, такта и наблюдательности воспитателя.
Если «естественное наказание», с одной стороны, и наказание как правовой акт, с другой, являются единственно допустимыми формами наказания, то стоит ли еще останавливаться подробно на вопросе о так называемом «физическом наказании»? Не ясно ли, что физическое наказание противоречит равно обеим этим формам и потому должно быть признано недопустимым? К сожалению, однако, физическое наказание чаще, чем это многие думают, применяется на деле (в чем несомненно отчасти виновна и педагогическая теория, уклоняющаяся от обсуждения проблемы наказания). Мы коснемся поэтому здесь и этого вопроса, тем боле, что обсуждение его позволит нам еще резче оттенить одну существенную сторону наказания. Физическое наказание применяется обыкновенно в двух формах — в виде непосредственной реакции со стороны учителя (удар линейкой, пощечина и т. п.), как это до сих пор еще, к сожалению, практикуется в германских школах, и в виде более или менее торжественной экзекуции на основании предварительного приговора, как это до самого последнего времени имело место в школах английских. Первый вид физического воздействия недопустим потому, что он лишает наказание его моральной убедительности, заслоняя его грубым фактом физического насилия и вызывая в ребенке привычку доказывать свою правоту дракой. Подобное битие учителем учеников не удовлетворяет ни понятию «естественного наказания», в котором сила должна быть пронизана авторитетом и потому должна быть явлена детям в виде безличной, не знающей произвола реакции самой природы, ни понятию наказания как правого акта, при котором объективность должного обнаруживается в результате беспристрастного и всестороннего обсуждения. Ничто не противоречит больше идее должного, явить которую в ее моральной силе и составляет цель наказания, чем произвол учителя, и ни в чем более не проявляется этот произвол, грубая власть сильнейшего, как в битье учителем ученика. Сила Должна быть сокрыта как сила, тогда только она будет иметь моральную убедительность, т. е. будет пронизана авторитетом. Наказание должно быть налагаемо или «самой природой» или законом в его объективной очевидности, и потому именно оно никогда не должно вырождаться в драку, способную только оскорбить ученика и вызвать в нем желание отомстить, когда он окажется сильнейшим. Последнее также следует сказать и о наказании как экзекуции. В нашу эпоху всякое посягательство на наше тело воспринимается нами как оскорбление личности. Но наказание имеет целью поднять личность ученика до сознания им морального закона, и потому всякое унижение личности ученика в наказании противоречит самой его идее и уничтожает все его педагогическое значение5. Но потому также нельзя ограничиваться одним только отрицанием физического наказания. «Психические» наказания, оскорбляющие личность ученика, так же, если иногда не более, одиозны чем физические. Брань, позорящие надписи, предписание бессмысленных и бесполезных действий, вроде практикуемой во французских школах переписки 300 — 500 раз подряд одного и того же нравоучительного стиха, — все эти наказания, будучи «психологическими», могут быть во много раз хуже «физических». Различие психического и физического вообще не имеет большого значения в педагогике. Психическое, как таковое, не ценнее физического. И физическое наказание недопустимо не потому, что оно физическое, а потому, что при современном уровне нравственного сознания оно оскорбительно, унижает личность ученика и вследствие этого бессильно получить внутреннее признание к себе со стороны наказуемого6. Все изложенное нами о наказании вообще и об его различных формах подтверждает высказанное нами выше положение: можно отрицать отдельные виды наказания, должно отрицать наказание как чисто механическое средство устрашения, оскорбляющее личность ученика; можно, защищая идеал свободного воспитания, отрицать всякое принуждение вообще, в т о м ч и с л е и наказание. Но в первом случае отрицается меньше, чем наказание (только отдельные его виды), во втором случае отрицается больше, чем наказание (всякая гетерономия вообще), наказание же, как таковое, не подлежит отрицанию.
На проблеме наказания становится особенно ясным смысл высказанного нами выше общего положения о необходимости про- низания авторитета разумом. Образование к свободе, или, что тоже самое, к сознанию своего долга требует, чтобы в авторитете школьного закона просвечивал превышающий его разум. Ученик должен чувствовать, что авторитет школьной власти, которой он подчиняется, не есть нечто последнее и себе довлеющее, но что он укоренен в некоем высшем основании, подчиняться которому велит ученику его собственный разум и возмущение против которого будет равносильно возмущению против себя самого. Авторитет, оторванный от разума, провозглашающий послушание верховным и себедовлеющим долгом ученика, неизбежно вырождается в чисто механическую власть, которой соответствует такое же механическое, чисто внешнее подчинение. Здесь повторяется то же самое, что мы установили уже при анализе урока, точно так же вырождающегося в чисто механическую работу тогда, когда он отрывается от превышающего его и животворящего его начала творчества. Но укорененный в творчестве урок не должен, как мы показали выше, превращаться преждевременно в творчество. На этом пути его стережет опасность дилетантизма, своеобразного отпада назад в сторону игры, ибо существо дилетантизма, и состоит именно в произвольном, себялюбивом отношении к ценностям духа, предназначенным для мироощущения дилетанта не созидать, а только развлекать собою его довлеющую себе личность. Не то же ли самое имеет место и с авторитетом? Авторитет, не просто укорененный в разуме, но преждевременно отменяющий себя в пользу свободы, — не вырождается ли он также в культивирование произвола отдельной личности, в поощрение ее мелкого тщеславия, стремления ее к господству и власти? Не встречается ли такой выродившийся авторитет вновь с силой, сознательный культ которой заменяет собою отличающее первоначальное детство бессознательное перед нею преклонение?
2
Свое крайнее и наиболее яркое выражение отрицание авторитета в школе получило, несомненно, в трудах выдающегося современного немецкого педагога Г у с т а в а В и н е к е н а. Первоначальный сотрудник известного основателя «сельских домов воспитания» (Landcrziehungshcim) д-ра Литца, Виннекен, недовольный консерватизмом Литца, отделился в 1905 году от его школы в Ильзенбурге с группой учащих и учащихся, которые и основали тогда же в Виккерсдорфе (Бавария) свою собственную школу, назвавшую себя «свободной школьной общиной» (freie Schulgemeinde). Этот единственный в своем роде факт основания школы путем своеобразной сецессии и притом совместно учениками и учителями, объединенными общим идеалом образования, определил собою весь характер «свободной школьной общины». В многочисленных блестяще написанных теоретических и полемических сочинениях обосновывает В и н е к е н новый идеал школьного образования. Он исходит при этом из идеи «самоценности юности», которая отвергается современной школой, видящей в юности лишь стадию, подготовляющую к зрелому возрасту. Юность, говорит Винекен, игнорируется ныне в своей самостоятельной ценности, она приносится в жертву зрелому возрасту, считающему себя вправе насильно навязать юности свое жизнепонимание и свой жизненный уклад. Однако нет ничего произвольнее и противоречивее такого взгляда на юность. Ведь громадное большинство «взрослых», подчиняющих себе юность и насильно заставляющих ее быть простым воспроизведением их самих, в свою очередь не оставляют после себя ничего, кроме своих детей. Вся жизнь их уходит на их детей, в которых они воспроизводят себя самих. Получается, что юность отдается в жертву взрослому возрасту, который в свою очередь жертвуется юности. Чтобы выйти из этого заколдованного круга, из этой однообразной и унылой бесконечности простого воспроизведения, надо, по мнению Винекена, раз навсегда сказать, что школа имеет своей целью не подготовку к будущей жизни, а напротив, культуру юности как таковой. «Из учреждения, готовящего к жизни, она должна стать очагом жизни». У юности есть свой особый жизненный стиль, свой дух, своя культура. Школа должна уловить этот самостоятельный стиль юности и стать очагом «юношеской культуры».
В этой идее самоценности юности явно чувствуется возрожденной и только своеобразно распространенной на период юности мысль Руссо о самоценности детства, легшая, как мы знаем, в основу идеала свободного воспитания. Не случайно поэтому в теории Винекена в своеобразном преломлении отражается и связанное с последним отрицание культуры. Если до сих пор школа в сущности только охраняла старое поколение с его ограниченностью и предрассудками, то «свободная школьная община» должна поставить своей задачей «создание нового по всему своему характеру поколения». Не для того, чтобы воспроизвести нынешнюю культуру, а чтобы ее отвергнуть и на месте ее воздвигнуть новую, «свою» культуру, существует юность. «Мы здесь не для того, чтобы учить чужую историю и культуру, но чтобы создавать свою собственную». Как этого хотел еще Фихте, школа должна стать «островом будущего в мире настоящего» в подлинном и глубоком смысле этого слова, она должна поставить себе задачей борьбу со старостью, омоложение зрелого возраста через поддержание в нем священного горения юности. Совершенно в духе Толстого ставит Винекен вопрос о праве образования и отвечает, что право это может быть оправдано только тогда, когда образование станет образованием юности ради нее самой, когда оно будет творчеством юностью своей собственной культуры.
Сам Винекен тесно связывает свою «свободную школьную общину» с «движением молодежи», составляющим любопытное и значительное явление германской культурной жизни последних десятилетий. Инициатору этого движения — кружку «перелетных птиц» (Wandervogcl) он посвящает даже свою главную книгу. Возникши в 1896 году в Берлине, кружок «перелетных птиц» становится, начиная с 1901 года, кристаллизующим центром обширного охватывающего всю Германию «движения перелетных птиц». Первоначально задача кружка — самостоятельные странствия учащихся во время каникул по Германии. Неудовлетворенная школой молодежь, уходя от культуры взрослых в природу и в среду простого народа, создаст здесь свой мир, мир самобытной и непосредственной жизни, удовлетворяющий стремление юности к приключениям, к героическому, к дружбе. Этот уход от культуры взрослых не преследовал сначала никаких определенных целей: в нем просто выразилось свойственное юности тяготение к самоопределению и выходу за пределы ограничивающей ее кругозор повседневности. Неудовлетворенность настоящим, предчувствие новой более свободной и полной жизни наивно сочетаются здесь со стремлениями обрести себя самого на лоне природы и в общении с простым народом, с его обычаями, песнями, празднествами. Если верно, что «юность есть одержимость бесконечным», и что «иметь юность — это значит смотреть с берега на волнующееся безбрежное море», то «движение перелетных птиц» было, пожалуй, чистейшим выражением этого стремления юности к бесконечному. Оставаясь туманным и неопределенным предчувствием чего-то нового, стремление это получало более определенные точки опоры лишь благодаря протесту против тех или иных явных пороков культуры взрослых с ее мещанством, алкоголизмом, лицемерием в половых отношениях. Как бы то ни было, несомненно, «перелетным птицам» удалось создать свой особый стиль, стиль юности, резко отделявший их от бесстильности подражающих взрослым «молодых людей». Удалось ли им создать также свою культуру, как этого хотел Винекен? Можно ли вообще говорить о «культуре юности» в отличие от «культуры взрослых»? История германского движения молодежи дает ясный ответ на этот вопрос.
Так называемый «праздник молодежи на Высоком Мейснере» 1919 года был апогеем всего движения. Удивленному немецкому обществу движение немецкой молодежи предстало на этом празднике, объединившем всю Германию, в виде нового значительного факта культуры. Но уже самый этот праздник, несмотря на всю свою импозантность, таил в себе зародыш будущего разложения. Ставши фактом культуры, движение молодежи утеряло как-то сразу свою самостоятельность и сделалось предметом борьбы различных пониманий взрослыми своей культуры. В самом деле, характерным уже было, что формула движения, принятая на этом празднестве, принадлежала взрослому — Винекену. «Свободная немецкая молодежь, гласила формула, желает путем собственного самоопределения и на основании собственной самоответственности искренне и правдиво строить свою жизнь. Ради этой внутренней свободы она при всех обстоятельствах выступает сплоченно». Следующий год (съезд в Марбурге) показал уже явно утрату своей самостоятельности движением молодежи, ставшим яблоком раздора культурной борьбы взрослых. «Перелетные птицы, — говорил на этом съезде (защищая старую формулу) Винекен, — собирают лишь силу ради силы, они нуждаются в положительных целях; эти цели даны в кругу идей свободной школьной общины». Большинство съезда приняло, однако, новую смятенную формулу, признававшую права «культуры взрослых»: «передачу ценностей, накопленных и переданных старшими, мы хотим д о п о л н и т ь тем, что искренне и правдиво на основании собственной самоответственности будем развивать свои силы». Так, единое раньше движение молодежи раскололось на группу «крайних» и «умеренных», причем последние характерным образом обвиняли крайних, защищавших идеал самостоятельной «юношеской культуры», в том, что ими руководят в своих культурных целях взрослые. Это было одностороннее обвинение: культура взрослых овладела в с е м движением молодежи, и умеренные, с виду защищая самостоятельность движения молодежи, на деле следовали внушению тоже определенного, более консервативного культурного идеала взрослых. Развитие немецкого движения молодежи после 1914 года обнаружило это с фатальной очевидностью. История последних лет этого движения есть история его непрерывного расщепления под влиянием овладевающей им культуры взрослых: только крайнее («решительное») течение его выступает еще против культуры взрослых вообще7. Другие же течения его становятся придатком тех или иных партийных организаций. В настоящее время в Германии нет уже единого движения молодежи. Место прежних «перелетных птиц» заняли организации национальной, демократической, пролетарской, коммунистической, христианской и т. д. молодежи, т. е. молодежи, делящейся партийными перегородками, определяемой различиями культурно-политических идеалов взрослых. Так «движение немецкой молодежи» перестало быть самим собой, исчерпало себя. Глубоко прав один из последних исследователей этого движения, в следующих словах подводящий его итоги: «Решающим основанием того, что движение молодежи исчерпало себя, является иное обстоятельство. Когда юность от простого чувства переходит к воле и к действию и приступает к творчеству культуры, то она делает это в возрасте, приближающемся к возрасту зрелого мужа, и стоит пред задачами, которые не могут быть разрешены с помощью одних только юношеских сил и на почве одной только юности. Движение молодежи не имеет цели; как только оно ставит себе определенную цель, оно перестает быть движением молодежи». «Это движение не могла включить в себя никакая партия, им не могла овладеть никакая церковь и не смогло поглотить его никакое общество. Но и оно оказалось само недостаточно сильным, чтобы упразднить силы старой культуры и переплавить их в новые ценности»8.
В чем причина этого саморазрушения? Почему немецкое движение молодежи перестало быть самим собой и распалось но партиям, разделяющим понимание культуры взрослыми? Основание этого кроется, на наш взгляд, в том, что подлинное отрицание авторитета возможно не путем его простой отмены, но путем его преодоления. Преодоление — это значит восприятие его в себя как низшего и подчиненного, в самой своей отмене сохраненного начала. Как преждевременное превращение урока в творчество приводит не к преодолению урока, а к диллетантизму, так и преждевременное отрицание авторитета в пользу разума приводит не к свободе, а к возрождению только изменившего свое внешнее обличие авторитета. Юность по существу своему есть только ч у в с т в о бесконечности, только с о з е р ц а н и е открывающейся безбрежности жизни, только м я т е ж против установленных традицией и авторитетов форм культуры. Дабы мятеж этот стал действенным преобразованием культуры, последняя должна быть воспринята ее собственным отрицанием, иначе говоря, — авторитет должен быть превзойден, а не просто упразднен для того, чтобы его можно было действительно преодолеть. Поэтому совершенно верно, что юность имеет свой собственный стиль, и достойны сожаления те люди, которые никогда не переживали мятежа против окружающей их не ими созданной, но извне им преподанной культуры, которые не зажигались никогда предчувствием нового, хотя бы и неопределенного, будущего, но всегда принимали мир так, как он есть, стараясь во всем походить на старших. Но имея свой стиль, юность не имеет своей культуры. Культура но существу едина, и действенно отвергнуть культуру можно только, так или иначе ее в себя восприняв. Судьба немецкого «движения молодежи» подтверждает это с особенной наглядностью, почему мы так подробно и остановились на этом поучительном для педагогической теории явлении.
Таким образом авторитет, хотя и возможно более пронизанный превышающей его свободой, остается необходимой границей, которую школа по самому своему существу не вправе переступать. Юность должна, «следуя побуждению своей собственной внутренней правдивости и сама отвечая перед собой, развивать сама свои силы». Однако это ее самоопределение по необходимости есть только д о п о л н е н и е, не взрывающее школы, но только просвечивающее в ней. Задача школы остается по-прежнему ограниченной тем, что она в порядке живого предания передает юности ценности, накопленные старшими и унаследованные ими в свою очередь от предыдущих поколений.
3
Установленный нами принцип организации авторитета, равно вырождающегося тогда, когда он отрывается от свободы и когда он преждевременно уступает место последней, может быть легко применен нами к конкретному вопросу школьного самоуправления. Очень многие думают, что проблема школьного самоуправления заключается в привлечении учащихся к управлению школой. Крайним решением этого вопроса в указанном направлении является опять-таки попытка Винекена. Во главе Виккерсдорфской школы стоит школьная община», в которую входят все ученики и учителя, и которая собирается или правлением школы, или по требованию одной трети имеющих право голоса. В ней господствует полная свобода слова. Право голоса имеют все учителя и ученики, последние, однако, не в равной степени, а соответственно возрасту (классу) — своего рода множественный вотум. Школьной общине «принципиально передаются все дела на обсуждение и решение, за исключением тех, которые в силу своего технического характера подлежат ведению правления и учительского совета». Кроме «школьной общины» имеется еще «комитет», составляемый из учеников обоих старших классов путем исключения всех тех, кто при голосовании получил против себя более одной трети голосов. «Комитет» этот обсуждает все общие дела и ведет историю школы, вносит предложения правлению, учительскому совету и школьной общине. Каждому члену комитета правлением школы дается на попечение 1—3 ученика младших классов, за порядком и чистотой которых он должен следить и которых он должен охранять (следы английской «префекториальной системы»). Постоянными органами комитета являются его председатель и секретарь, избираемые ежегодно. Этот же комитет функционирует как товарищеский третейский суд, компетенция которого, однако, ограничена разрешением споров, возникающих между учениками. Разбирательство проступков против дисциплины, также как и право наложения наказаний не принадлежит ученическому суду. Отрицая, подобно Толстому, деление на субъектов и объектов воспитания, которое составляет основной норок старой школы, и провозглашая полное равенство учителя и ученика, Винскен, как видим, признает, однако, дисциплину, в создании которой участвуют сами ученики. Свобода есть для него не отсутствие принуждения, а подчинение долгу, «рыцарское служение Духу», и потому, по замыслу его, «свободная школьная община» означает не анархизм безначалия, а своеобразную патриархальную демократию. Надо сказать однако, что Винекен сам сознает условность защищаемой им системы школьного самоуправления и не настаивает на механическом перенесении ее в другие школы. Он сам подчеркивает значение того факта, что его «свободная школьная община» была основана совместно учителями и учениками, охваченными общей идеей «культуры юности», что она проводится в школе с интернатом, имеющим небольшое число учащихся без резких возрастных различий. Без уважения и даже благоговения к школе широкое самоуправление легко может, по мнению Винекена, повести к образованию партий, классовой борьбе, насилию одних учеников над другими. Поэтому настаивая на учреждении во всех школах (в том числе и в школах для приходящих) органа, аналогичного «школьной общине», он не считает возможным всюду предоставить общему собранию право школьного законодательства и управления, но ограничивает функции его взаимным осведомлением учащих и учащихся.
Эти оговорки Винекена крайне характерны. Они показывают, что сам Винекен не считает возможным отменить авторитет. Только потому, что в данной школе обстоятельства сложились так, что авторитет школы и учительства фактически признается, школьное самоуправление могло формально принять такие обширные размеры. Мы говорим — формально, потому что на деле, как это и признает сам Винекен, проблемы организации школы, как таковой, ее учебного плана, вытекающего отсюда распорядка школьной работы и дисциплины остаются фактически в руках преподавательского состава. Ученическое самоуправление ведает фактически только совместными предприятиями учеников, поскольку они выходят за пределы школьной работы в узком смысле этого слова, определяемой не столько самими учениками, сколько педагогическим идеалом взрослых, хотя бы и более всего соответствующим, по мнению Винекена, потребностям и стилю юности. Несомненно, что с течением времени, когда совместный уход из Ильзенбурга и совместное основание школы из живого воспоминания учеников и учащих станут только славным преданием школы, фактическое разделение компетенции между управлением школы и ученическим самоуправлением примет еще более определенные и притом правовые очертания.
К тому же выводу приводит нас и рассмотрение других типов школьного самоуправления, из которых в последнее время особенное внимание в педагогической литературе обратила на себя американская система «школьных общин» (school-city-system), иногда называемая еще системой Gill'я по имени одного из ее основателей и пропагандистов. Первоначально система эта возникла из потребности практического обучения школьников основным началам правопорядка, как своего рода наглядное обучение нраву демократического государства, долженствующее заменить собою отвлеченное изучение правоведения. С этой целью организация класса и школы должны была копировать всю сложную машину американских государственных учреждений, представительный строй с его выборами, парламентскими прениями, формы судебного процесса и выбираемые народом органы управления. Опыт, однако, показал, что заинтересованные вначале этой игрой в государство школьники сравнительно быстро остывали к ней и со временем начинали даже ею тяготиться. На почве частых выборов и сложной системы парламентского обсуждения самых мелких вопросов повседневной школьной жизни развивалось стремление к прениям ради прений, желание отдельных и далеко не лучших учеников одержать победу на выборах и подобные нежелательные явления. Одним словом, копируемая школой государственная машина оказалась слишком сложной и работающей впустую: у ней не оказалось достаточно серьезного и обильного материала для переработки, форма вытеснила содержание, вследствие чего победа ради победы стала главным движущим ее импульсом. Сама жизнь таким образом привела к необходимости упрощения формы школьного самоуправления. В большинстве школ, введших у себя систему school-city, все мелкие вопросы текущей жизни решаются теперь единолично выбираемыми на сравнительно долгий срок должностными лицами, число которых ограничивается самым необходимым (председатель и секретарь комитета, судья, кассир, библиотекарь, дежурные, наблюдающие за порядком). На решение общего собрания и товарищеского суда выносятся лишь более важные, волнующие весь класс вопросы, причем в обсуждении и решении их принимает участие и учитель. С другой стороны, предметом самоуправления являются только те вопросы, которые не превышают компетенции учащихся: все вопросы, касающиеся программы преподавания, успехов учеников, хозяйства школы и т. п. остаются по-прежнему в ведении учительского совета. В связи с этим самая задача школьного самоуправления понимается уже иначе: не наглядное обучение государственным установлением демократического государства (это тот же только несколько подновленный интеллектуализм, воспитание рассудка, а не Воли и характера), а развитие личности, правого чувства и чувства ответственности являются его основной задачей. Система самоуправления, читаем мы в «Педагогич. Энциклопедии» Монро, выражающей средний взгляд американских педагогов, «имеет несомненную ценность, поскольку она развивает в данных реальных социальных условиях элементы личного самоконтроля, признание права другого и терпимость по отношению к другим детям, уважение к закону и авторитету, чувство ценности порядка и кооперации как фундамента всякого труда и успеха»9. В этом своем виде система школьного самоуправления признается большинством американских педагогов и все более и более проводится в школах. Еще в 1908 г. международная комиссия констатировала в своем отчете ее благотворные результаты: «Отныне учителя допущены в круг «племени», и ученический «кодекс» перестал рассматривать их как врагов, которых разрешается обманывать, не утрачивая тем своего достоинства. Они стали «старшими союзниками», права которых должны уважаться и к совету которых прибегается во всех чрезвычайных случаях»10. Наиболее видный из современных американских педагогов С т э н л и Х о л л тоже признает ее, хотя и указывает на ее опасности. Опасность ее, по его мнению, заключается в чрезмерном «преобладании интеллекта за счет более основной дисциплины воли». И потому надо следить, чтобы «здоровый и основной инстинкт нерефлектирующей лояльности по отношению к авторитету не ослабел и не уступил место скороспелому казуистическому разумничанью»11. Поэтому «школьное самоуправление» должно состоять не в копировании форм государственных учреждений, рассчитанных на совершенно другой материал, но в создании таких форм, которые бы соответствовали материалу школьной жизни, кругу тех простых и несложных вопросов, которые могут быть осилены учениками и в самостоятельном разрешении которых будет расти их личность.
Но откуда же у американских школьников этот, хотя бы и несложный, материал для самоуправления, могущий питать все новыми и новыми проблемами законодательную, учебную и административную машину «школьной общины»? Если бы жизнь американской школы исчерпывалась уроками и занятиями, предусмотренными в школьных программах, так сказать ее официальной частью, то даже самое упрощенное самоуправление не имело бы достаточного материала для переработки и превратилось бы или в фикцию или в игру, культивирующую самые худшие пороки парламентаризма. Мы совершенно не поймем американской школы и ее самоуправления, если не примем во внимание неофициальной, но от того не менее существенной и официально признанной стороны ее жизни. Эта сторона может быть обозначена нами как интенсивная, нередко даже как бы переливающаяся через край общественность. В каждом классе имеются самые разнообразные кружки и организации учащихся, развивающие оживленную деятельность: кружки научного характера (например, химический, биологический, философский и т. д.), эстетического (пения, музыки, рисования), спортивного (теннис, футбол, гребля, атлетика и т. н, шахматы), общество издания журнала, общество каникулярных дальних экскурсий, кружок марочных коллекционеров, любителей книг, изучения и охраны птиц и масса других самых разнообразных и неожиданных кружков и организаций, разнящихся в каждой местности, школе и даже классе. Эти организации то ограничиваются пределами класса или школы, то выходят за пределы школы и обнимают собой учащихся многих школ одной и той же местности (таковы особенно спортивные организации, вообще говоря, преобладающие в американской школе). Школа гостеприимно дает приют всем этим организациям и кружкам, со своей стороны поощряя всякое проявление общественности. Американский школьник проводит в школе гораздо больше времени, чем его германский или французский товарищ. Но большая половина этого времени проводится им не на уроках и не за уроками, а в кружках и организациях, к которым он добровольно примкнул и жизнь которых он сам создает. Официальная программа школы от этого не только не страдает, но даже выигрывает, т. к. школьник привыкает видеть в школе средоточие своих жизненных интересов. «Развитая общественность есть самая характерная черта американской школы», — говорит ее недавний исследователь проф. Рессель. — «Если американская школа развивает в своих учениках чувство долга, ответственности и вместе с тем дух инициативы, уважения к нраву и закону, то этим она обязана не столько своей официальной программе, сколько своей неофициальной стороне — развитой и интенсивной общественной жизни»12. В этом — объяснение тех успешных результатов, которые по общему отзыву дала система «school-city: она явилась только как бы «государственной» формой Для уже готового и сложившегося факта развитой «общественности», непрерывно доставляющей этой форме материал для организующей переработки. Ибо только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность самоуправления. Где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру. Поощрение самостоятельной общественной жизни учащихся должно, таким образом предшествовать всякого рода дарованию прав самоуправления13.
Если система американской «school-city» применяется преимущественно в дневных школах, то английские средние школы дают нам пример широко растущей практики самоуправления, как она Успешно применяется в школах-пансионах. Современные формы этого самоуправления сложились в результате характерного вообще для английской культуры приспособления к требованиям времени старинных обычаев и учреждений. В старинных английских средних школах («public school»), большинство которых охватывает несколько столетий существования (например Eton, Rugby, Winchester, Harrow), с стародавних времен существовала уже так называемая «префекториальная система». Эта система, имевшая много общего с системой иезуитской школы, состояла в том, что заслуженные ученики старших классов назначались «префектами» или «консулами» и получали право надзора и власти над своими младшими товарищами. В классе («form»), на уроках господствует учитель и обыкновенная школьная дисциплина. «Дома» («hous») господствует дисциплина того тесного кружка товарищей и учителя, в который он вступает новичком («fag»), беспрекословно повинующимся своему старшему же товарищу — префекту, и в котором впоследствии он сам в свою очередь становится префектом. Этот «дом», который ученик не покидает в течение всего своего пребывания в школе (public school обнимают учеников в возрасте от 14 до 19 лет) и которых несколько в каждой школе, есть средоточие интенсивной общественной жизни: наряду со спортивными интересами здесь получают свое выражение и признание интересы научные, художественные и др. Аристократическая замкнутость, исключительность этих отдельных «домов» соответствовала духу и потребностям английской аристократии. Это было аристократическое самоуправление, но это все-таки было самоуправление, широко культивировавшее самодеятельность учащихся, воспитывавшее в них чувства ответственности и долга, уменье повелевать и повиноваться, уважать чужое и свое право. С середины XIX века эта аристократическая система самоуправления перестраивается на новый лад, отражая на себе общую перестройку английского общества и государства, умеющего сохранять свои старинные учреждения путем их постепенного преобразования: отпадает исключительность и замкнутость отдельных «домов», «префекты» и «консулы» не назначаются, а выбираются товарищами, положение новичков, обязанных раньше беспрекословным повиновением «префектам», уравнивается с положением других школьников. Ученики привлекаются и к поддержанию порядка и дисциплины не только «дома», но и в классе. Сохраняя во многом старинные формы, система английского школьного самоуправления в общем все более и более приближается по духу к американской, поскольку этому не препятствует разность задачи организации ученической жизни в дневных школах и школах-пансионах. И там и здесь подлинной сферой ученического самоуправления является выходящая за пределы школы, как таковой, самостоятельная общественная жизнь учащихся. Школа как бы уловляет тем самым «движение молодежи», которое в Германии пошло вне школы и даже отчасти путем, враждебным ей. Но уловленное школой «движение молодежи» в свою очередь просвечивает в организации школьного управления, к повседневной работе которого приобщаются и ученики в меру своей фактической способности разрешать самостоятельными усилиями менее сложные проблемы школьной жизни.
Вывод, который естественно напрашивается из этого беглого очерка главных типов школьного самоуправления, очень приближается к тому, который мы сделали выше по поводу разнообразных попыток осуществления трудовой школы. Существо трудовой школы в том, что в работу класса она вносит начало целостности и индивидуальности. Задача школьного самоуправления состоит в том, чтобы распыленную ученическую среду претворить в целостный расчлененный организм, внутри которого каждый школьник приучался бы к добросовестному выполнению определенной общественной функции. И подобно тому, как идея трудовой школы искажается тогда, когда понятие труда суживается в угоду посторонним этой основной ее задаче мотивам, точно так же и школьное самоуправление вырождается тогда, когда, вместо цели организации ученического общества, оно себе ставит посторонние задачи (например практическое обучение формам демократического государства и т. д.). Поэтому, как идея трудовой школы реализуется в самых разнообразных конкретных формах, и нет определенного вида труда, в котором бы она осуществлялась сполна и безусловно, точно так же и школьное самоуправление может реализоваться в самых различных конкретных формах, жизненность которых зависит от особенностей окружающей обстановки. Но всюду предпосылкой школьного самоуправления является широко развитая общественная жизнь учащихся, осуществляемая в добровольных союзах, организациях, предприятиях школьной молодежи. Юность имеет свои собственные интересы, свои задачи, наличие и значение которых школа должна признать и использовать в образовательных целях. Содействовать этому «движению молодежи» составляет первую и прямую задачу школы, гораздо более важную, чем введение радикального демократического «самоуправления», ибо и последнее будет жизненным только тогда, когда будет основываться на первом. В этом глубокая правда идеи «культуры юности» Винекена — школа должна стать действительно средоточием жизни, а не оставаться только местом механической к ней подготовки. В этом также завидная особенность американской, а отчасти и английской школы, являющейся, как мы видели, «домом молодежи», местом, в котором получают свое удовлетворение се собственные интересы, запросы и мечты. Эта неофициальная, внепрограммная сторона школы должна быть наконец официально признана как одна из самых существенных ее сторон.
Но этим также намечается предел, который школьное самоуправление, каковы бы ни были его внешние формы, не должно преступать. Оно должно организовать школьников, превратить их из распыленной, разрозненной массы в целостно-расчлененный организм. Поэтому проблемы, им разрешаемые, должны быть проблемами самой молодежи. Ибо только в разрешении ею выдвигаемых и доступных ей проблем может расти и развиваться к свободе личность отдельного юноши. Эти вопросы могут быть проще или сложнее, но так как жизнь, которую ему надлежит оформлять, есть жизнь молодежи, то эти вопросы должны быть вопросы юности, се «культуры». Но именно потому школьное самоуправление должно оставаться самоуправлением молодежи, а не превращаться в управление школой. Ибо чтобы создать свою, «новую» культуру, надо усвоить культуру настоящего — иначе вместо творчества нового получится только истощающий себя в бесплодном мятеже дилетантизм. Постольку авторитет, как носитель культурной преемственности, как хранитель наследия отцов, есть неотменимый в школе элемент. Пронизанный свободой, ею оправдываемый и ее созидающий, авторитет должен оставаться самим собой, т. е. авторитетом. Это означает, что все вопросы школы, связанные с усвоением наследия отцов, с организацией работы, направленной на это усвоение, и с обусловливаемой ею дисциплиной, т. е. с тем, что обыкновенно называется «управлением» школы, не являются предметом ученического самоуправления.
В России проблему школьного самоуправления слишком часто сводили к вопросу о формах участия учеников в педагогическом совете школы. Теперь читателю должно быть ясно, что подлинная проблема ученического самоуправления этим даже не затрагивается. Даже в политике избирательное право имеет смысл не как голое формальное право, могущее быть переданным тому, кто больше заплатит деньгами или обещаниями, но как орудие организации народа и воспитания его к свободе. Тем менее способно воспитать к свободе и самодеятельности присутствие учеников в коллегии, большинство членов которой превосходят их по своему опыту и знаниям и которая решает вопросы, в обсуждении коих именно наиболее добросовестные ученики будут считать себя не в состоянии и не вправе участвовать. Заинтересованные вначале, быть может, новизной положения, ученики очень скоро начнут тяготиться своим правом, которое, как всякое неиспользуемое право, и умрет затем естественной смертью.
Литература вопроса. 1. О б а в т о р и т е т е: Ф е р с т е р. Школа и характер (особ, главы «Проблема дисциплины» и «К педагогике повиновения»). F о e r s t e r, Autoritat und Selbsterziehung in der Lcitung der jugcndlichcn («Beilrage z. Kinderforschung»). Beyer. 1915.
2. О наказании: кроме Руссо и Спенсера (см. в главе 3) — Foerster, Strafe und Erziehung. Munch. 1913.
3. Bhiickcii: G. W у n e k e n, Schule und Jugendkultur. Jena. 1913. Der Kampf fur die Jurgcn. 1920. Der Gcdankenkreis der freicn Schulgemeinde. L. 1919.
5. О С а м о у п р а в л е н и и в ш к о л а х: «Новые идеи в педагогике». Сборн. 1 (Самоупр. в школе). Спб. 1913. Ф е р с т е р. Школа и характер (school city system в амер., и швейц. школах).
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА V
- Срв. Наторп, Sozialidealismus, стр. 123, 130 («глубокая многосторонняя связь, существующая между понятиями школы и государства»),
- Срв. напр. в распространенной книге М. Рубинштейна, Педагогическая психология. 2-е изд. М. 1914.
- См. выше, гл. 3, § 4.
- Срв. С. Гессен. Философия наказания. «Логос». М. 1912. №2 — 3.
- Если смысл педагогического наказания заключается в воспитании в человеке чувства должного через осуждение недолжного поступка, то между правовым и педагогическим наказанием на ступени гетерономии нельзя проводить принципиальной границы. Нельзя утверждать, например, что цель правового наказания — «возмездие», а педагогического — «исправление». Конечно — «исправление», но исправление через объективное осуждение недолжного, в чем состоит подлинный смысл и «возмездия». Срв. нашу цит, выше статью.
Именно потому, что наказание «исправляет» через объективное осуждение поступка, а не через устрашение, оно должно быть отделено от своей связанности с наградой. Награждать за исполнение должного — значит затушевывать сознание должного как такового. Что «наказание и награда не равны друг другу* в педагогии, отношении (так же, впрочем, как и в правовом), — это во все большей степени сознает современная педагогика, отличающаяся этим от авторитарной педагогики иезуитской школы. - Дабы наказание сохраняло свой смысл, необходимо поэтому, чтобы подвергаемый ему ученик сознавал, что наказание есть проявление объективности должного, а не частных интересов учителя или потерпевшего, т. е. чтобы он чувствовал, что даже в наказании он остается личностью, имеющей самодовлеющее значение. Очень тонко по этому поводу говорит Фихте, возражая против обычного наказания ребенка за неосмотрительность, «когда центр проступка видят в материальном ущербе, причиненном неосмотрительностью ребенка». Ребенок «видит тогда, что его рассматривают как просто орудие, и это возмущает его хотя и смутное, но наличествующее у него чувство, что он имеет ценность сам по себе, и что эта его самоценность в данном случае не признается». Reden an die deuische Nation. 10-я речь. S.W., 1846, т. VII, стр. 415.
- Срв. приведенные формулы и историю всего спора хотя бы в книжке Messer'a (стр. 17, 27 сл., 36). — Вот характерная формула из манифеста «решительной молодежи»: «Товарищи! Мы единодушны в ненависти к учреждениям этой жизни и этого времени. Мы спрашиваем себя: кто виновен в э т о й жизни, в э т и х учреждениях, в э т о й культуре? У кого на совести э т и государства, э т и школы, э т и церкви, э т а политика, э т а печать и многое другое? У в з р о с л ы х». Впрочем и здесь слишком уж явна связь с известными течениями анархизма.
- Срв. Тh. Неrrlе, стр. X, 79.
- Monroe. Cyclop, of Padagogy, V, стр. 322.
- Цит. у Ферстера. Школа и характер (гл. «Индивидуум и масса»),
- St. Hall, Moral education (Educat. Problems, vol I, N.-Y. 1911).
- Последняя глава приведенной в указ. литер, книге.
- В немецкой педагогической литературе это правильно подчеркивает Г. Ферстерв своих книгах и статьях, до войны бывший одним из активнейших пропагандистов «school-cily» системы (срв. в «Школа и характер» главы о самоуправлении в школах и приложения). Самоуправление должно быть не дарованием демократических прав, а задачей, преподанной авторитетом, и потому оно, с одной стороны, должно тесно примыкать к естественным социальным привычкам и организациям детей, а с другой — проводиться с участием в принципиальных вопросах учителя. Под влиянием Ферстера попытки ввести систему самоуправления по американскому образцу были сделаны еще до войны в Германии, в Швейцарии и в Австрии, и притом всюду с несомненным успехом, причем в Австрии, например, они имели своим результатом, между прочим, и смягчение национальной розни.
Глава VI. СТУПЕНЬ ГЕТЕРОНОМИИ (ОКОНЧАНИЕ). СИСТЕМА ЕДИНОЙ ШКОЛЫ
До сих пор мы рассматривали школу в ее внутренней организации. Гетерономная как по характеру организуемой ею работы, так и в своем внутреннем строении, школа, видели мы, кроет в себе начало принуждения. Пусть это принуждение не есть самоцель, а только неизбежная дань, которую образование выплачивает природе. Пусть в существе своем и в своих внешних проявлениях оно определяется свободой, как его одухотворяющим заданием. Все равно, сколь бы ни был пронизан урок творчеством и сколь ни аппелировал бы к разуму авторитет, принуждение остается естественной границей школы, которую она стремится только внутренне отменить, но которую внешне преступить она не может. Эта внутренняя взаимопронизанность свободы и принуждения проявляется с особенной силой еще в одном, именно школу характеризующем начале, в так называемом принципе обязательности школьного обучения. Тесная связь, существующая между школой и правом, обнаруживается в этом принципе с полной очевидностью. Если где-нибудь образование становится проблемой права, то именно в школе. Мы и перейдем к исследованию школы, как правовой проблемы.
1
Принцип обязательности школьного обучения ведет свое начало опять-таки от Реформации. Средние века, требуя от каждого человека христианского воспитания, полагали, что оно достигается в первую очередь и для большинства людей во вполне достаточной мере путем участия его в совершаемых Церковью таинствах. Исповедание христианской веры в ее охраняемой Церковью чистоте было единственным требованием, которое высший авторитет того времени — Церковь предъявлял к каждому человеку, и притом требованием, поддерживавшимся, как известно, не только духовными средствами, но силою внешнего принуждения. Школа, напротив, была уделом немногих: будучи латинскою, она давала не общее и элементарное, а специальное образование, готовившее к ученой профессии, по преимуществу духовной. Так как профессия одновременно означала сословие, то школа и носила характер сословно-профессиональный. Реформация в корне изменила этот взгляд на школу: объявив разум равноправным с благодатью источником веры, она должна была тем самым признать образование разума необходимым составным элементом христианского воспитания и, поскольку последнее считалось обязательным для каждого человека, провозгласить принцип обязательности школьного обучения. При этом школьное обучение должно было, конечно, изменить свой характер: из специального, готовящего к ученой профессии, оно должно было стать общим, воспитывающим человеческий разум как таковой. Латинская школа должна была уступить место народной школе с преподаванием на родном языке. Уже Л ю т е р (1530) обращается к государству с требованием обеспечить всеобщее обучение и сделать его обязательным. Это в интересах самого государства, которому нужны правители, пастыри, юристы, писцы, врачи, учителя. Это в интересах христианской веры: «Если власти могут принуждать своих подданных к ратному делу, чтобы они умели во время войны владеть копьем и ружьем, то сколь больше должны они заставлять их посылать своих детей в школу. Ибо самая опасная из всех войн, это война с диаволом, который через отсутствие образования стремится втайне опустошить города и княжества от нужных людей»1. Сто лет спустя (1632) Я н К о м е н с к и й, развивая далее эти мысли, строит проект целой системы национальной школы, которая на нижних своих ступенях должна быть всеобщей и обязательной. При этом Коменский обосновывает обязательность обучения уже не одними только потребностями государства и истинной религиозности, по выдвигает мысль о праве каждого человека па образование2. Хотя отдельные немецкие государства, уже начиная с 1619 года (Веймар) приступили к проведению принципа обязательного обучения, однако только в последней четверти XIX столетия принцип этот стал в большинстве культурных государств реальностью. Это объясняется не только материальными условиями — обязательность школьного обучения предполагает его бесплатность, сопряженную для государства с громадными расходами, — но и эволюцией взгляда государства на свои собственные задачи.
В самом деле, для абсолютизма не существовало вопроса о п р а в е государства принуждать родителей отдавать своих детей в школу. Это право естественно вытекало из идеи общего блага, которую государство призвано осуществлять, в силу чего отдельные подданные являются только орудиями в руках всемогущего и не знающего пределов своей власти государства. Но, с другой стороны, именно потому, что «общее благо», т. е. практически благо государства (пока в так называемом «полицейском государстве» оно не выродилось даже в благо правительства), было главной целью государственного бытия, определявшей всю его политику, государство не считало себя о б я з а н н ы м действительно обеспечить общее образование. Обучение было для него не столько проблемой права лица, сколько проблемой благоденствия и мощи государства. Не останавливаясь пред самыми жестокими мерами принудительного характера для заполнения нужных ему школ учениками (вспомним хотя бы очень характерную в этом отношении политику Петра Великого), абсолютистское государство ограничивало свою образовательную деятельность государственными нуждами и потребностями. Поэтому для него так и характерна система профессионального образования. Школа должна была не столько образовывать человека, сколько готовить нужных государству слуг, и в меру этой нужды она была обязательна. Поэтому, несмотря на то, что в новых кодексах конца XVIII века мы встречаем явно выраженным принцип обязательности школьного обучения (например в Прусском Уложении 1794 г. говорится даже, что «школьное обучение должно продолжаться до тех пор, пока ребенок не овладеет знанием, необходимым для каждого разумного существа»), практика абсолютизма слишком часто ему столь же явно противоречила. Для самой Пруссии (как впрочем и для других немецких государств) нужен был Иенский разгром и последовавшая за ним «эпоха реформ», чтобы государство признало не только обязанность родителей посылать своих детей в школу, но и свою собственную обязанность обеспечить детям возможность получения ими образования. Но «эпоха реформ» означает уже проникновение абсолютизма либеральными идеями: под влиянием Канта и Фихте, так же как и Французской революции, идея общего блага восполняется здесь идеей свободы лица и естественных прав человека, как это особенно видно в школьных реформах Штейна и Вильгельма Гумбольдта.
Однако и либерализм, сменивший в начале XIX века абсолютистское воззрение на государство, первое время не был склонен проводить в жизнь принцип обязательности школьного обучения. Этот принцип не только, казалось, врывался в семейную жизнь граждан и постольку противоречил началу свободы, но и не согласовался с отличавшим классический либерализм воззрением на задачи государства. С точки зрения классического либерализма, как она была развита хотя бы в трудах Бенжамена Констана и Вильгельма Гумбольдта, государство должно ограничиваться обеспечением безопасности и охраной правосудия и не должно вмешиваться в частную жизнь граждан. Разрешение хозяйственных, так же как и культурных задач оно должно предоставить свободной самодеятельности отдельных граждан и их ассоциаций, само же только блюсти за тем, чтобы эта свободная игра общественных сил протекала в правовых формах3. Всякое вмешательство государственной власти в область хозяйственную и культурную приведет только к росту бюрократии и к восстановлению опасной для свободы граждан опеки государства над населением. В частности принцип обязательности школьного обучения поведет неизбежно к контролю государства над частными школами и семьей, поскольку она занимается воспитанием, и, следовательно, к нивелированию общества. Между тем только частной инициативе в соединении с системой конкуренции но плечу разрешение хозяйственных и культурных задач. Поэтому добродетель государства и заключается, как формулировал эту мысль Дж. Ст. Милль4, в том, чтобы возможно меньше проявлять себя во вне: вся его деятельность должна быть направлена как бы на свою собственную отмену, па воздержание от всякой деятельности, которую могло бы осуществлять само общество, всегда имеющее перед государством преимущества, представляемые системой конкуренции. Вопрос об обязательности школьного обучения осложнялся еще тем, что разрешение его предполагало одновременное законодательное запрещение использования детского груда в школьном возрасте и, следовательно, соответственный контроль над промышленностью. А это означало уже прямое вмешательство в свободные взаимоотношения труда и капитала, против которого особенно восставала догма правоверного либерализма. Поэтому в классическом памятнике первоначального либерализма, в Декларации прав 1789 года, принцип обязательности школьного обучения совершенно отсутствует.
Однако уже четыре года спустя он появляется в Конституции 1793 года и притом, впервые в законодательном памятнике, в своем новом виде — в виде естественного нрава человека на образование5. Что этому нраву гражданина на образование соответствует обязанность государства обеспечить каждому реальную возможность получения образования, — это было сознано еще Законодательным Собранием, учредившим в 1792 году комиссию по народному просвещению, председателем и вдохновителем которой был известный философ и педагог К о н д о р с е. Выработанный им проект организации государственной сети элементарных школ является одним из самых замечательных памятников политико-педагогической мысли. Правда, проект этот так и не был приведен в жизнь, — тому помешали бури Революции. Но мысли, в нем выраженные, не умерли вместе с ним: они служат основанием всей образовательной политики государства новейшего времени6. С этой новой точки зрения право па образование вытекает из самого существа свободы. Если свобода не есть произвол, то это значит, что она не безгранична, по имеет пределы, полагаемые равной свободой другого лица. Пределы эти, как то выражено было уже в Декларации 1789 года, устанавливаются законом, впервые только придающим свободе прочные правовые формы. Подобно тому, как свобода слова не должна вырождаться в свободу клеветы, а свобода совести в насилие над инаковерующими, точно так же и свобода обучения не должна вырождаться в свободу оставления детей в невежестве. Если в помянутых случаях государство не допускает вырождения свободы в произвол, по вмешивается в отношения граждан между собою и своим вмешательством в пользу слабого вводит выродившуюся в насилие свободу в ее законные границы, то тем более у него оснований определить законом и так называемую свободу обучения. Из самого понятия свободы, как определенной законом и охраняемой судом, вытекает право человека на правосудие и обязанность государства правосудие оказывать. Но если уже отношения государства и индивида не суть отношения взаимного безразличия. как то полагал классический либерализм, а у индивида есть права — притязания по отношению к государству, у государства же соответственно — обязанности но отношению к индивиду, — то право па образование есть одно из самых очевидных прав индивида, которому соответствует столь же очевидная обязанность государства по обеспечению за каждым образования. Образование есть необходимое условие осуществления лицом его свободы, и это тем более, чем сложнее становится обстановка жизни и борьбы современного человека. Чтобы уметь отстаивать свое право, чтобы не стать слишком легкой жертвой злоупотребляющего своей свободой соседа, чтобы даже в подчинении оставаться лицом, сохраняющим свою самоценность, — для этого ныне необходим некоторый минимум образования, при отсутствии которого лицо утрачивает свое человеческое достоинство и превращается в простое орудие чужих замыслов. Само право, становясь с развитием присущей ему логической стихии все более и более сложным предметом знания, предполагает у субъектов права, к которым оно обращается, все большую и большую степень образованности, которую не могут заменить ни учреждение бесплатной юридической помощи, ни развитие в законодательстве учения об ошибке. С этой точки зрения обязательность школьного обучения есть не столько ограничение свободы родителей, сколько ограждение свободы детей, этих будущих граждан, не могущих сейчас самостоятельно отстаивать свою свободу от злоупотребляющих своей свободою взрослых. Принуждение государственной власти направляется здесь против принуждения же и при том сугубо неправомерного, ибо жертвой его являются дети, или прямо, или косвенно (путем крайнего небрежения) используемые взрослыми в качестве простых, не имеющих своей самостоятельной ценности вещей. Пусть прав классический либерализм с его восхвалением свободной игры общественных сил и системы конкуренции. От того, что в свободной конкуренции крупному предпринимателю будет противостоять уже не заброшенный родителями ребенок, а образованный и умеющий отстаивать свои интересы рабочий, — конкуренция выиграет не только в своем нравственном достоинстве и благородстве, но и в своей силе. Оказывая содействие лицам, не по своей вине находящимся в положении, которое, в силу крайнего неравенства в фактической мощи, уничтожает конкуренцию как конкуренцию, лишает ее всякого момента борьбы, напряжения и сопротивления, право как бы говорит борющимся: боритесь, конкурируйте друг с другом, но в этой борьбе победу должен одержать тот, кто добился ее напряжением своей творческой энергии, своей силы личности, а не тот, кто, воспользовавшись беспомощным положением слабого и обратив его в простое орудие своих целей, освободил самого себя от творческого усилия. Или, говоря словами одного из самых выдающихся представителей этого ново-либерального направления, Ллойд-Джорджа, конкуренция должна быть «честной игрой» (fair play), она должна вестись если и не между равными лицами (тогда бы она потеряла всякий смысл), то во всяком случае между лицами, имеющими «равные шансы» в борьбе («equal chances for every body»). Так старое понятие равенства, как одинакового положения всех перед одним и тем же законом, фактически обращавшееся в величайшее правовое неравенство, углубляется в новом либерализме до понятия «равенства исходного пункта», «равных шансов» в борьбе. И конечно одним из основных условий этого углубленного понятия правового равенства является обеспечение за каждым того минимума образования, которое необходимо для того, чтобы личность могла отстаивать в борьбе свои интересы и свое право, т. е. имела бы в борьбе равные шансы выигрыша. Такое понимание свободы и равенства отнюдь не означает односторонней помощи слабому: напротив, уравновешивая шансы противников в борьбе, оно затрудняет победу, но и делает ее зависимой не от случайных обстоятельств (в силу чего сплошь и рядом наверху находились именно слабые, недостойные победы элементы), а от инициативы, предприимчивости и творческой энергии борющихся. Тем самым право, однако, не ограничивается тем, что подымает свободу слабых: препятствуя «нечестной игре», оно заставляет и сильных не только удерживаться на прежнем уровне достигнутой ими свободы, но и усиливать еще больше напряжение своей творческой энергии.
Так течение «нового либерализма», оставаясь верным идее личной свободы, обосновывает среди других прав, в совокупности образующих так называемое «право на достойное существование», и «право на образование». Пусть не смущает нас то, что свобода личности осуществляется здесь в виде принуждения к школе («Schoolzwang» по-немецки). Если даже нравственная свобода кроет в себе начало подчинения долгу, то тем паче правовая свобода не гнушается закономерного принуждения. Нам могут возразить, что все тираны оправдывали свое принуждение свободой, как мы это имеем хотя бы в знаменитом лозунге Террора «свобода или смерть!». Между направленным на взрослых людей догматическим утверждением своего понимания свободы, как единственно истинного и исключающего все другие мнения, и принуждением родителей не пренебрегать интересами детей имеется, однако, существенное различие. В данном пункте политическое понятие свободы и принуждения, как оно развивается теорий нового либерализма, совершенно совпадает с развитым нами выше педагогическим понятием принуждения. Как педагог прибегает к принуждению не потому, что он его хочет, а потому, что оно есть неизбежный и неотменимый извне факт жизни, и оправдывает свое принуждение тем, что оно, будучи в целом и в частях пронизано заданием свободы, подлинно изнутри отменяет себя самого, — точно так же и политик народного образования, з а п р е щ а ю щ и й эксплуатацию детского труда и в свою очередь п р и н у ж д а ю щ и й родителей ребенка посылать его в школу, справедливо может оправдать это принуждение тем, что только оно одно из всех других принуждений ребенка способно образовать его к свободе и тем самым в будущем отменить себя самого. Но этим определяются и границы, в которых только и может действовать принцип обязательности школьного обучения. Обязательность не может распространяться на детский сад, ибо детский сад по самому существу своему не подлежит законодательной регламентации. Игра не может быть предметом какой-нибудь определенной программы, каковым напротив вполне может быть урок, откуда, впрочем, не следует, что приготовительные классы школы, являющиеся переходом от детского сада к школе, не могут применять методов детского сада7. С другой стороны, обязательность не может распространяться и на высшую школу, ибо последняя основана на автономной работе, на творчестве, принуждать к которому есть дело не только безнадежное, но и вредное ввиду того, что пути высшей школы далеко не исчерпывают возможностей личного творчества. Сферой обязательного обучения была и останется школа, как бы предназначенная к тому всем своим гетерономным характером. Ибо стать «разумным существом» в правовом смысле, т. е. личностью, умеющей фактически использовать предоставленную ей формально свободу, способный отстаивать свое право, может только тот, кто, усвоив наследие отцов, подготовлен школой к свободному самоопределению. Отсюда присущая принципу обязательности школьного обучения тенденция все большего и большего увеличения числа лет обязательной школы. Первоначально обнимающий только четыре года, курс обязательного обучения к настоящему времени в целом ряде государств доходит уже до 12 лет8.
2
Принцип обязательности школьного обучения предполагает не только самостоятельную деятельность государства по учреждению и содержанию школ и питающих школу учреждений, не только оказание широкой финансовой поддержки частной школе, поскольку последняя освобождает государство от части на нем лежащей обязанности, — он предполагает большее: контроль государства над всем школьным обучением вообще. Обязывая к школьному обучению, государство естественно должно определить, что оно понимает под школой, т. е. предъявить к школе определенные требования, при наличии которых она только и признается за школу, и следить за тем, чтобы требования эти школою выполнялись. Не кроется ли в этом развитии современной школы внутреннего противоречия? Оправдываемый, как мы видели, не столько идеей государственного блага, сколько идеей личной свободы и правом лица, принцип обязательности обучения приводит к расширению деятельности государства и распространению государственного контроля па область, рапсе от пего свободную. Не обращается ли здесь свобода против себя самой? То. в чем новый либерализм видел дальнейшее развитие и углубление начала свободы, — не есть ли это, в конце концов, ее внутреннее разложение и уничтожение? Не порождает ли «новая» свобода, вместе с обязанностями государства но отношению к гражданам, такого расширения функций государства, которое кроет в себе условие се собственно гибели?
Такая опасность действительно существует. Но нам кажется, что она свидетельствует не столько о внутренней антиномии понятия свободы, сколько об его усложнении, необходимо сопутствующем всякой эволюции. «Новая» свобода просто выдвигает новую проблему, быть может и трудно поддающуюся решению, но от того далеко не безнадежную.
Чтобы наметить путь, в направлении которого только и может быть достигнуто это решение, рассмотрим тс два простых решения нашего вопроса, которые соответствуют исторически теории и практике абсолютизма, с одной стороны, и классического либерализма—с другой. Оба они являются в равной мере односторонними вырождениями правильного взаимоотношения между школой и государством, вытекающего как из правовой природы государства, так и из гетерономного характера школы. Для абсолютизма школа есть учреждение (Anslalt), но природе своей тождественное с другими государственными учреждениями. Как таковое, она не имеет собственной жизни, по есть только механическое орудие в руках государства, преследующего с его помощью свои цели. Она не только учреждается внешней волей государства, но и существует ради государства и управляется также извне — не своей, а посторонней государственной волей. Отсюда централистски-бюрократический характер управления школой, следствием чего является ее крайнее механизирование. Последнее проявлялось не только в назначении извне всего преподавательского состава и школьного начальства, но и в предписании строго определенного материала преподавания, способов преподавания, учебников, дисциплины, одним словом, в мельчайшем и назойливом бюрократическом регулировании деталей школьной жизни. Отсюда известное уже нам характерное для пассивной школы господство образца: не только ученик, но и учитель должны повторять преподанный начальством образец. Так как образование по существу есть жизнь, не могущая быть механизированной совершенно, то бюрократическая школа имела все-таки педагогический совет и некоторую индивидуальную физиономию. По существу она не должна была иметь ни своей жизни, ни своей воли, она должна была быть простым собранием учеников, уроков, предметов, учителей, и мы уже знаем, что педагогические советы в этой школе и были ни чем иным, как механическим подведением итогов работе отдельных учителей. Частная школа, более независимая в материальном отношении, в общем подвергалась тому же бюрократическому, убивающему самостоятельную жизнь контролю. — С точки зрения классического либерализма, напротив, должна господствовать полная свобода обучения. Принцип этот, получивший свое законодательное выражение во Французской хартии 1830 г. и в Бельгийской конституции 1831 года, в наиболее чистом своем виде был осуществлен в Америке и Англии. Совершенно независимые от государства, контролируемые им лишь в пределах общих законов, а не специального школьного законодательства, английские школы зависели или от негосударственных организаций (главным образом от церкви) или пользовались даже совершенной автономией (как например английские public school). Как реакция против бюрократически управляемой школы, требование автономии неоднократно выдвигалось в педагогической литературе. Быть может наиболее яркое свое выражение оно получило в известной уже нам теории В и н е к е н а. В совершенно своеобразной форме свое более глубокое обоснование оно получило в последнем труде Наторпа «Социал-идеализм». У Винекена автономия школы естественно вытекает из его понимания школы как «острова будущего в мире настоящего» и «очага юности». Школа не должна следовать закону государства, которое она предназначена преобразовать. Она должна пользоваться такой же автономией, какой пользуются университеты, и даже большей чем та, какой ныне пользуются университеты, во многом еще зависимые от государства. Н а т о р п в известной мере тоже исходит от мысли о том, что преобразование государства и всей хозяйственной жизни должно начаться с образования Образование он при этом понимает шире, чем школу, включая в него и дошкольное и внешкольное образование. Школа есть лишь звено во всеобъемлющей образовательной система, долженствующей охватить собою всю жизнь человека, а не только период юности. Образование есть поприще духа, ради которого только и существует хозяйство и государство, и водительству которого поэтому, как хотел еще Платон, они должны подчиниться. Так как последнее, однако, сейчас невозможно, то должно по крайней мере, чтобы дух управлялся автономно. Эту «автономию духа» Наторп мыслил в виде «центрального совета духовной работы», в который входили бы представители университетов и других высших школ, всех школ вообще, образовательных и воспитательных организаций всякого рода, как дошкольных, так и внешкольных, представители школьных и университетских союзов молодежи, книжного дела, народного здравия, матерей, искусства, литературы, религиозных союзов без различия партий. Этот совет духовной работы, в который входят все участвующие в процессе образования (как субъекты, так и объекты образования) должен независимо и самостоятельно ведать всем делом народного образования. С этого должно начаться преобразование государства, которому впоследствии должны последовать и хозяйственная, и политико-правовая области государственной жизни, так что в идеале все государство представляется Наторпу управляемым аналогичными советами специалистов — участников соответственных сторон народной жизни. Это и есть подлинный социализм, социализм не массы, а науки и разума, не механическо-политический, а органически-корпоративный («gcnossenschafllicher Sozialismus») социализм. Крайняя децентрализация и органическая самостоятельность каждой отдельной образовательной ячейки являются при этом основами этого грандиозного плана, представляющегося полной противоположностью бюрократическому механизму абсолютистского государства.
Соответствует ли, однако, такая автономия существу школы? Можно ли школу отождествлять в этом вопросе с университетом, как это делает Винекен? Ниже9 мы увидим, что автономия действительно соответствует существу университета. Но это потому, что университет есть не просто школа, а одновременно и главным образом очаг научного исследования. Научное творчество должно подчиняться своим собственным законам, законам логики, что действительно требует независимости от вмешательства посторонних сил, к каковым относится государство. Высшее образование, задача которого состоит в вовлечении учащихся в процесс научного творчества, предполагает поэтому не только полную свободу преподавания, но и свободу обучения. Доцент университета, подчинись исключительно требованиям своего научного убеждения, не должен быть связан не только государством и церковью, но, однажды допущенный в среду университетских преподавателей, и самим университетом. Точно так же и студент не только не может быть принуждаем к прохождению университетского курса, но и внутри университета должен быть свободен в выборе своих учителей и предметов обучения, определяемом первоначально его склонностью, а затем складывающимся собственным научным убеждением. Однако и университетская автономия, идеально неограниченная, фактически по необходимости подчиняется целому ряду ограничений: доцент и студент подчиняются требованиям факультета, вытекающим из единства факультетского преподавания, факультет в целом — требованиям, предъявляемым государством (или церковью) но отношению к будущим практическим деятелям, получающим от государства (или церкви) права службы и практики. Поэтому, чем более практический характер носит соответствующий факультет, тем более ограниченной на деле оказывается принципиально неограниченная свобода преподавания и обучения. Но у школы нет и не может быть всех тех особенностей, из которых вытекает автономия, принципиально, по крайней мере, отличающая университет. Школа не есть очаг научного исследования. Напротив, задача ее состоит в том, чтобы передать ученикам некоторую ограниченную часть результатов научного исследования. Свобода преподавания, таким образом, ограничена в школе необходимостью выбрать из всей необозримой области науки определенный ограниченный материал, наиболее подходящий для данной среды, особенности которого определяются не научными только, а хозяйственными и психологическими соображениями. Далее, школа не только обязательна, но она и не может по существу своему предоставить ученикам выбор учителя и предметов обучения. Учитель в школе имеет возможность принуждения по отношению к учащимся, которой не имеет университетский преподаватель. Уже поэтому свобода обучения в университетском смысле этого слова в школе невозможна. И действительно, па деле «свобода» обучения» о «начала не столько независимость школы от государства, сколько зависимость се от других, негосударственных союзов, главным образом — церкви. Фактическое содержание упомянутого нами параграфа бельгийской конституции сводилось в сущности к предоставлению церковным союзам неограниченного права определять по-своему жизнь содержимой ими и подчиненной им школы. Так обстояло дело до начала школьного законодательства и в Англии, где народная школа была фактически подчинена церкви, а «публичные школы» определялись потребностями и жизненным укладом правящего сословия. Чтобы свобода школьного обучения означала действительно автономию, а не зависимость от церкви или сословных организаций, для этого школа должна именно перестать быть школой, а стать университетом, т. е. стать очагом научного исследования, отказаться от обязательности, установить свободу преподавания и обучения, стать организацией творчества, а не урока.
В отличие от Винекена Наторп не идет так далеко в понимании автономии отдельной школы. Требуя «автономии духа» в смысле подчинения в с е й образовательной работы независимому от государства «совету духовной работы», он признает, что отдельная школа, как таковая, не может пользоваться правом полного самоопределения. Настаивая на децентрализации, он считает, однако, необходимым, чтобы школьная работа определялась в порядке иерархической последовательности общегосударственным «советом духовной работы», провинциальными образовательными объединениями и местными воспитательными организациями, причем, чем более местный характер носит соответственная инстанция, тем более конкретными могут быть предъявляемые ею к школе требования и осуществляемый ею над школою надзор. При этом органы автономной образовательной организации должны даже принимать во внимание требования государства, хозяйства и церковных союзов. Не требуя, таким образом, автономии школы как таковой, Наторп идет, однако, гораздо дальше, чем Винекен: он имеет в виду полную реорганизацию государства в направлении так называемого «корпоративного социализма». Мы не можем здесь обсуждать этого вопроса. «Корпоративному социализму», т. е. реорганизации государства па началах представительства «реальных интересов» науки, искусства, религии, хозяйства, права и т. д. (в отличие от атомистического представительства отдельных граждан, а на деле политических партий в современных демократиях), принадлежит на наш взгляд несомненное будущее. И мысль о создании сначала совещательного «совета духовной работы», вслед за которым должна последовать организации «совета народного хозяйства», совета «политико-правового» и соответственно других советов, выбираемых на началах представительства реальных интересов (а не личного ценза, хотя бы ценза «навыворот», как это имеет место в русской советской республике, поскольку в ней вообще не может идти речь о выборах), с тем чтобы впоследствии эти «советы» стали законодательными и высшими административными органами, представляется нам уже не такой утопичной, особенно если она будет осуществлена сначала в виде второй палаты, дополняющей первую палату, организованную на началах личного представительства. Но во всяком случае все эти советы будут не столько независимыми от государства органами, сколько именно органами государства. В частности «совет духовной работы» будет о р г а н о м г о с у д а р с т в а, выражающим его волю в делах народного образования и только составленным независимо от партийных политических группировок. Зависимая от такого совета школа не будет автономной, а будет подчинена государству, воля которого в делах народного образования будет выкристаллизовываться уже не в виде компромисса между различными политическими партиями (как это имеет место в государстве, организованном на началах личного, или, фактически, партийного представительства), а в виде равнодействующей разнообразных потребностей, интересов и взглядов участвующих в процессе народного образования лиц, организаций и учреждений.
Таким образом, гетерономная по характеру организуемой ею деятельности (урок) и по характеру своего внутреннего управления (авторитет), школа не может претендовать на автономию во вне. Но подобно тому, как урок должен быть пронизан творчеством, а авторитет — аппелировать к разуму ученика, точно так же и во внешней гетерономии школы должно просвечивать начало автономии. В этом и состоит отличие школы от университета: университет по существу автономен, и автономия его ограничивается (государством и церковью) постольку, поскольку кроме прямой своей задачи — организации научного исследования и научного образования — он выполняет и функцию подготовки граждан к практической деятельности, и притом в меру выполнения им этой своей функции. Школа, напротив, по существу своему гетерономна, но, поскольку образовательный процесс требует свободы и творчества, поскольку он должен быть пронизан духом науки и искусства, поскольку школа должна исходить из условий местной среды, она должна быть ограждена от опекающего надзора и механического вмешательства государства, преследующего интересы своего, в данный момент им так или иначе понимаемого, блага. В этом и состоит смысл того требования децентрализации школьного дела, которое выставляет Наторп. Отношение школы к государству и его местным органам представляется тогда аналогичным отношению учителя к классу. Если для пассивной школы характерно было то, что учитель показывал классу образец, который должен был быть повторен каждым учеником в отдельности, то и для бюрократически-механической школы характерно было то, что школьное начальство предписывало школе определенный образец, который отдельные школы должны были в точности воспроизводить. И подобно тому, как в трудовой школе учитель ставит классу общую задачу, которая должна быть разрешена совокупными усилиями всего класса, точно так же и правильная постановка государственного управления школами сводится к поставлению государством школе определенной задачи, в выполнении которой каждая школа работает самостоятельно. Ближайшие к школе органы управления (областные, губернские земства, уездные земства и города) могут, принимая во внимание местные условия, еще более конкретизировать эту задачу, но всегда это должно быть поставление задачи, а не предписание определенного образца. Так, например, определяя понятие обязательной школы, государство устанавливает число обязательных лет обучения и число школьных дней, дело уже местных властей определить точнее школьный возраст, каникулы и т. д. Или, например, государство устанавливает в общих чертах требование преподавания государственного языка, законоведения, ремесла, бессословности школы, необязательности обучения Закону Божьему; дело местных властей — конкретизировать это задание указанием других предметов преподавания, важных в силу местных условий, и, наконец, школа вырабатывает подробную программу обучения, выбирает учебники и т. д. При этом, однако, и школа в свою очередь не должна связывать свободы отдельного учителя готовыми образцами, а только, исходя из идеи целого, ставить ему задачу для разрешения. Наконец, в старших классах известное число уроков должно быть предоставлено уже не только инициативе и свободному выбору школы, но даже инициативе и выбору учеников. Таким образом, автономия университета, состоящая в свободном выборе учащимся своего учителя и изучаемого предмета и неосуществимая в школе, будет в ней все-таки как бы просвечивать. Очевидно также, что ни общегосударственные, ни местные органы власти не должны связывать школы т в е р д ы м и программами преподавания, что, впрочем, не исключает крайней желательности издания высшими школьными органами п р и м е р н ы х программ преподавания, необходимых уже потому, что отдельные учителя не могут следить за всеми достижениями педагогической мысли и практики. Перечисленные нами выше и аналогичные им требования и составляют то, что обыкновенно называется «подвижным учебным планом» в отличие от «твердого учебного плана», характерного для системы бюрократической опеки. Но «подвижной учебный план» есть все-таки учебный план, который государство и его местные органы вправе предложить к исполнению, раз из принципа обязательности школьного обучения вытекает вообще право государства на надзор и управление школою10.
До сих пор мы имели в виду преимущественно государственную школу. Принцип обязательности школьного обучения и государственного надзора над школой не приводит необходимо к государственной монополии в школьном деле и к исключению в нем частной, инициативы. Напротив: свобода обучения в известном смысле может оставаться неограниченной. Но, устанавливая принцип обязательности школьного обучения и определяя тем самым понятие последнего, государство вправе предъявить к частным школам, посещение которых заменяет посещение государственной школы, те же самые требования, которые оно предъявляет к своим школам, и установить за ними соответствующий контроль. Она вправе требовать, чтобы заменяющая государственную частная школа стояла по своему уровню не ниже государственной и чтобы она служила удовлетворению пренебрегаемых государством культурно-образовательных мотивов, а не обогащению за счет учащихся содержателей частных школ или удовлетворению мотивов не образовательного характера, а постороннего или даже противоречащего праву демократического государства (например, классовых и сословных). В этом отношении совершенно правильно разрешает вопрос республиканская германская конституция 1919 года. Различая между «частными школами», для которых она допускает свободу в пределах действующего права, и частными школами, «заменяющими публичные» (т. е. содержимые федеральным государством, входящими в федерацию «землями» и общинами), она в § 147 устанавливает целый ряд требований, которым такие школы должны удовлетворять. Это — не низший, чем в публичных школах, научный уровень их преподавательского состава, достаточная его материальная и правовая обеспеченность, запрещение деления учеников по классовому и сословному признаку из родителей и наличие культурно-образовательных мотивов для их учреждения. К последним относятся наличие национального или религиозного меньшинства, интересы которого не получают удовлетворения в публичной школе, или особый интерес, который частная школа имеет в научно-педагогическом отношении. В случае удовлетворения всех этих требований школьные власти обязаны выдавать разрешение на учреждение частной школы.
Мы не можем входить здесь в подробное рассмотрение всех отдельных поднимающихся здесь вопросов. Это дело специальной дисциплины — политики народного образования. Мы хотели здесь наметить только ее основные линии, поскольку они вытекают из устанавливаемого теоретической педагогикой понятия школы, и показать, что как ни трудно во многих случаях положение законодателя, сколь много такта и широты кругозора ни предполагает успешное разрешение им стоящей перед ним задачи, — самая эта задача — задача «новой свободы», гармонично сочетающей интересы личности и государства — не есть безнадежная и неразрешимая задача.
3
Из принципа обязательности обучения, понятого как право на образование, вытекает не только проблема сочетания свободы с государственно-правовым контролем над школою, но и проблема школьной с и с т е м ы, кульминирующая в сложном и в до сих пор спорном понятии так называемой «единой школы» (Einheitsschule). Право на образование, поскольку оно следует из понятия личности и ее свободы, предполагает соответствие образования потребностям личности и предоставление ей возможности дойти в образовательном процессе до тех ступеней образования, которых она заслуживает в меру своих сил и способностей. Кроме экономического вопроса о материальных средствах, потребных для обеспечения каждому соответствующего его силам и способностям школьного образования, здесь еще второй вопрос чисто правового, организационного характера. Если отдельные школы не составляют в совокупности своей системы, но каждая из них имеет свой особый, не согласующийся с другой учебный план, то переход из одной в другую, а, следовательно, и в университет или высшую техническую школу оказывается невозможным. Судьба ребенка решается, таким образом, в 7—8 лет, когда ни его способности, ни склонности не могли еще в достаточной мере определиться. Право на образование требует, следовательно, согласования отдельных школ между собою, т. е. единой школьной системы, построенной так, что каждому ребенку путь в ней от основания к вершине представляется открытым. Это вполне сознавал еще Ян К о м е н с к и й, который в своей «Великой Дидактике» оставил нам первый проект единой национальной школы. В своем проекте Коменский различает четыре ступени школы и соответственно четыре типа школы, из которых каждый обнимает 6 лет обучения. Это — сначала «материнская школа» для возраста до 6 лет, которая должна находиться в каждой семье или в некоторых лучших семьях деревни. Мать закладывает в ней фундамент всем будущим знаниям ребенка. Затем для возраста от 6 до 12 лет следует «школа родного языка», которая должна находиться в каждой деревне: цель ее — воспитание разумного гражданина, чем и определяется ее программа, имеющая в виду практические потребности жизни обыкновенного человека. Эта школа обязательна. Дети, обнаружившие в ней способности к науке, переходят затем в «латинскую школу», которая должна быть учреждена в каждом городе и давать первый концентр чисто научного знания. Окончившие ее успешно к 18 годам идут затем в национальную Академию, или университет, которых должно быть по одному в малом государстве или провинции большого государства. Здесь тоже образование продолжается 6 лет2. Аналогичный проект единой школы (только более конкретный и лишенный свойственных Коменскому недостатков отвлеченного конструктизма) был выработан в 1792 году Ко н д о р с е и представлен им Законодательному собранию. Для Кондорсе единая школа есть единственная форма осуществления права на образование. Он различает тоже четыре типа школ, соответствующих четырем возрастным ступеням и четырем концентрам образования: низшие начальные школы (ecoles primaires — 4 года от 9-ти до 12-ти лет), высшие начальные школы (ecoles secondares — тоже 4 года), институты (готовящие к практич. профессиям) и «лицеи» (университеты), причем обязательность обучения распространяется принципиально на обе первые ступени (сначала по материальным Условиям только на одну первую) Так же как у Коменского, отдельные типы школы приурочены в этом проекте к соответственным административно-географическим единицам11. Мы знаем что проект Кондорсе так и остался проектом. Французская революция не имела времени для его осуществления, а правительство Наполеона, ею порожденное, повернуло политику народного просвещения на свойственный всякому абсолютизму путь профессионального образования.
В самом деле, для просветительной политики абсолютизма характерно отсутствие единой школьной системы. Сословно-профессиональные интересы, в жертву которым приносились интересы отдельной личности, приводили к учреждению отдельных школ, разделенных между собою резкими, почти что непроницаемыми перегородками. Дворянские школы резко отделены от школ непривилегированных сословий, учительские семинарии — от разнообразных ремесленных школ, коммерческие училища представляли тоже совершенно особый тип школы. Наконец, народная школа была резко отделена от высших типов школ. Школы создавались применительно к текущим нуждам государства и представляли собою пестрый агрегат самых различных программ, прав и начальственных инстанций. Школьная система, как таковая, отсутствовала. Отсутствовало единое управление над школами, каждое ведомство применительно к своим нуждам имело свои школы со своими планами и духом преподавания и воспитания. При этом только незначительная часть привилегированных школ открывала выход в высшую школу. Большинство школ оканчивалось «тупиками»: ввиду полной несогласованности программ, окончившие их даже успешно не могли идти дальше и поступить в высшую школу. Высшее образование было, таким образом, привилегией немногих, с самого начала имевших удачу поступить в привилегированную школу, готовившую в университет. Если с точки зрения образования, как такового, абсолютизм означал школьную бессистемность, то все же школьная политика с точки зрения государства осуществляла некоторый хотя и не образовательный план. Не было школьной системы, но был государственный план школьного образования. Напротив, классический либерализм, как он имел место в Англии и Америке, означал уже полное отсутствие плана. Наличие одной только частной школы, определявшей в своей программе и в общем духе преподавания волею ее учредителей и содержателей, приводило к чрезвычайному разнообразию школьных типов, между собою мало чем связанных. Это отсутствие школьной системы во вне проявлялось уже не в многоведомственности, как в абсолютизме, а в отсутствии какого бы то ни было специального государственного школьного органа, так же как и в установившейся практике экзаменов при поступлении в высшую школу, тоже чрезвычайно разнообразных в зависимости от школы. Если доступ в высшую школу и не был благодаря этому закрыт для желающих в него поступить, то все же фактически он был чрезвычайно затруднен: только питомцы общеобразовательных школ, программа которых соответствовала университетским требованиям, могли в нее поступить без особых затруднений.
Однако самая бессистемность частной школы при полной независимости ее от государства крыла в себе некоторый внутренний корректив. Конкуренция частных школ сама собою приводила к тому, что они стремились равняться по общеобразовательной школе, которая, будучи формально непривилегированной, фактически, однако, имела то преимущество, что открывала прошедшим ее доступ в университет. С началом государственного вмешательства в область школьного образования государство со своей стороны содействовало этому процессу или законодательными мерами, или, в еще большей степени, субсидиями тем школам, которые удовлетворяли его требованиям и поступали тем самым под его контроль. Первый этап школьной политики либерализма, после того, как государство вступило на путь вмешательства в школьное дело, и характеризуется унифицирующей тенденцией. Она соответствовала понятию равенства классического либерализма, которое, как мы знаем, понималось им отвлеченно — в смысле одинаковости предоставляемой всем правовой защиты. Этот процесс унификации школы особенно ярко проявился в Соединенных Штатах. Постепенно он привел к установлению здесь к началу XX века единой однообразной школы, состоявшей из двух ступеней, из которых первая (начальная школа) обнимала собою восемь лет обязательного обучения (от 6—7-летнсго до 13—14-летнего возраста), а вторая (средняя школа) — четыре года обучения (необязательных). При этом вся школа в целом, и особенно ее старшие классы, выровнявшись но программам университетских экзаменов, носила общеобразовательный характер и открывала доступ в университет. Проблема равенства и единой школы, казалось, была разрешена. Школа предоставляла всем учащимся равную возможность, в меру сил и способностей каждого, прохождения в университет. Этот план, если отвлечься от возрастных ступеней, совпадает по духу с первыми проектами единой школы Коменского и Кондорсе, тоже имевшими в виду осуществление принципа правового равенства. К нему несомненно также тяготели и тс русские проекты новой школьной системы, которые перед самой Революцией были предложены Государственной Думе на обсуждение (начальное училище — 4 года, высшее начальное училище — 4 года, гимназия — 3 или 4 года, высшая школа). Между тем, формально проведенное равенство новой единой школы на деле оказалось величайшим неравенством, и внешне утвержденная свобода образовательного пути тяжким и мало оправдываемым насилием. В самом деле, хотя Школа предоставляла всем равную возможность поступления в университет, фактически кончала обе ступени школы и переходила в университет едва одна десятая часть всех учащихся — в силу экономических условий, неспособности, отсутствия призвания к «ученой» профессии и т. д. Большая часть учащихся не только не поступала в университет, по и во вторую ступень школы, программа которой равнялась по университетской школе, имевшей своим назначением подготовку в университет. Всем им школа не давала того, что она должна была им давать — подготовки к своей профессии, к жизненной борьбе, к конкуренции, в которую вступали ученики но выходе из школы. При свободном выходе в университет школа не давала большинству учащихся выхода в жизнь и подчиняла образовательные интересы большинства интересам незначительного меньшинства, заставляя всех проходить программу, приспособленную к потребностям этого последнего. Видимо равная, она продолжала оставаться привилегированной, удовлетворяя потребности незначительного меньшинства.
Задача состояла, таким образом, в том, чтобы пробить из школы новые выходы в жизнь, соответственно нуждам и потребностям учащихся. В этом направлении и происходила за последние 10 лет перестройка американской школы. Схематически и в общих чертах итоги этой перестройки могут быть изображены следующим образом (см. схему внизу):
 |
Американская школьная система
Схема эта станет нам еще понятнее, если мы прибавим, что общие термины «сельское хозяйство», «промышленность», «торговля» и т. д. далеко не охватывают всего их реального многообразия: в зависимости от экономических особенностей местности они наполняются в различных школах различным содержанием. При этом каждая школа в городе или местечке (а при наличии в нем нескольких школ — все его школы в целом) обеспечивает ученикам возможность выбора и прохождения намеченных образовательных путей, и, благодаря широко разветвленной организации дополняется возможность без большой потери времени перейти на другое отделение, более соответствующее его наклонностям и способностям. Кроме того последним трем годам (необязательным) обучения соответствует еще более разветвленная дополнительная школа, имеющая тенденцию становиться в отдельных штатах тоже обязательной. Приведенная схема показывает, что прежнее механическое равенство однообразия заменяется в школьной системе более органическим единством, включающим в себя многообразие конкретных потребностей жизни. Отвлеченная общность одинаковости (Allgemeinheit) уступает и здесь место конкретной целостности (Allheit), сочетающей формально-правовое требование единства и равенства с признанием фактического многообразия жизни, которую право призвано регулировать. Таким образом, принцип целостности, конституирующее значение которого для внутреннего строения школьной работы было нами сознано выше, лежит в основании также и школьной системы в целом. Постольку «единая школа означает единство организации, а не единственность школьного учебного плана»12. Тем самым разрешается ее основная задача — «предоставление каждому человеку возможности найти соответствующий его таланту путь обеспечения правильного и своевременного раскрытия каждой способности в человеке без того, чтобы она была ненужным образом задержана или, напротив, преждевременно ускорена в своем развитии тем, что учащийся с самого начала ставится на неподходящий ему образовательный путь, на котором он так или иначе принужден оставаться»13.
Изложенная нами эволюция понятия единой школы в точности соответствует эволюции понятия равенства, которой мы коснулись уже выше и которой лучшей иллюстрацией она является. На примере единой школы однообразного типа мы особенно наглядно видим, как отвлеченное равенство, понятое в смысле одинаковости положения перед законом, оборачивается в величайшее неравенство, в данном случае — в игнорирование школьным законом права лица на равную образовательную помощь со стороны государства. Смысл «права на образование» состоит в том, что государство обеспечивает каждому равную возможность вступить в жизнь наделенным тем минимумом образования, которое позволит ему отстаивать свое право, свою личность и воспрепятствует соседу превратить его в простое орудие своих замыслов. Но именно для того, чтобы равная возможность была действительно равной, необходимо, чтобы равенство правового т р е б о в а н и я восприняло в себя многообразие ф а к т и ч е с к и х отношений. Это и делает «единая школа» в своем более современном понимании. Вместо отвлеченного равенства перед законом она осуществляет «равенство шансов для каждого», или «равенство исходного пункта». Понятие равенства как формального требования освобождается от своей прикрепленности к определенному преходящему содержанию (каковым в данном случае был учебный план привилегированной университетской школы), понимается еще более формально, как вытекающее из равного достоинства личностей равенство заданиям не факта, и через это становится способным воспринять в себя многообразие различного жизненного содержания. На этом примере видно, что недостаток старого равенства, как его понимал классический либерализм, заключается не в том, что оно было только формальным и только правовым. В новом либерализме равенство остается по-прежнему только правовым и, как мы это сейчас показали, в известном смысле даже еще более формализуется. Существо нового либерализма состоит не в том, что правовое равенство эклектически дополняется здесь мерами, направленными на достижение так называемого социального равенства. Нет, социальная политика нового либерализма (в частности, его политика народного образования) имеет целью по-прежнему осуществление правового равенства, понимаемого только более глубоко, более формально и потому именно охватывающего более обширное содержание14.
К сходным с американскими результатами пришла и швейцарская школьная система. Единая школа получилась здесь путем постепенного приспособления друг к другу существовавших ранее и между собою не связанных типов школ, путем пристроек, дополнений, обеспечения взаимного перехода из одного типа школы в другой. Эта система более исторична, более пестра, менее рациональна, чем американская. На общем базисе шестиклассной элементарной школы (с одним иностранным языком в старших двух классах) возвышается несколько различных типов школ, приспособленных друг к другу таким образом, что из каждого типа в другой обеспечен своевременный и не вызывающий потери времени переход. Так из «повторительной школы», являющейся в сущности продолжением элементарной школы и посещаемой большинством особенно деревенского населения, возможен через посредство «дополнительной школы» не только переход на различные четырехгодичные кусы, открывающие доступ в высшую техническую школу, по и — через посредство «реальной школы» — во все три тина гимназий (классич., реальную и учительскую), уже прямо ведущие на различные факультеты высшей школы. Это — в случае соответствующего дарования. В случае неудачного выбора школы возможно, напротив, отступление из гимназии в «реальную школу» и через пес в профессиональную школу, дающую в 4 года законченное практическое образование.
Такая система взаимного приспособления различных типов школ предполагает широкую организацию дополнительных уроков и занятий для переходящих в новый для них тип школы учеников, что возможно без излишнего переобременения здоровья учащихся только при так называемом «подвижном учебном плане», оставляющем ученику свободу выбора некоторого числа уроков. Она также показывает, что только взаимное приспособление школ друг к другу, т. е. включенность в систему единой школы может действительно обеспечить «право на образование», куда входит возможность достижения, в меру сил и способностей, любой образовательной ступени. В этом и состоит существенное различие между государственным контролем над школами в абсолютистском государстве и школьным контролем в современном правовом государстве: если определявшая весь его характера цель первого была «б л а г о государства», то последний имеет преимущественной своей целью «п р а в о учащегося».
Какой бы тип решения проблемы единой школы мы ни взяли — тип ли рационального разветвления путей или тип взаимного приспособления друг к другу, без утраты каждым его индивидуальности, отдельных исторически сложившихся и продолжающих слагаться типов школ, мы видим, что необходимым условием решения этой проблемы является опять-таки высокий уровень государственного и народного богатства. Каждую школу в городе, имеющем меньше 5-ти школ, обеспечить пятью разветвлениями учебного плана может сейчас только богатая Америка. Обеспечить в старших классах каждой элементарной школы преподавание чужого языка может только трехъязычная Швейцария. Апория единой школы состоит не только в том, что, содействуя проявлению таланта каждого и тем самым будучи мощным фактором народного богатства, она с своей стороны уже предполагает довольно высокий его уровень. Трудность предстоящей законодателю задачи состоит в том, чтобы поднять широкие народные массы до высших ступеней образования без понижения, однако, уровня этих высших его ступеней. Ввести единую школу путем исключения из всех школ чужого языка гораздо легче, чем устроить во всех школах преподавание чужого языка или утроить дополнительные занятия для учеников, переходящих в высший тип школы. Единая школа не должна стать фетишем, в угоду которому можно жертвовать даже тем, чему она сама должна служить средством. А для этого она не должна идти путем механического униформирования, ведущего, как мы знаем, к прямо противоположным результатам, а путем взаимного приспособления, путем органического разветвления и дифференциации, которым только и может быть достигнута в большей или в меньшей степени идея конкретной целостности, лежащая в основе самого понятия единой школы. Действительно, задача «единой школы» — «предоставить каждому соответствующее его дарованию образование, так чтобы было обеспечено правильное и своевременное раскрытие каждой способности в человеке», — это задача не допускает своего полного и окончательного разрешения. Для каждого времени она может быть только «по возможности» разрешена, и каждое ее решение всегда может быть превзойдено последующим. Так же как и трудовая, единая школа не может быть введена в жизнь сразу одним декретом. Но именно потому, что проблема единой школы есть никогда сполна не разрешимое задание, нет таких обстоятельств, при которых невозможно было бы двигаться вперед по пути ее осуществления. Подобно «трудовой школе» и «единая школа» есть идея, — идея не в смысле произвольного продукта воображения, но в смысле укорененного в самом существе права и школы т р е б о в а н и я, которое в меру богатства, доброй воли законодателя и творческой энергии учителя может получать свое все более и более полное осуществление.
Выводя единую школу из права личности на образование, мы определили главную ее задачу как «предоставление каждому соответствующего его дарованию образования». Однако такое ограниченное рамками отдельного человеческого индивида понимание единой школы слишком узко. Ограждая личность человека, обеспечивая ему соответствующее его дарованию образование, единая и органически разветвленная школьная система создает тем самым также и коллективную личность народа. Обеспечить каждому дарованию соответствующее образование — это значит поставить каждого на место, на котором его общественная ценность будет наибольшая, на котором он не только для себя, но и для целого сотворит лучшее, на что он вообще способен. Но направить каждого на у д о в л е т в о р я ю щ и й его, т. е. развивающий его собственную личность труд и тем самым помочь ему найти «свое» место в обществе, — разве это не значит укреплять единство народа, работать над превращением его из механического агрегата борющихся между собою и сталкивающихся в безысходных противоречиях воль в органическое цельное существо, имеющее свою единую коллективную волю? Пример швейцарской и американской, также и итальянской единой школы, как она описана хотя бы в классическом «Дневнике школьника» Дс-Амичиса, неопровержимо это подтверждает. Все наблюдатели американской жизни, да и сами американцы согласны в том, что американский народ как единое целое создает в первую очередь единая народная школа: это она перемалывает вступающую на почву Америки громадную массу разноязычных и разноверных эмигрантов в американскую нацию, в своеобразную коллективную личность народа. Конечно не всегда эта коллективная личность народа обладает внутренним единством и имеет свою волю. Но ведь то же самое, увы, слишком часто можно сказать и о личности отдельного человека. Как для отдельного человека, так и для коллективной личности народа единство волевого устремления есть не столько факт существования, сколько задание жизни. Единая школьная система более всего способна содействовать разрешению этой задачи. Будучи органически разветвленной системой путей, отводящих каждого на «его» место внутри общественного целого, она может быть уподоблена кровеносной системе, созидающей единство организма15. Так мы лишний раз убеждаемся в совпадении личного и общественного начал. Единая школа оправдывается не только тем, что она созидает личность отдельного человека, проявляя по возможности все заложенные в ней способности, но и тем, что, созидая ее, она т е м с а м ы м созидает и коллективную личность народа. Именно потому, что заданность той и другой не исчерпывается никакими достижениями, единая школа, кроя в себе возможности бесконечного разветвления и дифференциации, остается сполна никогда не осуществимой идеей.
Литература вопроса. Общим труд, который был бы посвящен философскому обоснованию политики народного образования, на русском яз. нам неизвестен. Много интересного читатель найдет у К е р ш е н ш т е й н е р а, Основные вопросы школьной организации. М. 1910, на немец, яз. Срв. книгу Н а т о р п a, Sozialidealismus.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА VI
- Основные сочинения Лютера по вопросу об обязательности обучения: «An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung» (1520), «An die Ratsherrn aller Stadte deutschen Landes, dass sic chrisiliche Schulen aufrichten und halten sollen» (1524) и (главное) «Ein Sermon oder Predigt, dass man solle Kinder zur Schule halten» (1530).
- Коменский. Великая дидактика. О Коменском срв. П. Блонский. Ян Амос Коменский. М. 1914.
- Срв. Речь Бснжамена Констана «О свободе древних сравнений со свободой нового времени» (напеч. во II томе его Cours de politique constitut., изд. Laboulaye 1861 г.), где мы читаем (стр. 558): «Сколь бы ни была трогательная такая заботливость власти, мы попросим власть оставаться в.ее пределах. Пусть она ограничивается быть справедливой, мы сами уже постараемся быть счастливыми». — Вильгельм Гумбольд в сочин. «О границах государ, власти» (по русски в прилож. к книге Гайма, В. Гумбольдт. М.).
- В сочинении «О свободе», особ. гл. 1 и гл. 5.
- Статья 22 Конституции 1793 г.: «Образование есть потребность всех. Общество обязано споспешествовать всею своею властью прогрессу общественного разума и сделать образование доступным всем гражданам». Статья эта взята из соответствующей статьи жирондистского проекта Конституции (о нем смотри С. И. Гессен. Политич. идеи жирондистов. Русская Мысль. 1910, X), в выработке которого принимал участие Кондорсе. Подробности в L'inslruction publique en Franse pendant la Revolution. Discours et Rapports, publies et annotes par С. Hippeau.
- Относящиеся сюда сочинения Кондорсе (помещены все в VII томе его Oeuvres, изд. Condorcet-O'Connor и Arago. 1847): «Sur rinstruction publique» 1791 — 1792, состоящий из пяти мемуаров: 1) Nature et I'objet de l'inslruction publique, 2) De l'instruction commune pour les enfants, 3) Sur I'instruction commune pour les hommes, 4) Sur l'instruction relativ aux professions, 5) Sur l'instruction relative aux sciences, и «Rapport de projet et decret sur ('organisation generale de l'instruction publique» 1792. Обоснование права на образование и обязанности государства обеспечить таковое: «Невозможно, чтобы даже равное образование не увеличивало превосходства тех, кого природа наделила более счастливой организацией. Но для сохранения правового равенства достаточно, чтобы это превосходство не влекло за собою реальной зависимости, и чтобы каждый был достаточно образован для того, чтобы самостоятельно и не подчиняясь слепо разуму другого осуществлять права, пользование которыми ему предоставлено законом. Тогда превосходство одних людей не будет злом для других, не получивших тех же преимуществ, но будет содействовать благу всех, и дарования как и знания станут общим достоянием общества». 1 memoire, Т. VII, стр. 170 — «Предоставить всем людям средства к тому, чтобы они могли заботиться о своих потребностях, обеспечить свое благосостояние, знать и осуществлять свои права, понимать и выполнять свои обязанности; обеспечить каждому возможность совершенствовать свой труд, быть способным выполнять общественные обязанности, к которым они призваны правом, развивать во всем их объеме дарования, которыми наделила их природа, и, таким образом, установить между гражданами фактическое равенство и сделать реальным признанное законом равенство политическое, — такова должна быть первая цель национального образования. И с этой точки зрения о н а е с т ь д л я п у б л и ч н о й в л а с т и о б я з а н н о с т ь с п р а в е д л и в о с т и». Начальные слова доклада Закон. Собранию: т. VII, стр. 449. Срв. 542 — О Кондорсе как педагоге срв. статью Наторпа в Gesammelte Abhandlungen zur Sozialpadagogik, 1 Abt. 1907 (2-е изд. 1921).
- Сказанным не исключается право и даже обязанность государства и органов местного самоуправления содействовать дошкольному образованию детей, и это тем более, чем менее современная семья в состоянии сама организовать таковое. Мы говорим только, что дошкольное образование должно быть по преимуществу делом частной и общественной инициативы (как это думает, например, и Наторп, Sozialidealismus, стр. 32, 93 сл.) и не может быть предметом государственного вмешательства в том смысле, как образование школьное.
- Если с политико-педагогической точки зрения принцип обязательности распространяется на школу в полном своем объеме, то фактическому его распространению полагаются пределы финансовыми и экономическими соображениями. Только богатое государство может выдержать тяжелое финансовое бремя содержания сети многолетней бесплатной и обязательной школы и питающих ее многочисленных учреждений (учительских семинарий, курсов, университетов). И только богатое общество может позволить себе роскошь освобождения от производительно-хозяйственного труда подростков старшего школьного возраста. Что принцип обязательности школьного обучения предполагает соответствующее социальное законодательство (полное запрещение детского труда в школьном возрасте от 6 до 12 — 13 лет, освобождение подростков от 14 до 18 лет на определенное число часов в неделю для посещения ими дополн. школы), — это сознано в большинстве законодательств Зап. Европы и Соед. Штатов.
- Гл. 12 (теория университета).
- Конечно, предпосылкой требуемой нами широкой децентрализации и самостоятельности местных органов в области школьной политики является относительно высокий культурный уровень местного самоуправления и учительства. При низком уровне обоих децентрализация может повести только к падению школы. В этом историческое оправдание абсолютизма и бюрократии, бывшей в свое время прогрессивным и новаторским слоем в государстве.
- Русский старый режим был особенно типичен в этом отношении. Наряду с тремя ведомствами, заведывавшими народным просвещением (М-во Нар. Проев., Вед. Имп. Марии и Св. Синод), не было почти ни одного ведомства, которое не имело бы своего департамента просвещения. Характерно, что советский режим, начавший со сосредоточения всего образовательного дела в Ком. Нар. Проев., не только на практике вернулся к многоведомственности (и это тем более, чем более коммунизм вырождался в государств, абсолютизм), но и теоретически оправдывал эту практику необходимостью распределить все школы по соответствующим производствам, а значит и по разным ведомствам, ими заведующим.
- Kerschensieiner, Padag. Zeilung. 1914, № 26, стр. 527.
- P. Nаtоrр, Die Einhcitsschulc, В. 1919, стр. 11 и Sozialidealismus, стр. 128, 156, 163.
- Сказанное представляет прекрасный пример диалектического единства формы и материи. Ошибка «формализма» заключается в том, что он материализует форму. Чем «чище» форма, тем более способна она воспринять материю, которая есть не что иное, как необходимый ее момент. — Срв. нашу цит. выше статью «Философия наказания» в «Логосе» (1912, 2—3, гл. 2, § 1-2).
- Сравнение Наторпа («Sozialidealismus»), особенно подчеркивающего эту созидающую единство народной воли и в этом смысле подлинно демократическую функцию школы.
Глава VII. СТУПЕНЬ СВОБОДНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ТЕОРИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Школа, которой мы посвятили предыдущие три главы, была для нас ступенью гетерономии. Правда, в ее организации должна была просвечивать будущая автономия, переходом к которой она служит и от которой она получает свое оправдание и смысл. Но, пронизанная свободой, она по необходимости оставалась в рамках принуждения. Принуждение, которое в уроке все более проникалось творчеством и которое заставляло авторитет быть все более просвечиваемым свободой, оставалось все же неизбежной границей школьной работы и дисциплины. И, наконец, в тесной связи с ним стоял самый принцип принудительности школьного образования. От этой переходной ступени нам предстоит теперь обратиться к высшей ступени нравственного образования, к ступени автономии.
1
Переход от урока к творчеству, от подчинения авторитету к подчинению разуму, вообще от ограниченной организации школы к беспредельной текучести жизни особенно ярко обнаруживает бесконечность самой задачи образования. Здесь впервые образование явно открывается, как бесконечное задание всей жизни человека. В самом деле, если урок но существу ограничен той целью, которою он определяется, и, значит, допускает свое окончательное и завершенное выполнение, то творческая работа — и в этом состоит существенный ее признак — не знает пределов достижения. Всякое достижение в творчестве есть только этап для новых достижений. Именно потому, что цель работы в творчестве ставится себе самим работающим, достигнутая цель тотчас же выдвигает здесь новые цели работы. Удовлетворение достигнутым означает смерть творчества, оно свидетельствует о том, что интуиция, лежащая в основе творчества, иссякла, и еще недавний творец перестал творить. То же самое можно сказать и о подчинении человека его собственному разуму. Предписанное авторитетом можно выполнить в точности. Но осуществить в себе сполна идеал внутренней свободы, это значило бы совершенно слить фактическую линию поведения с идеальной линией долженствования. На деле мы только более или менее приближаемся к вычерчиваемой нам долгом линии поведения. И даже в те моменты, когда мы стоим на высоте нашего долга, осуществленное долженствование выдвигает перед нами тотчас же новые задачи, к которым вновь должна тянуться наша воля. В силу этой безжалостной ненасытности долга подчинение самому себе, или свобода остается бесконечным заданием. И наконец, тот же момент бесконечности отличает и самую среду, в которую вступает человек, покидая школу. Для школьника школа есть нечто ограниченное и, как бы она ни была пронизана жизнью, — все же отдельное от жизни: в школе он только готовится стать гражданином и человеком, но его работа в школе есть прежде всего работа для себя и для школы. Иначе обстоит дело с учителем этой школы, нередко еще недавним се учеником: работая в школе, учитель тем самым работает для всего учительства вообще, а как таковой — для своего народа в целом. Но, работая для своего народа, подвигая его вперед по пути культуры, он тем самым работает и для всего человечества. Так учитель данной школы вырастает до учителя вообще, учитель — до гражданина данного народа, гражданин данного народа — до гражданина культурного мира вообще. Школа — это непосредственное место приложения им его творческого труда — раздвигается до рамок народа, а народ — до рамок всего человечества как единого целого. Но если школа, профессия, даже народ представляют собою общественную среду, ограниченную еще какими-то пределами, то человечество, будучи высшей целостностью культурного общения, беспредельно. Человечество как культурная целостность не есть простая сумма ныне живущих людей, это есть живая связь поколений, уже умерших, но продолжающих жить в своих сохраненных историей трудах и достижениях, и еще не родившихся, но уже зачатых в тех культурных проблемах, в тех творческих заданиях, которые поставило, но еще не осуществило ныне живущее поколение. Это есть «человечество» в старом смысле слова, в смысле «человечности» (Menscheit-Humanitat) как бесконечно раздвигающейся в процессе истории совокупности сотворенного и заданного1. Но если так, то это значит, что общество, как та среда культурной работы, в которую человек вступает после школы, кроет в себе момент бесконечности. Чем больше углубляется труд человека, т. е. чем более профессия его вырастает до призвания, тем больше раздвигаются рамки самой окружающей его среды: ремесленник превращается в члена класса, представитель класса — в гражданина, а гражданин — в человека. Встречаясь сначала только со своими непосредственными товарищами по работе, он, в меру пронизанности его работы творчеством, вступает в общение со всеми представителями своей профессии, затем с представителями других профессий своего народа и, наконец, на вершинах творческого труда, начинает работать плечом к плечу с представителями всех профессий, всех наций и всех поколений. — Так ступень автономии открывается нам во всей своей беспредельности. Она, поистине, есть тот «безбрежный океан красоты, который, по слову Платона, развертывается перед человеком, когда, пройдя предварительные ступени образования, он от созерцания красоты в отдельных людях, затем в отдельных занятиях и профессиях и в отдельных знаниях переходит к лицезрению ее в ней самой, в се идее. И найти свое устойчивое место в этом безбрежном океане жизни, т. е. обрести свое призвание, свою индивидуальную, никем другим не заменимую должность в мире, — это и значит определить себя самого, стать свободным, разрешить для себя проблему автономии.
В этом постепенном углублении профессии человека, вырастающей до призвания, и связанном с ним расширении окружающей человека среды как места приложения его труда, и состоит задача нравственного образования на ступени автономии. Еще менее, чем на предыдущих ступенях, здесь, где речь идет об определении человека самим собою, возможна какая бы то ни было рецептура. Немудрено поэтому, что большинство трактатов по педагогике не исследовали вообще этой ступени образования. Но, если на этой высшей ступени образование человека может быть делом только его собственной личности, и следование каким бы то ни было рецептам здесь особенно недопустимо, то спрашивается, — что же остается на долю педагогической теории? Очевидно, последней остается на этой высшей ступени образования исследовать два вопроса: во-первых, — установить, в чем состоит задача нравственного образования, т. е. исследовать понятия свободы, личности, призвания, а затем — исследовать, при каких внешних условиях общежития задача нравственного образования может быть разрешена каждым взрослым человеком по-своему наилучшим образом. Но первая задача разрешается этикой, исследующей существо и законы нравственной жизни. Если на первых ступенях нравственного образования педагогическая теория была вся пронизана этикой, то здесь, на вершине нравственного образования, она, таким образом, почти что сливается с ней. Здесь с особенной яркостью обнаруживается установленное нами уже ранее соотношение между педагогикой и философией: будучи прикладной этикой, теория нравственного образования в конце концов впадает в этику, служившую ей ранее теоретическим основанием. Вторая задача — выяснение внешних условий общежития, наиболее благоприятствующих самоопределению личности, — есть, как известно, задача политики как науки о должном правовом и государственном устройстве. Таким образом, педагогические вопросы, уже на предыдущей ступени школы соприкасавшиеся с проблемами политики, обнаруживают здесь свою непосредственную с ними связанность. Педагогика, этика и политика оказываются тесно связанным друг с другом, как бы вырастающими из некоего единого корня. Оторванная от этики и политики, педагогика засыхает, вырождается в узкую, мало значащую рецептуру. Не случайно все великие теоретики педагогики — Платон, Локк, Руссо, Песталоцци, Фихте, вплоть даже до Л. Толстого — были вместе с тем и философами нравственности, и политиками.
2
Особенно тесно связал педагогическую проблему с этической и политической П л а т о н в своем диалоге «Государство», служащем одновременно и педагогическим трактатом и сочинением по этике и политике. Мы остановимся несколько подробнее на некоторых основных мыслях его этически-педагогической теории, тем более, что в наше время она получила свое примечательное возрождение в известном труде Наторпа «Социальная педагогика». Единство этической и политической проблемы Платон выражает тем, что совершенно параллельно рассматривает структуру отдельной личности и строение государства. Государство для Платона — большой человек, «человек, написанный прописными буквами». Отдельный индивид — малое государство. Подобно тому, как каждое государство состоит из различных сословий, точно так же и в личности человека совмещается несколько начал. Низшее начало, или, как выражается Платон, «низшая часть» души — это чувства. Чувства представляются Платону множественным началом души. Они направлены на внешние предметы (как, например, голод, жажда, страх) и, прилепляясь к ним, отвлекают человека от внутренней сосредоточенности в себе к внешнему миру. Каждое чувство тянет человека в свою сторону, стремится окрасить своим цветом всю душу человека и, превратившись в страсть, поглотить в своем все пожирающем пламени все другие чувства. В этом смысле всякое чувство своекорыстно, направлено против целостности души. Платон уподобляет чувственную часть души (которую он называет способностью вожделения) многоголовому зверю, бесформенное тело которого, лишенное единого центра, готово разорваться на части. Вторая «часть» души — это воля, которую Платон называет верным стражем души, и уподобляет льву или псу стоящему на страже дома2. Воля умеряет отдельные чувства, не дает им превратиться в страсть, — постольку она охраняет целостность личности человека. Но сама она только чисто исполнительная способность. Руководит волею высшая часть души — способность познания или разум. Это подлинно человеческое начало в человеке. Потому Платон и говорит о нем как о «внутреннем человеке» в человеке, дающем направление всей линии его поведения и сообщающем единство его личности. Задача воли — блюсти это, преподанное разумом, направление жизни человека и загонять в подполье человеческой души отдельные чувства, отвлекающие человека от его назначения. В диалоге «Федр» Платон сравнивает душу человека с образом влекомой двумя конями колесницы, уподобляя разум возничему, волю — среднему, послушному коню, а чувство — пристяжному коню, смотрящему все время в сторону, отвлекающему колесницу от се прямого пути и требующему постоянного понукания бичом.
Структура отдельного человека в точности соответствует строению государства. Низшее сословие в государстве — хозяйственное сословие: ремесленники, земледельцы, торговцы. Основной мотив хозяйственной деятельности, по мысли Платона, — эгоистический интерес к стяжанию. Заниматься ею могут только люди, не возвысившиеся до идей общего блага. Хозяйственная деятельность по существу своему своекорыстна, стремление к личному благу здесь господствует, и потому хозяйственное сословие — множественное начало в государстве. Если дать ему свободу действования, то оно так же раздерет государство на части, как чувства, не обуздываемые более волею, готовы разорвать на части душу отдельного человека. Поэтому оно не может быть допущено к участию в управлении государством, но должно быть управляемо высшим сословием. Это высшее правящее сословие, задача которого состоит в том, чтобы охранять целостность государства и служить общему благу, Платон называет «стражами». Стражи охраняют государство от внешней опасности, блюдут его внутреннее единство и осуществляют в нем всю полноту исполнительной и судебной власти. Но подобно тому, как воля в душе отдельного человека охраняет целостность его личности, лишь подчиняясь водительству разума, точно так же и правящее сословие может стоять на страже общего блага, лишь подчиняясь руководству людей, посвятивших свою жизнь познанию идеи блага, т. е. философов. Рекрутируясь путем тщательного отбора из правящего сословия, философы дают направление всей деятельности государства: им принадлежит верховная власть в государстве, и потому Платон называет их «архонтами». Это — наивысшее сословие в государстве, соответствующее «разумной части» в душе отдельного человека3.
На этом анализе строения души человека и государства Платон воздвигает свое замечательное учение о добродетелях. Чувственная часть души, раздирающая личность человека на части и легко поддающаяся искушениям внешнего мира, ставит перед человеком задачу преодоления чувственности. Только преодолев или «умерив» чувства, можем мы сохранить целостность нашего Я и осуществить в себе внутреннюю свободу. Добродетель умеренности, или целомудрия как ее называет Платой, есть поэтому первое условие нравственной жизни. Но победить чувства возможно двояким образом. Можно пытаться их уничтожить, совершенно вытравить из души. Это путь аскетизма, известный уже нам путь кинической школы, видевшей спасение человека в уходе от искушений мира и провозгласившей идеал нищеты. Этот путь опустошает душу вместо того, чтобы ее обогащать, и Платон, несмотря на некоторое колебание в сторону аскетизма в начальном периоде своего развития, не идет этим путем. Чувства должны быть побеждены, будучи сохраненными в душе, а не уничтоженными. Они должны быть не механически подавлены, но преобразованы, подняты на высшую ступень и через то отчищены и кинуты в направлении Добра. А это значит, что они должны быть организованы. Организация чувств — это второй путь их преодоления, противоположный аскетическому пути механического подавления. Сами по себе чувства не являются злом: они становятся злом тогда, когда, не подчиняясь никакому высшему началу, в беспорядке толпятся в душе, готовые в любой момент увлечь ее — каждое в свою сторону, — в сторону той или иной страсти. Но организовать чувства — это значит кинуть их все в направлении единой цели, сообщить им всем единство движения. Тогда вместо того, чтобы кидать ладью человеческой души из стороны в сторону, они, уловленные парусом и рулем, восставленными волею, только увеличат мощь движения души в направлении, указываемом ей ее кормчим. Так из задачи целомудрия вырастает уже для воли новая задача — задача неуклонного преследования однажды поставленной цели. В этом состоит добродетель мужества. Таким образом целомудрие, как добродетель чувственной души, возможно через мужество, как превышающую его добродетель воли. Оторванное от мужества, оно вырождается в аскетизм. Заблуждение аскетизма в том именно и состоит, что он абсолютирует целомудрие, в одном из моментов добродетели видит всю ее полноту. Потому-то вместо творческого преобразования мира он и ограничивается немужественным из него уходом. Но и мужество, в свою очередь, может быть двояким. Или оно сводится к чисто механическому упорству в преодолении раз поставленной цели. Тогда мы имеем простую храбрость, или дерзость, образцом которой в древности был Аянт, а в новое время хотя бы Дон Жуан. Храбрый человек не ведает страха. Он ничего и никого не боится, ни перед чем не отступает, чтобы достигнуть намеченной цели. Но именно в этом абсолютировании конечной и временной цели состоит его ограниченность. Подлинное мужество сплошь и рядом требует от человека, чтобы он отступил от поставленной себе временной цели: оно требует, чтобы человек отказался от своих недавних убеждений, от профессии, к которой уже начал привыкать, от поста, которого наконец добился. Для мужественного человека, преследующего какую-либо цель, всегда есть нечто высшее, по отношению к чему данная конечная цель занимает подчиненное положение. Для храброго человека данная конечная цель сама есть наивысшее, почему он и не останавливается ни перед чем для ее достижения, а раз достигнув, переходит к новой цели, которую преследует с тем же механическим бесстрашием. Если храбрый человек ничего не боится, то мужественный человек, напротив, боится. Правда, он боится одного — изменить себе самому, своему назначению, своей индивидуальной линии долженствования. И потому, когда конечная цель, которую он до сих пор преследовал, вступает в конфликт с последней целью его существования, он отступает от нее или преобразовывает ее согласно требованию этой последней цели. Постольку мужество эластично: направленное всегда на верность личности себе самой, своему призванию, оно стремится согласовать все отдельные цели нашей деятельности в стройную, органически целостную систему. Цель, от которой не отступает мужественный человек, не сеть нечто мертвое, готовое и данное, — она органически растет и меняет свои внешние формы но мере роста самой личности, осуществляющей свое призвание. Напротив, храбрость механична: цель, которую преследует храбрый человек, мертва, готова и дана в неизменном, окончательном виде. Так из задачи мужества вырастает для человека новая задача — постижения им идеи Добра, как высшего мерила отдельных целей его деятельности, как того последнего начала, которому только единственно и принадлежит долг неотступной верности, преследуя которое личность обретает свое призвание в мире. В этом постижении идеи Добра и тем самым своего назначения (что составляет, по мысли Платона, задачу разума) и состоит высшая из всех добродетелей — добродетель мудрости. Как целомудрие должно быть пронизано мужеством, так и в мужестве должна просвечивать мудрость. Оторванное от мудрости, мужество вырождается в храбрость, в честолюбивое и механическое отстаивание конечных и временных целей существования. — Так каждая из добродетелей указует на следующую, в которую она и входит как необходимый ее момент. Постольку добродетель едина: отдельные добродетели суть только стороны единой добродетели, сочетающей в себе в гармоническом синтезе все отдельные свои моменты. Эту полноту добродетели — гармонию всех отдельных ее моментов — Платон называет правдой, или справедливостью. В применении к отдельному человеку она означает согласное сочетание всех трех частей души, из которых каждая, оставаясь в положенных ей пределах, выполняет свое назначение. В применении к государству в целом она означает внутренний мир между отдельными сословиями, из которых каждое, подчиняясь высшему, выполняет положенную ему функцию и получает в полной мере то, что ему причитается4.
Учение о добродетелях Платон развивает по преимуществу па примере отдельного человека. Напротив, на примере государства в целом он развивает обратную сторону этого учения, а именно учение о вырождении справедливого государства (называемого им аристократией — господством идеи блага) в искаженные формы государственности и его саморазрушении. Справедливость в государстве сохраняется постольку, поскольку добродетель каждого сословия остается пронизанной высшей добродетелью, служащей ей основанием. Как только низшая добродетель отрывается от высшей, гармония нарушается, и государство начинает вырождаться. Этот путь вырождения начинается с того, что мужество отрывается от животворящей его мудрости. Сословие стражей выходит из повиновения сословию философов, честолюбивое преследование временной цели заменяет собою служение общему благу. Война из средства охранения целостности государства становится самоцелью. Аристократия вырождается в «тимархию», в господство военного сословия, руководимого храбростью и честолюбием. Военное сословие вместо того, чтобы преследовать интересы общего блага, начинает преследовать свои классовые интересы, обеспечивает себя частной собственностью. Так возникает разрыв государства как бы па два народа: на богатых и бедных. Но храбрость, исчерпав себя в достижении представлявшихся ей временных целей, уступает место рассудочному благоразумию, стремящемуся сохранить добытое путем умеренного его использования. Так тимархия переходит в олигархию, в господство немногих. Вначале в олигархии соблюдается еще умеренность: господствующий класс умеет еще жертвовать мимолетными и ближайшими своими выгодами ради отдаленных и более основных интересов. Беззастенчивое преследование корыстных интересов сдерживается еще некоторое время доводами благоразумия, в основе которых тоже лежит, правда, личный интерес, но которые, подавляя произвол и страсти, сохраняют еще некоторое право и добродетель. Однако «умеренность», не питаемая более животворящим ее мужеством, отмирает. Своекорыстный, собственнический интерес, не направляемый более мужеством на достижение отдаленных и высших целей, проявляется во всем своем разнузданном произволе. Он одинаково охватывает как господствующий, так и подчиненный класс. И так как на стороне подчиненного класса сила числа, то после открытого разрыва и гражданской войны масса побеждает. Воспитанная олигархией, масса хочет стать на ее место. Олигархия сменяется демократией. Демократия — это господство массы, руководимой исключительно своекорыстием и страстью. Государство и индивид здесь совершенно лишаются всякой целостности, распадаются на мелкие части, представляя собою агрегат взаимно ничем между собою не связанных атомов. На фоне отвлеченного равенства торжествует случайный человек и случайный интерес, превозмогший другие в силу чисто временных и случайных обстоятельств. Уничтоженное в своей целостности и раздираемое непрерывной внутренней борьбой государство становится в конце концов достоянием диктатора, утверждающего свою власть на почве всеобщей усталости и безразличия. Демократия переходит в тиранию, которую она всегда неизбежно порождает. Этим завершается круг вырождения государства: в тирании государство окончательно перестает быть самим собою, из «общего дела» становится собственностью отдельного человека. Но и индивид в тирании перестает быть самим собою. Даже сам тиран, руководимый исключительно чувством страха и желанием сохранить свою власть, превращается в раба сменяющихся и внешне определяемых страстей5.
Как же сохранить государство от вырождения? Как предотвратить его разложение, являющееся следствием неизбежной диалектики, вступающей в силу тогда, когда низшее начало отрывается от животворящего его высшего принципа, и жизнь уступает место шаг за шагом торжествующему механизму? Это должна сделать, по мысли Платона, правильная государственная система воспитания. Необходимо идею общего блага сделать как бы второй природой каждого отдельного представителя правящего сословия, а для этого нужно поставить его с самого рождения в такие условия, при которых никакой частный интерес не сможет уже отвлекать его от идеи общего блага. Задача государственного строя — обеспечить в государстве господство общего блага: «общность радости и горя». С этой задачей вполне совпадает задача образования: отвратить человека от узко субъективных интересов и заставить его проникнуться интересами целого. Отсюда коммунизм Платона, отличающий равно как его политику, так и его педагогику. Цель этого коммунизма — жизнь в общем. А так как от жизни в общем больше всего отвлекают частная собственность (питающая своекорыстный интерес) и семья (дающая иллюзию общего начала, но преследующая притом все же частные цели), то оба института в совершенном государстве должны быть упразднены. Этот коммунизм не экономический и не политический. Его мотивом является не уничтожение эксплуатации одного лица другим и не осуществление экономического и политического равенства (как в современном коммунизме). Мотивы Платонова коммунизма исключительно этико-государственные: сохранение целостности государства и души отдельного человека через подчинение их идее Блага. Потому также это по преимуществу коммунизм образования и жизни. В отличие от современного коммунизма, имеющего прежде всего в виду преобразование хозяйственной жизни и упраздняющего не столько частную собственность вообще, сколько собственность на орудия производства, коммунизм Платона совершенно не распространяется именно на хозяйственную жизнь. Разделяя с классической древностью презрительно-отрицательное отношение к хозяйственной деятельности, Платон считает, что единственным стимулом последней может быть частный, корыстный интерес. Поэтому коммунизм Платона и ограничивается только правящим сословием. Продолжая производить на основе частной собственности, хозяйственное сословие отдает часть произведенных им продуктов в виде налога правящему сословию, за что и получает безопасность существования и хорошее управление. Не организация коллективистического производства, а организация внутри правящего сословия коммунистического потребления полученных в виде налога продуктов — вот к чему сводится экономическая сторона Платонова коммунизма6.
Мы не можем здесь подробнее вдаваться в изложение Платоновой системы коммунистического воспитания. Отметим только, что оно начинается с момента рождения и даже ранее, ибо самое деторождение рационализировано разработанной системой эвгении, регулирующей не только брачный возраст, но и предписывающей, кому с кем сочетаться браком, а также безжалостно удаляющей «неправильных» детей. Дети, одинаково мальчики и девочки, с момента рождения воспитываются все вместе под надзором назначенных правителями воспитателей и воспитательниц, так что все младшее поколение называет старших равно «отцами» и «матерями». С 1 до 13 лет имеет место воспитание в первоначальном смысле слова, в течение которого происходит обучение грамоте. С 13 до 17 лет продолжается элементарное обучение (счет, геометрия, музыка). В течение всего этого периода, от рождения до 17 лет, образование имеет в виду преимущественно чувственную часть души, и даже в постановке всего элементарного обучения (грамота, счет, геометрия, музыка) господствует в качестве основной цели воспитание целомудрия. Следующий период от 17 до 30 лет есть период воспитания воли, — здесь господствует добродетель мужества, которое воспитывается не только путем физических упражнений (гимнастика и воинская повинность в период от 17 до 20 лет), но и (в возрасте от 20 до 30 лет) путем систематического обучения наукам (арифметика, геометрия, стереометрия, астрономия и акустика), в которых истина, будучи связана еще целым рядом (в самих этих науках недоказуемых, а принимаемых на веру) предположений, требует как бы от самого разума послушания и верности. Прошедшие успешно курс наук допускаются с 30 до 35 лет к высшему образованию, состоящему в занятии диалектикой — наукой о последних основаниях и предположениях бытия, знания и Добра. Это — высший период образования — образование разума, воспитываемого к мудрости. С 35 до 50 лет имеет место государственная служба, причем наиболее отличившиеся в занятиях диалектикой занимают высшие административные и военные должности. С 50 лет только граждане приобретают свободу действия, за исключением верховных правителей (архонтов), которыми становятся стражи, оказавшие наиболее выдающиеся успехи в занятиях диалектикой. И все это обнимающее весь жизненный путь человека образование протекает на фоне совместной жизни (сисситии, общие помещения для научных занятий и отдыха).
Мы остановились так подробно на системе Платона не потому, чтобы считали ее современной. Иные проблемы стоят ныне перед человечеством, и иными путями идет оно к их разрешению. В частности, со времени Реформации, возродившей идею первоначального христианства, мы не можем проводить уже такой резкой грани между хозяйственной деятельностью и остальной культурой: все люди должны быть приобщены к хозяйству так же, как они должны приобщиться к науке и искусству, и, с другой стороны, хозяйственное сословие не должно быть исключено из системы образования. Нам чужд также интеллектуализм Платона, отождествляющий образованность с научным знанием, сводящий «мудрость», т. е. постижение человеком своего призвания, к философскому знанию идеи Добра и вручающий высшую власть в обществе ученым. Идея Добра есть для нас не столько предмет знания, сколько предмет действия и, следовательно, не столько «общее благо», которое, будучи познано мудрейшими и ученейшими, может быть навязано всем остальным принудительным образом, сколько «свобода» и «личность», которые обретаются каждым путем его автономного действования. И потому путь образования представляется нам уже не в виде единой громадной школы, обнимающей жизнь человека с рождения до начала преклонного возраста, но расчленяется па несколько ступеней, отмечающих последовательное вытеснение принуждения свободой и увенчивающихся свободным самоопределением человека. Наконец, после стоиков и опять-таки христианства, идея Добра не замыкается для нас в государстве, но свободным действованием человека последовательно воплощается во всей иерархии человеческих отношений, начиная от отдельной личности через семью, класс, народность, вплоть до человечества как последней бесконечной целостности. И самое государство, выйдя за пределы известного Платону античного полиса, стремится обнять не только народность, но, в идее «всеобщего мира» и учреждаемого ею международного нрава, также всю целокупность культурного человечества.
Иные, неизвестные Платону, проблемы открылись современному человечеству. Но основная, единая проблема педагогики стоит перед нами все тою же, как ее впервые поставил в истории мысли Платон. И до сих пор метод, которым пользовался Платон в ее разрешении, остается образцовым методом педагогического исследования. Проблема образования личности, как тождественная в основе своей с проблемой культуры, и вытекающее отсюда единство педагогики, этики и политики; внутреннее единство индивида и общества и следующий отсюда социальный характер педагогики, для которой развитие и целостность личности совпадают с развитием и целостностью общества; наконец, диалектический метод решения педагогической проблемы, укореняющий весь процесс образования в бесконечной идее, которая просвечивает во всех предваряющих ее и устремленных к ней ступенях, и показывающий, как отпад от животворящего высшего начала приводит к вырождению образования, — все эти основные черты Платоновой педагогики делают ее необходимой составной частью всякой современной педагогической системы, желающей стоять на уровне философской мысли7.
3
Если у Платона образование совпадало с житью, но сама жизнь представлялась в виде непрерывной суровой школы, то у большинства других авторов педагогических трактатов теория образования окончившись школьным возрастом. Только немногие присоединяли к ней еще главу, специально посвященную путешествиям. Так джентльмен Локкова трактата о воспитании заканчивает свое образование путешествием по Франции и Испании, следуя традициям английскою образованного общества, и Локк дает целый ряд наставлений молодому юноше, желающему извлечь из путешествия возможно большую образовательную пользу. Вероятно следуя образцу Локка, и Руссо присоединяет к «Эмилю» особую главу «О путешествиях». С тех нор педагогические трактаты как-то мало занимались проблемой путешествия (если не считать экскурсий, имеющих научное, а не нравственно-образовательное значение), предоставляя разработку этой темы не столько философам и педагогам, сколько писателям-поэтам, как, например, Гете. А между тем главы о путешествиях у Локка и Руссо заключат в себе, как бы в зародыше, теорию послешкольного образования. Включая их в свои педагогические трактаты, Локк и Руссо как бы чувствовали, что теория образования не кончается школьным возрастом человека.
В самом деле, понятое в более глубоком смысле путешествие имеет громадное значение для образования личности человека. Чтобы обнаружить свое собственное лицо, т. е. найти свое жизненное назначение, необходимо столкнуться с другими лицами, с иным, непривычным укладом жизни. Через сопоставление с иным приходим мы к сознанию своего личного достояния. Глубокое постижение родного языка, родной культуры, своей профессии возможно лишь через ознакомление с чужим языком, чужой культурой, чужой профессией. Для нас, русских, значение путешествия для осознания своего родного достояния засвидетельствовано нашей литературой, значительная часть лучших произведений которой была задумана, выношена и написана на чужбине. «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу», читаем мы в «Мертвых Душах», которые, по свидетельству самого Гоголя, не могли бы быть им написаны в России8. Конечно, для того чтобы иметь образовательное значение, путешествие должно быть связано с высшей ступенью обучения своей профессии, с определением своего призвания. На этом именно основывался в старину в Западной Европе обычай странствия, обязательного для подмастерьев, желавших получить от цеха степень мастера. Считалось, что достичь мастерства в своем ремесле, овладеть им как своим призванием, может только тот, кто в чужих краях ознакомился с иными приемами работы, через сопоставление с ними выковал свои собственные и вступил тем самым в общение с наилучшими представителями своей профессии всего христианского (т. е. всего культурного) мира. До сих пор еще этот обычай странствования сохранился в университетах Центральной Европы (Германии, бывшей Австрии, Швейцарии и Италии): переход из одного университета в другой и возвращение в свой родной здесь чрезвычайно облегчены, ибо справедливо считается, что усвоение метода изучаемой науки, даже овладение приемами исследования, выработанными господствующей в данном университете научной школой, возможно лишь при сопоставлении их с приемами и методами исследования других научных школ, нередко существенно расходящихся и даже борющихся с данной школой.
Путешествие, понятое в смысле духовного странничества, существенно отличается от обычного туризма и даже от того пассивного и поверхностного знакомства с учреждениями и выдающимися лицами передовых иностранных государств, которое должно было, но мысли Локка, дать последнюю шлифовку образованию молодого джентльмена. Путешествие в нашем смысле слова не есть пассивное созерцание чужого уклада жизни, но активное сопричастие культурной работе, совершающейся за пределами родины, погружение в самый процесс творчества иного культурного круга. Если мы бы хотели парадоксов, то мы бы сказали, что путешествие в нашем смысле слова не связано необходимо с передвижением в пространстве. Можно передвигаться в пространстве с быстротой экспресса и духовно не менять обстановки, как это делает, например, большинство туристов, не покидающих с начала путешествия того однообразного многоязычного, интернационального общества, которое до войны обнимало собою весь мир и от которого отдельными депандансами являлись спальные вагоны и отели, разбросанные по всему лицу земли и располагающие своих постояльцев равнодушно проноситься с усвоенной ими скоростью экспресса не только мимо памятников старины, но и мимо самой окружающей их жизни. И можно, напротив, духовно странствовать, активно быть причастным культурной работе, совершающейся за пределами родины, не выезжая за всю свою жизнь далее сорока верст от своего родного города, как это было, например, с Кантом, творчество которого росло, впитывая в себя все то, что совершалось в его время в философии и смежных с нею областях духа не только в Германии, но и во всех других странах культурного Запада — в Англии (Юм, шотландцы), во Франции (Руссо, Дидро, Великая Революция), в Дании (Сведенборг), в Швейцарии (Базедов).
Еще резче уяснится духовный смысл нашего понятия странствия, если вместо личности отдельного человека мы применим его к понятию коллективной личности народа. И здесь опять-таки простое передвижение в пространстве не означает еще духовного странствия. Кочевые народы менее всего «путешествуют», т. е. их передвижение в пространстве нисколько не способствует, но скорее мешает им вступить в культурное общение с другими народами и тем самым причаститься общему культурному творчеству человечества. Народу большею частью надо осесть, пустить корни в землю для того, чтобы, вступив в культурное общение с народами, начать свой путь в стране человечества. Этот путь, совершаемый народами в стране человечества, мы и называем историей народа, а всю страну человечества, в которой отдельные народы совершают свой страннический путь, — всемирной историей. Для народа вступить во всемирную историю — это значит войти в соприкосновение с другими народами на почве культурного творчества и, через это духовное столкновение с другими, проявить свое собственное Я. Чем интенсивнее и разностороннее культурное общение народа, тем ярче и богаче его собственная история, его страннический путь в стране человеческой культуры. Потому-то и преемственна культура: вступить во всемирную историю — это почти всегда означает перенять культуру у иного, исторически старейшего, народа. Лишний раз здесь подтверждается установленная нами уже ранее истина: лишь на фоне целого проявляется индивидуальность. Нужно приобщиться чужому, чтобы обрести свое собственное Я. Найти призвание, т. е. свое индивидуальное место в мире, — это значит выйти за пределы своего, пуститься в путь в страну чужого.
Если педагогические сочинения мало уделяли места нашей проблеме, то в литературе мы имеем особый литературный вид, ей специально посвященный. Это то, что немцы называют «Bildungsroman», и что не совсем удачно переводится на русский язык термином «образовательный роман»9. Г е т е, в своих «С т р а н н и ч е с к и х г о д а х В и л ь г е л ь м а М е й с т е р а» создавший этот тип литературного произведения, определенно имел в виду нашу педагогическую проблему, почему он даже и вставил в него более или менее систематическое изложение своих педагогических взглядов в виде описания утопической «педагогической провинции», которую встречает на своем пути Вильгельм Мейстер со своими товарищами. Проблема обретения человеком своего назначения есть основная проблема классического романа Гете. Вильгельм, который в «ученических годах» бесцельно шатается из стороны в сторону, тщетно стараясь найти свою личность, являющуюся единственным предметом его исканий, находит ее в «Страннических годах» после того, как он перестал ее искать и решился, забыв о ней, беззаветно отдаться скромной и ограниченной профессии хирурга, в выполнении которой он становится незаменимым членом объемлющего его «союза странствующих» Весь «Вильгельм Мсйстер» пронизан этой основной идеей: тот, кто ищет себя, никогда себя не найдет. Только действуя в этом мире, отдаваясь ему нашим всегда ограниченным действием, обретаем мы в этом мире свое собственное Я. Гете не устает подчеркивать всю тщетность, весь вред для личности занятия своей собственной особой. «Как можно познать себя самого? Никогда через простое созерцание, но только через действие. Попытайся выполнять свой долг и ты сразу узнаешь, что в тебе кроется. Но что такое твой долг? — Требование дня». Личность есть таким образом не предмет знания, а предмет действия. Не «познай себя», но «испытай себя» через исполнение предстоящего тебе долга — вот формула личности. «Бессмыслица — так называемое общее образование и все учреждения, ставящие себе эту цель. Нужно, чтобы человек ч т о-н и б у д ь понимал в настоящем смысле этого слова, что-нибудь делал превосходно так, как никто другой не может этого делать в ближайшей окружающей его среде»… Называя «Страннические годы» также «Отрекающиеся» (Die Enlsagcnden), Гете как бы хочет сказать: мы обретаем себя, только отрекшись от своего Я. Личность находит себя самое лишь тогда, когда она расширила свое Я до целого, а это возможно лишь через погружение ее в это целое, в котором она находит свое индивидуальное место лишь благодаря беззаветной своей работе в пределах ограниченной профессии, растущей как бы изнутри по мере развития в ней личности трудящегося. В так понятом обретении себя самого и состоит задача странствия. «Многие слишком легко привыкают к месту, но не легко находят свое назначение. Всем таким рекомендуется неспокойный род жизни, дабы они тем достигли у с т о й ч и в о г о о б р а з а жизни». Духовное рождение личности, се духовная родина отличается от случайного места нашего рождения и привычки. К ней ведет долгий страннический путь. Но и самое это странствие остается подлинным странствием духа и не вырождается в пустое шатание из стороны в сторону лишь тогда, когда оно есть не уход от родины для развлечения собственного Я, а когда в нем ищется человеком его призвание, как ограниченное и «родное» ему место приложения его труда. Тем самым обнаруживается внутреннее диалектическое единство противоположных с виду начал «родины» и «странствия». Если к духовной родине ведет страннический путь, то и странствие в подлинном смысле слова возможно лишь через «родину», которая должна просвечивать в нем, как искомый в нем и оправдывающий его момент.
Проблема неудачно выбранного призвания составляет тему замечательного образовательного романа Г о т т ф р и д а К е л л е р а «З е л е н ы й Г е й н р и х». Келлер описывает узкие условия швейцарской деревни и маленького швейцарского городка, в которых родился и первоначально рос герой его романа — будущий художник Гейнрих Лее. Затем он переносит нас в обстановку мюнхенского художественного мира, куда после ряда странствий попадает Гейнрих. С исключительной художественностью показывает Келлер, как постепенно растет и приобретает внутреннюю устойчивость личность его героя, несмотря на то, что после многих надежд, падений и подъемов, он в конце концов приходит к сознанию, что он пошел не но своему пути, и что из него не выработается подлинный художник. Созревшее у него уже ранее решение вернуться на родину, от которой он оторвался, осуществляется им в момент его наивысшего внешнего успеха как художника, и притом не только материального, но и морального. Не под давлением внешних обстоятельств, но как свободный акт происходит его отказ от искусства, которому он посвятил лучшие годы своей юности. И потому пережитое крушение не сламывает Гейнриха, но обогащенный большим и значительным опытом, приобретенным им в годы странствий, он находит себя в общественной деятельности на родине. В замечательных тонах золотой безветренной осени описывает Келлер «годы мастерства» — личность героя, вставшую во весь рост и самую неудачу творчества в годы странствий сделавшую источником ясной нашедшей свое место в мире мудрости.
Наша эпоха тоже получила свое отражение в известном образовательном романе Р о м а н а Р о л л а н а «Ж а н-К р и с т о ф». Герои романа, Жан-Кристоф, идет прямым путем в своем развитии. Сын бедного музыканта, играющего в придворном оркестре небольшого прирейнского герцогства, он в раннем детстве уже проявляет исключительные способности виртуоза. Судьба и мать охраняют его от обычной участи вундеркинда, и он получает сравнительно хорошее музыкальное образование, одновременно впитывая в себя музыкальные впечатления окружающей природы и немецкой народной песни. Воспитанный на классиках, он в юности переживает период «мятежа»: его возмущает пошлость господствующего кругом мещанства, и признанные корифеи немецкой музыки представляются ему выразителями этих застоявшихся сторон немецкого духа. В этом нигилизме укрепляют его новые знакомства и встречи в литературных и артистических кругах прирейнской молодежи. Его собственные композиции, в которых он пытается выразить переживаемое им настроение протеста и отрицания, остаются непонятыми публикой и критикой. Подъем и надежды много раз сменяются глубоким разочарованием и отчаянием в собственных силах, от которого его спасает знаменательная для него встреча со стариком-учителем, глубоким знатоком музыки, сочетавшим в себе лучшие стороны старой патриархальной Германии и первым признавшим в Кристофе будущего музыкального гения. Несчастная случайность заставляет Кристофа бежать из Германии в Париж, куда он попадает без денег, почти не зная языка, не имея знакомых. Сначала Франция открывается ему в своей искаженной личине: Париж является ему в виде «рынка на площади», в котором музыка, литература, наука, политика служат предметом купли-продажи, удовлетворения личных интересов, средством препровождения ничем не занятого времени. Кристоф чувствует, что позади этой искаженной личины где-то живет и творит подлинная Франция, но все его попытки найти к ней доступ остаются долгое время тщетными. Постепенно он пробивает себе, однако, путь в парижском обществе, приобретает некоторую известность и выходит из состояния стоически переносившейся им крайней нужды. Встреча и дальнейшая дружба с молодым французским поэтом, Оливье Жаннен, братом девушки, с которой Кристоф еще в Германии имел одну из тех внешне мимолетных, но внутренне значительных встреч, которые запечатлеваются на всю жизнь, открывает ему, наконец, столь жадно им искомую идеальную Францию. Она является ему в том доме, в котором он поселяется со своим другом, в лице скромного ученого, инженера, учителя и его жены, рабочего, — невидная, тихая, бесшумная, по подлинная Франция, Франция глубокого чувства, бескорыстного творчества и латинской ясности духа. Роллан показывает, как новые мотивы ясной латинской формы впитываются личностью Кристофа, сочетаются с его тевтонской «самобытностью», и как недавний еще нигилист-мятежник примиряется с миром, с историей, с традицией. Это — период расцвета творчества Кристофа, создающего совершенные и заслуживающие общее признание образцы искусства. Но прежний революционный Дух не угас в Кристофе, он только углубился и расширился, из простого отрицания вырос в искание нового уклада жизни. В поисках этого нового Кристоф вместе с Оливье входят в соприкосновение с революционным рабочим движением, неудачная и быстро подавленная вспышка которого стоит жизни Оливье и заставляет Кристофа бежать из Франции. В Швейцарии, где в доме своего приятеля и почитателя нашел убежище Кристоф, он переживает вновь острый душевный кризис: мир открывается ему в своей хаотической и бессмысленной бесформенности, и его охватывает самого чисто стихийная, сжигающая душу, страсть. Но душа его, как неопалимая купина, противостоит пожирающему пламени стихии, и в ясной вечерней любви-дружбе к итальянской синьоре, которую он девочкой еще знал в первые годы своего пребывания в Париже, он находит покой и благодать безмятежной мудрости. Это последнее странствие Кристофа протекает на фоне итальянской культуры, отчетливая и классическая ясность которой отражает в себе четкость всегда завершенного в своих спокойных контурах тосканского ландшафта. Годы странствий Кристофа кончаются. Теперь, когда новое поколение направляет острие своего мятежа уже против него как общепризнанного мастера в искусстве, он оглядывается на весь пройденный им путь борьбы и творчества и, возвышаясь над сменой поколений, провидит очертания наступающего нового дня, который явится исполнением его собственного творчества. Так исполняется в полной мере жизненный путь Кристофа: перед тем, как завершить свое земное поприще, он, впитавший в себя все достояние современного человечества и творчество предков, вступает в общение с грядущим человечеством10.
Мы остановились так подробно на «образовательном романе» потому, что он лучше всяких трактатов но педагогике выясняет существо основной проблемы внешкольного образования — проблемы странствия человеческой личности в ее бесконечном пути к собственному самоопределению. Мы знаем уже причины молчания педагогики в интересующем нас вопросе. Если педагогическая теория на высшей ступени нравственного образования по необходимости переходит в этику, поскольку речь идет об отвлеченных принципах образования, и в политику, поскольку речь идет о конкретных условиях осуществления, то на долю самой педагогики только и остается, очевидно, изложение конкретного нуги развития определенной человеческой личности. Раз в самом понятии правила, которому д о л ж н о с л е д о в а т ь, чтобы достичь внутреннего самоопределения, заключается противоречие, то для конкретного изложения остается только повествование о том, как та или иная личность ф а к т и ч е с к и достигла самоопределения. Но это и возможно сделать лишь в виде биографии, автобиографии или в художественной форме образовательного романа.
4
Образование человека есть путешествие — этому учит нас «образовательный роман». Это есть путешествие в стране духа, в мире человеческой культуры, в течение которого деятельность человека приобретает все более характер творческого призвания, а круг его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не только все нынешнее поколение в его настоящей творческой борьбе, но и прошлое и даже будущее человечество, как это мы видели на примере Жана-Кристофа. Общение с прошлым и общение с настоящим человечеством есть, таким образом, естественное условие образовательного странствия. Мимолетный разговор, случайная встреча, прочитанная книга, прослушанный концерт или лекция, театральное представление — все может стать значительным и глубоким событием в этом странствии человеческого духа. Поэтому дать сколько-нибудь полную теорию средств самообразования невозможно. Однако на некоторых из них, развившихся к нашему времени в обширные самостоятельные учреждения, следует остановиться подробнее. Таковыми в особенной степени являются в настоящее время библиотеки, музеи, высшие учебные заведения, журналы, выставки, лекции и доклады в научных и профессиональных обществах — эти духовные пути сообщения, облегчающие современному человеку его образовательное странствие. Из них библиотека и музей, будучи хранилищами того, что человеческий дух отложил в виде прочных кристаллов в процессе своей творческой деятельности11, являются но преимуществу средствами общения с прошлым и настоящим, поскольку оно уже отстоялось в застывших и законченных формах Напротив, журнал, доклады и лекции, отражая непрерывную текучесть творческого процесса, являются преимущественно средствами общения с настоящим в его порождающей все новые формы подвижности. Замечательно, что, за исключением высших учебных заведений, все эти установления не имели при своем возникновении образовательной цели. Библиотека и музей возникли из собраний книг и редкостных вещей при королевских и княжеских дворах. Журналы, научные и профессиональные общества — из естественной для всякой научной и практической деятельности потребности высказывания, общения и объединения интересов. С другой стороны, университеты и высшие технические школы, бывшие при своем возникновении но преимуществу учебными заведениями, все более и более приобрели характер очагов чистого и технического научного знания, имеющих самостоятельное научно-исследовательское значение и помимо своей первоначальной педагогической функции. Если последние, однако, никогда не утрачивали, а, напротив, все более развивали и совершенствовали свою образовательную деятельность, то библиотека и музей, особенно после Французской Революции, определенно приобретали все большее и большее образовательное значение, и притом именно в своей возрастающей роли духовных путей сообщения. Это значение их усиливалось но мере того, как они становились все более общедоступными, и существенная сторона развития современной библиотеки и музея, также как и современного университета, определяется именно этим неуклонно идущим вперед процессом раскрытия находившихся раньше под спудом духовных богатств, приближения накопленных и накапливаемых в библиотеках, музеях и очагах научного знания культурных благ к читателю, зрителю и слушателю.
Если мы остановимся сначала па библиотеке (а все сказанное о библиотеке может быть применено и к музею), то мы увидим, что развитие ее совершалось в двух направлениях. С одной стороны, она развивалась как книгохранилище. Первоначально случайная но своему составу, она все более и более ставит себе целью систематическую полноту книжного фонда. Так как более или менее абсолютная полнота доступна лишь немногим центральным государственным библиотекам (и то только в отношении литературы данного государства), то задача библиотекаря публичных и академических библиотек состоит в том, чтобы не потеряться во все увеличивающемся книжном потоке, а умелым выбором значительного и характерного собрать в библиотеке все то, что бы делало ее действительным отражением человеческой культуры. Необходимые для этот проницательность и особое чутье значительного и характерного получают свое подспорье в чрезвычайно развившейся в настоящее время библиографической технике. Невозможность обнять все приводит к тому, что, за исключением немногих центральных библиотек, намечается специализация отдельных библиотек: отказавшись от абсолютной полноты, библиотека стремится достичь систематической полноты но крайней мере некоторых определенных отделов. Другая сторона развития современной библиотеки — это постоянный и неуклонно идущий вперед процесс приближения ее книжного фонда к читателю. Так увеличивается время функционирования библиотеки, отменяются обычные ранее ограничения и требовавшиеся ранее гарантии при выдаче книг на дом, ускоряется процесс выдачи требуемой книги. Этой же цели служат достигшие ныне высшей степени наглядности систематические и алфавитные каталоги, ранее или совершенно отсутствовавшие или бывшие недоступными публике. Наиболее ходкие книги и справочные издания устанавливаются в особой комнате, открытой для посетителей, которым предоставляется возможность пользоваться ими самостоятельно, без отнимающих столько времени предварительного требования и контрольной записи. Учреждается обмен между отдельными библиотеками и центральное бюро, дающее читателю справки о местонахождении требуемой редкой книги. А главное — меняется самая психология библиотекаря: классический тип старого библиотека как custos'a, т. е. простого сторожа вверенных ему книжных богатств, смотрящего на читателя как на своего личного врага, становится все более и более анахронизмом. Хорошим тоном библиотечной работы становится предупредительное отношение и посильное удовлетворение всех требования читателей, особенно новичков, без вхождения в рассмотрение вопроса о важности и даже основательности требования. Этим процессом приближения книги к читателю обусловливается и вся материальная сторона библиотечного дела — развитие техники хранения, выдачи, инвентаризации и каталогизации книг, чрезвычайно усложнившейся в настоящее время, превратившейся почти что в особую техническую науку. Развитие современной библиотеки можно уподобить развитию железной дороги, непрерывно увеличивающей свою пропускную способность и скорость движения, все точнее согласующей свое расписание с расписанием соседних путей сообщения и все более упрощающей условия пользования ею со стороны пассажиров.
Аналогичную сторону развития нетрудно подметить также в эволюции современных университетов и высших технических школ. Уже как высшее учебное заведение университет существенно отличается от школы. Цель высшего научного образования — усвоение метода научного исследования — может быть достигнута только при условии самой широкой свободы учения. Свобода здесь не только цель, предчувствуемая в дисциплине и ее пронизывающая, но в известной мере фактическое условие образования. В какой мере она необходима для успешности самого научного образования, это мы увидим подробно ниже12. Сейчас нас интересует только нравственная сторона вопроса. Пора университета совпадает с начальными годами странствия: это время, когда человек начинает определять себя сам и находить свое индивидуальное место в мире. Уже поэтому университетское образование должно быть основано на самодисциплине и самообразовании в подлинном смысле слова. Организация университета и должна соответствовать этому требованию свободы: выбор университета, факультета, учебного плана, учителя должен по возможности быть предоставлен самому учащемуся. Ему должна быть предоставлена возможность легкого перехода с одного факультета на другой и из университета в университет. Одним словом, университет должен всячески облегчить человеку его годы странствия и осуществить для этого в себе ту подвижность, текучесть и гибкость, которые отличают современные пути сообщения и составляют вместе с тем и жизнь самой науки. «Свобода учения» в этом смысле есть прежде всего и по преимуществу свобода духовного передвижения. Из известных нам типов университетской организации германский университет наиболее полно осуществляет в себе свободу учения в указанном нами смысле. Постольку он менее всего есть воспитательное учебное заведение, каковыми до самого последнего времени еще являлись старинные английские университеты. Это есть прежде всего хранилище научного предания и очаг исследования, в совершенстве приспособленный к тому, чтобы, подобно современной библиотеке, быть орудием собственной образовательной работы учащегося. Это есть не школа в установленном нами выше смысле слова, а «путь духовного сообщения». И потому не в правильности, с которой выполняется определенный учебный план, не в аккуратном посещении лекций учащимися, не в хороших результатах испытаний, даже не в педагогическом таланте своих преподавателей, а в обилии средств, предоставляемых им для научной работы, в богатстве представленных в нем научных направлений, в наличии в его среде выдающихся представителей науки и в отзывчивости на новые течения научной мысли, — полагает он свое честолюбие.
Но потому также значение университета выходит далеко за пределы его роли как высшего учебного заведения, в котором человек проводит некоторое ограниченное число лет своей жизни. Школу возможно кончить. Окончивший ее никогда не вернется в нее вновь учеником. Университет невозможно кончить, как невозможно исчерпать науку, очагом которой он является. Чем успешнее пройден университетский курс, т. е. чем более приобщился человек научной мысли, тем большая у него потребность возвращаться от поры до времени в университет, чтобы, погрузившись в атмосферу шагнувшей за это время вперед науки, обновлять ею опыт своей практической деятельности. В этом отношении развитие университета как хранилища научной мысли в ее живом, расплавленном состоянии совершенно аналогично развитию библиотеки: из замкнутого учебного заведения он становится все более общедоступным «путем духовного сообщения». На этом именно основан институт вольнослушателей, опять-таки широко распространенный в германских университетах и высших технических школах. Сюда же относятся все более и более входящие в обычай постоянные специальные университетские курсы для учителей, врачей, юристов, инженеров, имеющие своею целью не повторение забытого пройденного, но духовное общение людей практической деятельности с новейшими достижениями в их области. Только при наличии такого общения профессия может сохранить свое достоинство призвания, и правильная политика всякого работодателя (государства, земства, города и частного предприятия) должна бы поэтому состоять в предоставлении своим служащим периодических длительных отпусков с образовательной целью.
Аналогичную функцию выполняет в современной культурной жизни и журнал. Ни книга, ни лекции, ни выставка или концерт не могут заменить журнала, отражающего движение мысли в соответствующей области теории и практики во всем многообразии борющихся здесь направлений и в самом процессе их только начинающейся еще кристаллизации. Большое место, которое в современном журнале отводится библиографии и хронике, только еще резче подчеркивает основную ею задачу — примечать всякое новое явление в мире соответствующей ему профессии и специальности, дабы всякий работник в ней мог чувствовать себя находящимся в непрерывном общении с собратьями по призванию и, через это постоянно расширяющееся общение, улавливать основное творческое устремление своего поколения. Но для этого журнал, как бы ни был он специален, должен не замыкаться в тесном кругу своей специальности, но, исходя из специальных вопросов разрабатываемой им области, освещать и родственные течения мысли в смежных областях науки и культуры. Правильно ведомый журнал не только незаменим для опытного путешественника в стране духа, он есть одно из наилучших средств самообразования и для новичка, лишь приступающего к странствию: ибо ничто не может лучше ввести в соответствующую область пауки или искусства, теории или практики, как ознакомление с волнующими ее ныне вопросами, как зрелище еще только кристаллизующейся, не успевшей еще вполне остыть лавы творчества13.
5
Говоря выше о читателе, зрителе и слушателе, мы имели в виду человека, прошедшего предварительную ступень школы и университета и достаточно подготовленного к тому, чтобы самостоятельно пользоваться предоставляемыми ему современной культурой хранилищами предания и очагами творчества. Как быть с теми, кто не имеет соответствующей подготовки и даже соответствующих запросов и, по условиям своей жизни, не в состоянии пользоваться духовными путями сообщения, перечисленными нами выше? Вопрос этот подводит нас к тому, что обыкновенно называется внешкольным образованием народа.
Первоначальный, ныне (к сожалению только в теории, а не на практике) уже оставленный взгляд заключался в том, что внешкольное образование народа признавалось чем-то несамостоятельным: оно понималось как суррогат школы, и задачей его почиталось сообщение народу тех сведений, которые он не получил в школе или в университете, а так как сведения эти нельзя было сообщать систематически и полно, то их надо было преподносить народу в отрывочном виде и в особой популярной форме изложения. Ложность этого взгляда, ясная для нас из всего предыдущего изложения, опровергается уже тем фактом, что внешкольное образование более всего развито именно там, где широко и правильно поставлено образование школьное, не только не делающее ненужным внешкольное образование, но, напротив, вызывающее в нем особенную потребность. А между тем этим взглядом определялись все детали внешкольной образовательной работы. Не перебирая здесь всех ее форм, мы остановимся только на главных двух: библиотеках и народных университетах.
Народный библиотекарь — первоначально учитель, естественно применяющий к библиотечному делу приемы школьной работы. Свою задачу такой библиотекарь-учитель усматривал в руководстве чтением читателей. Последнее сказывалось не только в подборе инвентаря библиотеки, но и в навязывании отдельным читателям полезных, по мнению библиотекаря, книг. В основе этого старого направления лежал, как видно, взгляд на общее образование, как на определенную, одинаковую для всех сумму впечатлений и сведений, заключенную в определенной же совокупности «хороших» книг. Сюда присоединялась еще оптимистическая вера в народ, в его восприимчивость к «хорошей» книге, в то, что он сам хочет приобщиться к ценностям художественной и научной литературы и ждет только соответствующих указаний. Это народническое направление вызвало к жизни особый тип -хорошей народной книги».
долженствующей в извлечении или в особом популярном изложении дать народу самое ценное, что имеется в различных течениях и родах мировой литературы, и особый тип соответствующих библиографических указателей, составители которых старались руководствоваться исключительно критериями доступности и объективной ценности книги, независимо от ее партийной окраски и направления (таков, например, по идее своей справочник Рубакина «Среди книг»). Считалось, что сам читатель, ознакомившись по наилучшим образцам с различными направлениями мысли, самостоятельно вырабатывает себе мировоззрение. При этом даже те, кто отрицал возможность такой сверхпартийности и отвлеченному народничеству противопоставлял определенное политически окрашенное мировоззрение, продолжали стоять на точке зрения активного руководства и учительства. Только вместо отвлеченно «хорошей» книги такой библиотекарь навязывал читателю книгу своего направления. Практически и тот и другой следовали готовым указателям народной литературы, основной же инвентарь библиотеки приобретался готовым в специальных книжных складах, составлявших по одному и тому же трафарету библиотеки различной стоимости.
Оптимистических народников ждало однако горькое разочарование. Оказалось, что широкие массы очень мало восприимчивы к истинным ценностям народной и мировой литературы и «хорошей» книге предпочитают потакающий низшим вкусам толпы лубок. Большие массы читателей не находили в библиотеках того, чего искали, и удовлетворяли свои потребности в чтении на стороне. Несмотря на все усилия, библиотеке не удавалось привлечь читателей. Так возникло новое направление в библиотечном деле, взявшее за образец массовый способ работы американских библиотек, которые, отказавшись от руководства читательской массой и поставивши своей целью удовлетворение ее требований, каковы бы они ни были, поражали своим успехом, проявлявшимся в грандиозных статистических цифрах. С точки зрения этого направления библиотекарь должен воздерживаться от каких бы то ни было советов читателям, а в выборе книг должен руководствоваться исключительно их неудовлетворенными требованиями. Патриархальной опеке над читателем это направление противопоставляет требование полной пассивности библиотекаря, долженствующего быть только механическим посредником между читателем и книгой, а отвлеченному народничеству — трезвый реализм, основанный на изучении массовой психологии. Представленное и в России целым рядом выдающихся работников, это направление получило свое обоснование в трудах немецкого библиотекаря Ладевига. Для Ладевига народная библиотека не вправе отказываться ни от одного читателя. Она должна служить всем сознательным слоям в одинаковой мере и поэтому обязана приготовить духовную пищу на все вкусы. Книги — это товары, которые подлежат законам свободного передвижения; библиотекарь исполняет роль скромного, честного и добросовестного маклера. Народу следует предлагать то, что от народа и ближе всего к нему. Высокие произведения классического искусства и современная утонченная литература чужды народу и не могут привлечь его в читальню. У народа есть своя «романтическая потребность», как это выяснил в своих исследованиях массовой психологии Зульц, в пространственно, временно и обстоятельственно далеком, в приключениях и сенсации. Библиотека должна удовлетворить этой потребности.
Оба эти взгляда нам представляются равно неправильными в своей односторонности. Если активное руководство чтением, противореча идее самообразования, неспособно привлечь читателя в библиотеку и приучить его к самостоятельному чтению, то и чисто пассивное ограничение роли библиотекаря простой техникой игнорирует значение народной библиотеки как подъездного духовного пути сообщения. Даже задача библиотекаря публичной и академической библиотеки, как мы видели, не сводится к одной только технике: усовершенствование каталогизации, ускорение выдачи и оборота книги — вся эта техника приближения книгохранилища к читателю имеет значение лишь в том случае, если выполняется основная задача библиотеки как книгохранилища, сосредоточивающего в себе все значительные произведения литературы соответствующих отделов. Задача библиотекаря народной библиотеки — дать в руки читателю то, что ему нужно для совершения им его образовательного странствия. А для этого ему необходимо знать духовные запросы читателей, вытекающие из их повседневных занятий. Ему нужно знать духовное местонахождение читателей, от которого только и может отправляться их страннический путь: иначе, вместо орудия образующего личность странствия, библиотека будет лишь средством развлекающей человека экскурсии. Чтение не захватит читателя как необходимое дело его жизни, а будет для него только развлечением и отдыхом от работы. Отсюда необходимость для библиотекаря изучения духовных интересов и культурных запросов актуальных и потенциальных читателей своей библиотеки, которое и отстаивается ныне новейшим и самым плодотворным направлением в библиотечном деле, синтетически сочетающем прежний педагогизм с последующим реализмом. Это направление, представленное в России Д. А. Балика, а в Германии В. Гофманом, критически относится к успеху массовой работы, проявляющемуся в голых статистических цифрах. В погоне за количественным успехом «народные библиотеки воспитывают людей к безвкусному и бессмысленному чтению. В готовых статистиках хвастают числом выданных книг, и это оглупение народа называют прогрессом в образовании»14. Библиотекарь должен быть не просто посредником, но и педагогом, хотя и не учителем в собственном смысле слова, навязывающим читателям свои взгляды и вкусы. Работа библиотекаря есть педагогическая работа sui generis, требующая особой подготовки, не исчерпываемой тем, что обыкновенно называется «общим образованием». Вся техника библиотечного дела должна удовлетворять основным требованиям преобладания качества над количеством и содействия активности со стороны читателя. Отсюда все особенности новой техники: возможное упрощение чисто технической работы с переносом центра тяжести на выдачу; «индивидуализированная выдача», считающаяся с потребностями и запросами именно данного читателя; служащие этой цели формуляры книг и читателей; карточный каталог наличных книг, до крайности упрощающий чисто техническую работу библиотекаря, расставленный по особой предметной системе и снабженный характеристиками каждой книги; специально приспособленные к потребностям и интересам различных категорий читателей предметные каталоги; организация специального библиотечного бюро внутри каждой библиотеки и кабинета для изучения «психологии» (т. е. особенностей духовного содержания) читателей, в связи с этим особый метод статистики, указывающей не только количество, но и качество работы библиотеки и т. п. Так понятая библиотека объединяет своих читателей в общей им всем активной работе над своим образованием и становится средоточием разнообразных читательских кружков и обществ, которые при благоприятных условиях могут положить начало постоянным курсам и лекциям. Понятно, что при составлении первоначального инвентаря библиотеки и при се пополнении библиотекарь уже не может следовать готовым трафаретам. Отсюда необходимость приспособления библиотеки к местному населению, ограничение ее сравнительно небольшим кругом читателей, общий характер художественно-ремесленного, а не машинно-массового производства. Отсюда также требование децентрализации и общественной самодеятельности: правильная организация библиотечного дела требует, чтобы оно находилось в руках самого населения, которое библиотека призвана обслуживать, т. е. в руках общественных объединений, профессиональных союзов и сельских кооперативов.
Назойливое поучение, с одной стороны, и пассивное развлечение, с другой, являются таким образом теми обеими крайностями, в которые вырождается работа народного библиотекаря, подлинная задача которого заключается в том, чтобы помочь личности человека в ее образовательном странствии, предоставив ей нужные к тому средства духовного сообщения. Найти доступ к личности человека — это есть основная проблема и других видов внешкольного образования, игнорирование которой приводит и в них к сходным результатам. Что в громадном большинстве случаев цель эта достигается через посредство профессии человека, умело облагораживаемой до призвания, — это показывает уже известная нам эволюция дополнительных школ, представляющих собою как бы переходную форму между школьным и внешкольным образованием. «Профессиональное расчленение» (bcrufliche Gliederung) этих школ, составляющее сущность реформы их Кершенштейнером, имеет именно своей целью подвести материал образования к духовному центру учащегося. Из простого орудия поучения дополнительная школа становится средством странствия в нашем смысле слова, «духовным путем сообщения». Она открывает лицу, даже не прошедшему ступени школы в полном ее объеме, возможность самообразования и самосовершенствования в подлинном смысле слова, ибо она подводит духовные нуги сообщения к духовному местонахождению данного лица — к его повседневной работе и к окружающей его повседневной среде, т. е. к отправному пункту его духовного странствия. Следуя отсюда но путям, предоставляемым ему дополнительной школой, учащийся углубляет свою профессию до призвания и расширяет свой круг культурного общения, т. е. растет как личность.
Если дополнительные школы и школы для взрослых легко вырождаются в снисходительное поучение сверху, то народные чтения, напротив, стоят перед опасностью вырождения в простую занимательную экскурсию. Можно, например, очень живо и картинно, с помощью волшебного фонаря и даже кинематографа рассказать крестьянам Томского уезда про открытие Эрстедтом и Ампером электрического тока или про фауну и флору Южной Америки. Заняв слушателей на один час, такой рассказ не подвинет их ни на шаг вперед в их знании физики и ботаники. Но покажите им практическое использование электрического тока в целях освещения или в целях приведения в движение мельницы или молотилки, расскажите им о насекомых-вредителях и о борьбе с ними, — и отвлеченные понятия ампера и вольта, борьбы за существование и органической клетки станут им понятными и близкими, введут их в основные вопросы теории электричества и биологии. Если в первом случае мы имеем нечто вроде занимательной экскурсии с чисто пассивным отношением туриста к тому, что он видит но пути, то во втором случае мы имеем образовательное путешествие, в котором свое уясняется через противопоставление его чужому, в результате чего выдвигаются новые задачи для действия и ставятся новые вопросы, ищущие своего разрешения. Помочь разрешить эти вопросы и указать средства, необходимые для одоления выдвинутых новых задач действия, — в этом и состоит цель народных чтений.
В еще большей степени то же самое применимо и к систематической образовательной работе в так называемых «народных университетах». Что университет не должен замыкаться в своей роли высшего учебного заведения, но должен распространять свет научного знания далеко за пределы сравнительно ограниченного круга учащейся молодежи, — это вытекает, как мы видели, из самого существа университета как очага научного знания и исследования. Эта же мысль, сопровождаемая сознанием нравственного долга ученого но отношению к народу поделиться с последним знаниями, добытыми благодаря народному труду, легла в основу Движения «популяризации университетских знаний» (University bxicnsion), которое, зародившись в Англии в восьмидесятых годах прошлого столетия, получило в наше время широкое распространение не только в Англии, но и на континенте (особенно в Берлине, Мюнхене и Вене), в Америке и у нас в России (народный университет Шанявского в Москве, имени Лутугина в Петрограде и др.). История этого движения показывает однако, что и в данном случае простого поучения сверху недостаточно. Там, где «народные университеты» ограничивались популяризацией науки, они наталкивались на индифферентизм масс, пробить который оказывался бессильным даже пламенный энтузиазм инициаторов дела. Истинная популяризация предполагает слияние с духовными запросами человека, вытекающими из его повседневной деятельности. «Народный университет» должен быть поэтому чувствилищем духовных запросов местного населения, откликающимся на малейшие колебания его интересов. А для этого он должен стоять возможно ближе к местным общественным союзам, представители которых должны бы входить в заведывающий им орган. Что простая популяризация знаний и здесь не решает вопроса, — это подтверждается историей нашего московского университета имени А. Шанявского, из популярного двойника университетских курсов все более и более превращавшегося в сложную совокупность самых разнообразных профессиональных и тем самым в высокой степени общеобразовательных курсов. Это показывает и история английского движения «University Extension»: чисто лекционная система все больше и больше вытесняется здесь работой в так называемых «сеттлементах». Прежняя массовая работа популярного лектора как бы разбивается здесь па работу сравнительно небольших, но постоянно действующих кружков самих учащихся, происходящую под руководством лиц, специально посвящающих себя этой работе и хорошо знающих духовные запросы посетителей «сеттлемента». И здесь, таким образом, проникаясь принципом «профессионального расчленения», массовое производство уступает место более тесной, но зато и более интенсивной образовательной работе.
Так вырисовывается новый тип «высшей народной школы», образцом которой являются датские школы, основанные в половине прошлого столетия известным датским педагогом-реформатором Г р у н д т в и г о м. По мысли Грундтвига задача высшего народного образования может быть разрешена лишь тогда, когда образование найдет себе доступ к личности образовываемого, т. е. из предмета пассивного восприятия станет предметом действия ищущего себя самого человека. Поэтому высшая народная школа должна быть, с одной стороны, связана с практической жизнью населения, с его профессиональными интересами и запросами, а с другой — должна поставить себе целью уяснение учащимися их индивидуального места в совокупности всего народного творчества и всего человечества в целом. Отсюда преобладание в датской высшей народной школе исторических предметов, преподавание даже физики и математики историческим способом, имеющее целью постижение учащимися тех культурных задач, которые вырастают пред настоящим поколением из прошлого народной жизни. Отсюда также — возможен «личный» способ преподавания, имеющий целью переживание учащимися изучаемого ими материала и превращающий высшую народную школу в совокупность кружков самих учащихся, хорошо известных лектору в их духовном местонахождении. В этом же направлении развивается и современное движение высших народных школ в Германии, где оно прошло две стадии, аналогичные тем, которые были пройдены и библиотечным делом. Если восьмидесятые — девяностые годы прошли под знаком отвлеченного народничества, стремившегося дать народным массам популяризированную университетскую науку, то начало XX века было эпохой разочарования в активном желании народных масс к самообразованию. Эта вторая стадия характеризовалась стремлением давать пароду то, «чего он сам хочет», и нисхождением до вкусов широких народных масс, охотно посещавших кинематограф, световые картины и концерты (аналогично «количественным методам» американских библиотечных деятелей). В настоящее время — под несомненным влиянием английских settlemcnt'oв и датских народных школ — движение это переживает в Германии третью стадию, стадию кропотливой работы в небольших центрах, тесно примыкающей к просветительной работе местных профессиональных организаций и ставящей задачей своей «развитие культурного сознания через воспитание внутренней свободы личности учащегося»15. Перед лицом этой основной образовательной задачи спор между защитниками профессии, как исходного пункта свободного самообразования (течение Кершенштейнера), и приверженцами датской высшей народной школы Грундтвига, полагающей в основу самообразовательной работы учащихся осознание современного исторического момента, представляется уже второстепенным.
6
Организация средств внешкольного образования, или, в нашей терминологии, образовательного странствия, подводит нас к вопросу об общественных, в частности профессиональных союзах, как орудии самообразования. Их образовательное значение отнюдь не исчерпывается тем, что они представляют собой наиболее подходящие органы для заведывания внешкольными учреждениями. Профессиональные союзы сами по себе как органы общения, являются могучим средством самообразования. Охватывая собою лиц одной и той же профессии, профессиональные объединения предоставляют тем самым возможность взаимного обмена результатами и достижениями своего труда. Наблюдение над приемами труда и достижениями другого в своей же области невольно вызывает на размышления над собственным способом работы, заставляет осознать его недостатки и особенности, подвести итоги достигнутому, не дозволяет застыть на месте, побуждает к непрерывному дальнейшему совершенствованию. Эта сторона профессиональных объединений пока еще в тени. Более резко она выделяется в настоящее время лишь в союзах, объединяющих лиц так называемых интеллигентных профессий и то не столько в повседневной жизни этих союзов, сколько на их съездах (учительские съезды, съезды врачей, инженеров). Чем более, однако, упрочивается подобный союз в своей экономической и правовой жизни, тем более интересы самого дела, работа над которым объединяет членов его в одно целое, выступают на первый план но сравнению с уже не требующими постоянной защиты и борьбы экономическими и правовыми интересами отдельных его членов. Это особенно ярко видно на примере учительского союза в Швейцарии. Так не только годовые собрания этого союза, но и месячные собрания местных его отделов посвящаются зачтению и обсуждению теоретических и практических докладов по педагогике. На этих собраниях отдельные члены союза излагают результаты своей работы, делятся с товарищами своими предположениями и опытами, знакомятся с новыми течениями в педагогической литературе и практике. Учительский союз является таким образом очагом педагогической мысли. К настоящему времени авторитет его в стране настолько возрос, что не будет преувеличением, если мы скажем, что ныне почти все законодательные предположения в области народного образования в Швейцарии возникают в недрах союза, и уж во всяком случае только те имеют шансы стать законом, которые получили его одобрение. Про швейцарский учительский союз можно, таким образом, сказать, что он фактически стал как бы второй палатой по вопросам народного образования.
То, что для союзов так называемых интеллигентных работников есть на Западе уже в значительной степени достигнутое настоящее, для прочих профессиональных объединений является еще только предметом достижения и как бы заданием будущего. Профессиональные союзы первоначально — чисто боевые организации, имеющие своей целью борьбу за лучшие экономические и правовые условия существования своих членов. Борьба эта направлена по преимуществу против работодателя, который будучи собственником орудий производства, навязывает первоначально разрозненным рабочим условия труда, фактически мало чем отличающиеся от кабальной зависимости и закрывающие отдельному рабочему перспективу какого бы то ни было нравственного подъема. Но по мере того, как профессиональные союзы достигают своей непосредственной цели, задачи их естественно расширяются. Собственность па орудия производства, все более и более опутываемая законодательством развивающегося правового государства, лишается постепенно своего эксплуататорского характера. Присущее ей первоначально жало насилия притупляется, и медленно, но неуклонно из орудия насилия она превращается в то, чем ей надлежит быть — в поприще чисто хозяйственной деятельности. Чисто хозяйственный интерес к собственности как к орудию производства, оттеснявшийся у собственника-работодателя эксплуататорским к ней интересом и слишком часто даже совершенно заглушавшийся этим последним, тем самым становится преобладающим. В качестве завершения этого процесса можно мыслить уже теперь такой правовой строй (его можно было бы назвать строем «правового социализма»), когда у собственности, введенной в свои пределы гранями закона, будет вынуто искажавшее ее ранее жало насилия, и из орудия производства, служившего одновременно и орудием насилия, она превратится в чистое орудие производства, служащее исключительно хозяйственной цели повышения народного богатства. Естественной оборотной стороной этого процесса является постепенно идущее вперед перераспределение собственности: собственниками-работодателями останутся, очевидно, лишь те коллективные (государство, город, земство, кооператив и т. п.) и те «единичные» лица, которые, преследуя чисто хозяйственный задачи, сохранят интерес к собственности и после того, как силою закона у пей будет вынуто эксплуататорское жало, и она уже не сможет служить орудием насилия над другими лицами. Но одновременно также естественной оборотной стороной этого процесса является и расширение задач профессиональных союзов. По мере того, как под давлением именно профессиональных союзов собственность из орудия насилия становится орудием чисто хозяйственных целей, и профессиональные союзы, направленные первоначально против эксплуататорских тенденций собственности, проникаются чисто хозяйственными задачами, т. е. интересами соответствующего производства. Из простых орудий так называемой классовой борьбы, преследующих интересы отдельных своих членов, они все более превращаются в коллективных лиц, блюдущих чисто хозяйственный интерес соответствующей отрасли производства. Таким образом, объединение на почве защиты одинаковых интересов отдельных лиц во все большей степени превращается в объединение на почве общего дела, которому эти лица служат, как мы это имеем теперь в союзах интеллигентных работников вроде охарактеризованного нами выше учительского союза. И самый союз из простого объединения отдельных лиц тем самым все более и более спаивается в самостоятельное целое, в своеобразную коллективную личность как носительницу этого во все более чистом виде выступающего хозяйственного интереса. Оборотной стороной этого процесса является замечаемое уже и теперь приобретение профессиональными союзами все большего авторитета в государственной жизни. Расширение задач профессиональных союзов, включающее в себя активную работу по созданию всех тех средств самообразования, о которых мы говорили выше (дополнительных школ, курсов, библиотек, музеев, журналов), важно не только с педагогической стороны; повышая авторитет профессиональных союзов в глазах общества и государства, оно придает им и большую мощь в отстаивании ими их непосредственных задач по охране прав отдельных их членов. Ибо и к коллективной личности общественного союза применимо то, что ранее было нами сказано о личности отдельного человека: ее внутренняя свобода и мощь проистекают от тех сверхличных целей (в данном случае целей хозяйства и духовной культуры), временной носительницей которых она является. В культивировании отмеченной стороны деятельности профессиональных союзов и других общественных объединений должны таким образом соединиться как работники в области народного образования, так и практические политики. На образовательную работу внутри общественных объединений, а не на устройство полезных развлечений и народных клубов должны в первую очередь обратить свое внимание деятели внешкольного образования. Не оспаривая того, что и последние имеют свою (впрочем, очень преувеличенную) пользу, мы хотели бы еще липший раз подчеркнуть, что и здесь — в свободном общении людей между собой — подлинно образовательное значение имеет не то общение, которое происходит на почве общего отдыха и развлечения (как в клубах), но то, которое имеет место на почве общего дела, ибо только такое общение способно вывести личность за пределы самой себя и тем самым дать ей толчок к образовательному странствию.
Образовательный интерес отдельной личности совпадает таким образом с развитой и интенсивной общественностью. А это значит, что общественность не только не противоречит личной свободе, но служит ее необходимым условием и дополнением. Личная свобода, т. е. победа над своим инстинктивным, внешним Я, возможна лишь через устремление к сверхличной цели. Но последнее делает возможным и даже необходимым общение индивидуальностей Поэтому свобода, как задание жизни, как предмет нашего должного действия, объединяет людей. В противоречии с общественностью свобода оказывается лишь там, где, лишенная присущего ей момента задания, она вырождается в объект голого наслаждения и своекорыстного обладания. Такая личина свободы действительно разъединяет людей, но она разъединяет и самого человека, утрачивающего свою внутреннюю целостность. Истинная свобода, сообщая отдельному человеку единство действия, делая его единой личностью (индивидуальностью), вместе с тем объединяет и отдельных людей в коллективную личность общественного союза, а в пределе — в соборную личность единого человечества. Будучи началом единения в отдельном и малом, она оказывается тем самым принципом единения и в великом и целом16
Литература вопроса. 1. О б о б щ и х в о п р о с а х т е о р и и в н е ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я срв. Н а т о р п. Социальная педагогика, особ. §§ 22—28; Культура народа и культура личности. — Спб., 1912.
2. О п е д а г о г и к е П л а т о н а: В и н д е л ь б а и д, Платон. М. Рубинштейн. Платон-учитель. — Иркутск, 1920. Р. NаIоrр, Plaios Siaai und die Idee der Sozialpadagogik.
3. О б р а з ц ы о б р а з о в а т е л ь н о г о р о м а н а: Г е т е. Страннические годы Вильгельма Мейстера (русский пер. П. Вейнберга). G o i i f r i e d K e l l e r, Der grune Heinrich (к сожалению нет русского перевода). Romain Rolland, Yean Christof (есть русский пер.). — О б р а з ц ы к л а с с и ч е с к и х а в т о б и о г р а ф и й: Г е т е. Wahrheii und Dichtung (русск, пер. Вейнберга), М и л л ь Дж. Ст. Автобиография; Г е р ц е н. Былое и думы; П. К р о п о т к и н. Записки революционера; Г. К о р о л е н к о. История моего современника; М. Г о р ь к и й. Детство.
5. О в н е ш к о л ь н о м о б р а з о в а н и и н а р о д а: Н а т о р п. Культура народа и культура личности.
6. О з н а ч е н и и п р о ф е с с. д в и ж е н и я: Н а т о р п. ц. соч. и е г о ж е. Sozialidealismus.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
ГЛАВА VII
- Это есть в сущности понятие «человечества» всего немецкого идеализма.
- Мы переводим этим словом Платоново определение означающее дословно «способность решимости».
- О трех сословиях — Resp. II кн. 375 сл. и IV кн. 428 — 434.
- О добродетелях — Resp. IV книга. Аналогичный взгляд на аскетизм у Вл. Соловьева в «Оправдании Добра».
- Учение о вырождении государства в VIII книге «Госуд.» (545 D сл.) Характеристика тирана — 562 А сл.
- Коммунизм Платона и теория воспитания — 5-я книга «Госуд.»
- Весь наш экскурс в область Платоновой педагогики имеет целью показать, что уже в основе первой системы философской педагогики лежит тот же метод диалектического исследования педагогических вопросов, которым и мы пользуемся в настоящем труде. Несмотря на то, что наше диалектическое истолкование Платонова учения о добродетелях в VIII книги «Государства» дается здесь впервые, нам кажется, что оно наиболее соответствует не только духу Платонова учения, но и его букве. Читатель, знающий Платона, легко заметит, что в тексте мы старались говорить терминами и образами Платона. — В философии Аристотеля диалектические мотивы Платоновой философии продолжают жить в его учении о добродетели и истинной форме правления, как середине между двумя крайностями вырождения, и в его теории Бога, как неподвижного двигателя, к которому в порыве любви тяготеет весь природный мир. Если Аристотель говорит, что «целомудрие и мужество разрушаются от излишка и от недостатка, а через середину сохраняются» (Nic. 1104а), и что все вещи в природе устремляются к Богу как к своему верховному двигателю, то метод его рассуждения — тот же диалектический метод, которым пользуемся и мы, показывая, что игра есть середина между обеими крайностями механического занятия и забавы, и что она с о х р а н я е т себя как таковая лишь постольку, поскольку — через посредствующую стадию урока — она устремляется к творчеству как к бесконечному просвечивающему в ней и оправдывающему ее началу.
- Срв. «Авторскую исповедь» Гоголя.
- Как литературная форма, образовательный роман и явился, как известно, результатом одухотворения фабулы путешествия. Он представляет собой синтез обеих предшествовавших ему форм романа — романа приключений и путешествия (напр. Жиль-Блаз) и психологического романа, изображающего какое-нибудь одно глубокое переживание человеческой души (напр. Страдания Вертера). Синтез состоит в том, что встреча во время путешествия трактуется уже не как простое приключение, а как значительное событие в духовной жизни человека, в силу чего все путешествие приобретает характер духовного странствия, в течение которого совершается внутренний рост личности.
- «Заря», «Отрочество», «Мятеж», «Ярмарка на площади», «В доме», «Неопалимая купина», «Грядущий день» — названия отдельных томов «Жана Кристофа».
- Срв. прекрасное определение библиотеки А. Герценом («Речь на открытии Вятской публичной библиотеки»).
- Срв. главу 12, §§ 2, 4.
- Мы не коснулись в тексте совершенно театра и концертов не потому, чтобы игнорировали их большое значение для образования личности человека (и притом не только для профессионалов-артистов), но потому, что специфические особенности театра, отличающие его от библиотеки и университета, могут быть поняты лишь по уяснении существа театра как художественного учреждения, что составляет одну из задач теории художественного образования. Точно так же, настаивая на духовном смысле понятия «путешествие», мы не отрицаем большого образовательного значения за путешествием в буквальном смысле слова, особенно если оно имеет характер не простой кратковременной экскурсии, а более длительного и серьезного путешествия. С этой точки зрения достойна упоминания деятельность возникшей у нас незадолго до войны комиссии по организации образовательных экскурсий за границу.
- Слова П. Эрнета, приведенные в статье Ю. Я. Эйгер, указ. в литер, вопроса.
- Срв. Ноllmаnn, цит. соч. стр. XII. Здесь дана подробная характеристика Грундтвига и датской высшей народной школы.
- Настаивая на единстве личного и общественного начала, мы не игнорируем того, что в конкретной исторической жизни интерес личной свободы и общественный интерес часто расходятся и даже противоречат друг другу. Если мы говорим, что оба начала гармонируют в идее, то это значит, что, сколь бы ни был острым их временный конфликт, они всегда могут быть приведены к гармонии, если к тому будут приложены усилия доброй воли. Гармония личного и общественного начала есть задание, т. е. предмет должного политического действия. Стремиться к синтезу обоих начал, а не к гегемонии одного из них составляет задачу правильной политики и педагогики. Поэтому мы не столько игнорируем фактическую противоположность личного и общественного начала, сколько отвергаем ту философию, которая, заранее отказываясь от всякого действия, направленного на осуществление их синтеза, — слишком легко готова пожертвовать одним началом в пользу другого и догматический пессимизм которой в сущности прикрывает то, что Кант в свое время называл «ignava ratio» (ленивый разум).









