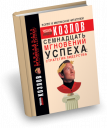Он воспользовался получасом свободного времени, пока "Генри" не разбудили, и спустился вниз посмотреть произведения искусства. Время от времени выглядывал из окон в сад: лужайка по-прежнему пустовала. В доме было так же тихо, как в момент его приезда. Из картин, висевших в длинном зале, только одна была кисти Бресли, но полюбоваться все равно было чем. Пейзаж, как Дэвид и догадался сначала, - это Дерен. Три прекрасных рисунка Пермеке. Энсор и Марке. Ранний Боннар. Характерный нервный набросок карандашом без подписи - конечно, Дюфи. А вот великолепный Явленский (невозможно представить, как он сюда попал), Отто Дике (пробный оттиск гравюры, подписанный автором), а рядом, как бы для сравнения, рисунок Невинсона. Два Метью Смита, один Пикабия, небольшой натюрморт с цветами (должно быть, ранний Матисс, правда, не совсем похож)… но еще больше было картин и рисунков, авторов которых Дэвид назвать не мог. Хотя произведения более крайних школ отсутствовали, в целом искусство начала двадцатого века было представлено здесь хорошо, многие небольшие музеи дорого бы дали за такую коллекцию. Разумеется, Бресли предпочитал довоенное искусство - по-видимому, он всегда располагал для этого средствами. Единственный ребенок в семье, он получил в наследство от матери, умершей в 1925 году, солидное состояние. Его отец, один из тех викторианских джентльменов, которые жили припеваючи, не имея никаких определенных занятий, погиб в 1907 году во время пожара в гостинице. По свидетельству Майры Ливи, он тоже, хотя и дилетантски, занимался коллекционированием картин.
Для своей картины Бресли выбрал самое почетное место - в центре зала над старым, сложенным из камня камином. Это была "Охота при луне" - вероятно, наиболее известная из его работ, созданных в Котминэ; именно о ней Дэвид собирался писать подробно, ему ужасно хотелось еще раз внимательно рассмотреть ее на досуге… чтобы по крайней мере убедиться в том, что он не переоценил ее достоинств. Он почувствовал некоторое облегчение от того, что при вторичном знакомстве (первое состоялось четыре года назад на выставке в Галерее Тейт) картина оказалась ничуть не хуже. Более того, она выгодно отличалась от той, которую он воспроизводил в своей памяти или видел на репродукциях. Как и во многих других произведениях Бресли, здесь явно сказывалась большая предварительная иконографическая работа (в данном случае изучению подверглись "Ночная охота" Уччелло и многочисленные подражания ей, появившиеся в последующие столетия), что наводило на мысль о смелом сравнении, о сознательном риске… Подобно тому как испанские рисунки Бресли были вызовом великой тени Гойи - автор не просто подражал ему, а пародировал, - так и воспоминание о картине Уччелло из Музея Ашмола каким-то образом углубляло и усиливало впечатление от полотна, перед которым сидел сейчас Дэвид. Оно придавало необходимую напряженность: за таинственностью и неопределенностью (нет ни гончих, ни коней, ни дичи… только неясные темные фигуры среди деревьев - и тем не менее название кажется оправданным), за современностью множества поверхностных деталей скрывались и уважение к вековой традиции, и издевка над ней. Дэвид затруднился бы назвать эту работу шедевром: местами краска неровная, а при более внимательном рассмотрении - намеренно откровенное impasto [прием живописи, состоящий в наложении краски густым слоем]; изображение в целом несколько статичное, ему недостает светлых тонов (впрочем, это, наверно, опять воспоминание о картине Уччелло). И все же произведение значительное, оно впечатляло и выглядело очень недурно на фоне картин других английских художников послевоенного периода. Самое удивительное, пожалуй, заключалось в том, что эта картина, как и вся серия, была написана человеком преклонного возраста. "Охоту при луне" Бресли закончил в 1965 году, на шестьдесят девятом году жизни. А ведь с тех пор прошло еще восемь лет.
И вдруг, как бы в ответ на немой вопрос Дэвида, на пороге двери со стороны сада появился сам художник во плоти.
- Уильямс, мой дорогой.
Он шагнул вперед и протянул руку; на нем были голубые брюки, синяя рубашка - неожиданная вспышка Оксфорда и Кембриджа - и красный шелковый шейный платок. Голова совершенно седая, но в бровях еще сохранились темные волоски; нос луковицей, губы сложены в обманчиво капризную гримасу, на загорелом лице - серо-голубые, с мешками, глаза. Движения нарочито энергичные, точно он сознавал, что силы его уже на исходе; меньше ростом и стройнее, чем Дэвид представлял его себе по фотографиям.
- Великая честь быть в вашем доме, сэр.
- Чепуха. Чепуха. - Старик потрепал Дэвида по локтю, его веселые, насмешливые глаза пытливо и вместе высокомерно глядели на гостя из-под бровей и белой пряди волос на лбу. - О вас позаботились?
- Да. Все в порядке.
- Надеюсь, Мышь не заморочила вам голову. У нее не все дома. - Старик стоял подбоченясь, явно стараясь казаться моложе и живее - ровней Дэвиду. - Воображает себя Лиззи Сиддал. А я, значит, тот самый отвратительный маленький итальяшка… Оскорбительно, черт побери, а?
Дэвид засмеялся.
- Я действительно заметил некоторую…
Бресли закатил глаза.
- Дорогой мой, вы и понятия не имеете. До сих пор. Девчонки этого возраста. Ну а как насчет чая? Да? Мы в саду.
Когда они двинулись к выходу, Дэвид указал на "Охоту при луне":
- Рад снова увидеть это полотно. Дай бог, чтобы полиграфисты сумели достойно воспроизвести его.
Бресли пожал плечами, как бы показывая, что этот вопрос нисколько его не трогает или что он безразличен к столь откровенной лести. Он снова бросил на Дэвида испытующий взгляд.
- А вы? Говорят, вы первый сорт.
- Да что вы, куда мне.
- Читал вашу работу. Все эти ребята - я о них и не знал ничего. Хорошо написали.
- Но неверно?
Бресли коснулся его руки.
- Я же не ученый, друг мой. Вам это может показаться удивительным, но я не знаю многого из того, что вы, вероятно, впитали чуть ли не с молоком матери. Ну, что делать. Придется вам с этим мириться, а?
Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в том же белом арабском наряде, шла по лужайке от дальнего крыла дома с чайным подносом в руках. Она не обратила на мужчин никакого внимания.
- Что я говорил? - проворчал Бресли. - Хлыста бы ей хорошего по мягкому месту.
Дэвид закусил губу, чтобы не рассмеяться. Подойдя к столу под катальной, он заметил вторую девушку: она стояла в том уголке лужайки, который был скрыт за густым кустарником и не виден со стороны дома. Должно быть, все это время она читала - он видел, как она направилась в их сторону с книгой в руке, оставив на траве соломенную шляпу с красной лентой. Если Мышь выглядела странно, то эта особа - просто нелепо. Ростом она была еще меньше, очень худая, с узким лицом и копной вьющихся, красноватых от хны волос. Ее уступка требованиям приличия сводилась лишь к тому, что она надела нижнюю трикотажную рубашку - не то мужскую, не то подростковую, выкрашенную в черный цвет. Короткое это одеяние едва прикрывало ее чресла. На веках лежали черные тени. Она напоминала тряпичную куклу, этакую неврастеничную уродку, персонаж из трущобной части Кингс-роуд.
- Это Энн, - сказала Мышь.
- Известная под кличкой Уродка, - добавил Бресли.
Бресли жестом пригласил Дэвида сесть рядом с ним. Дэвид медлил, видя, что свободным остается лишь один стул; но Уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле подруги. Из-под ее черной рубашки выглянули красные трусики. Мышь принялась разливать чай.
- Первый раз в этих краях, Уильямс?
Вопрос давал повод для вежливой беседы; впрочем, восторги Дэвида по поводу Бретани и ее ландшафта были вполне искренни. Старику это, видимо, понравилось, он начал рассказывать историю своего дома: как нашел его и почему покинул Париж. Со смехом поведал, как ему создали репутацию оригинала-отшельника, - должно быть, ему доставляло удовольствие беседовать с другим мужчиной. Во время разговора он ни разу не повернулся лицом к девушкам, совершенно игнорируя их, и Дэвиду все больше и больше казалось, что им неприятно его присутствие - он не мог сказать, из-за того ли, что он отвлек на себя внимание старика, внес в дом искусственную, натянутую атмосферу, или просто они уже слышали все, что говорил ему сейчас старик, и скучали. Между тем Бресли, как бы желая лишний раз опровергнуть укрепившуюся за ним репутацию отшельника, заговорил о валлийских пейзажах и о раннем детстве в Уэльсе, до 1914 года. Дэвид знал, что по матери Бресли - валлиец, что в годы войны он жил в графстве Брекнокшир; но он не знал, что старик бережно хранит память об этом крае и тоскует по его холмам.
Старик имел обыкновение выражаться замысловато, отрывисто и с такими интонациями, по которым трудно было определить, спрашивает он или утверждает; говорил он на странном, вышедшем из употребления жаргоне, беспрестанно уснащая свою речь непристойностями, точно он был не человек высокого интеллекта, а какой-нибудь эксцентричный отставной адмирал (сравнение, вызвавшее у Дэвида скрытую усмешку). Словечки, которыми пользовался Бресли, звучали в его устах поразительно неуместно - странно было слышать старомодные вычурные выражения, употребляемые английскими аристократами, от человека, чья жизнь была отрицанием всего, что эти аристократы утверждали. Столь же нелепо выглядела его зачесанная набок седая челка, к которой Бресли, должно быть, привык с юности и которая давно уже по милости Гитлера не пользуется популярностью у более молодых людей. Она придавала ему мальчишеский вид, но пунцовое холерическое лицо и водянистые глаза изобличали человека весьма зрелого и непростого. Ему явно хотелось показать себя более безобидным старым чудаком, чем на самом деле; и, должно быть, он знал, что никого этим не обманет.
И все же, если бы девицы не были так молчаливы - Уродка даже уселась поудобней, спиной к креслу подруги, и, взяв книгу, снова принялась за чтение, - Дэвид чувствовал бы себя сравнительно свободно. Мышь сидела в своем белом элегантном одеянии и слушала; но слушала как-то рассеянно, точно мысли ее были далеко - может быть, она представляла себя изображенной на полотне Милле. Всякий раз, когда Дэвид ловил ее взгляд, на ее довольно миловидном лице появлялась едва заметная тень причастности к беседе; но именно это принужденное выражение и выдавало ее невнимание. Ему захотелось узнать, какая еще есть правда, кроме той, что видна на поверхности. Он никак не предполагал встретить здесь этих девушек; из разговора с издателем он вынес впечатление, что старик живет один, если не считать пожилой экономки-француженки. Отношение девиц к старику казалось вполне дочерним. Лишь однажды во время чаепития Уродка показала когти.
Дэвид, полагая, что затрагивает безопасную тему, упомянул Пизанелло и его фрески, недавно обнаруженные в Мантуе. Бресли видел репродукции и, думалось Дэвиду, с неподдельным интересом слушал рассказ человека, знакомого с ними по оригиналам. Кстати выяснилось, что старик и в самом деле несведущ во фресковой технике (Дэвид сначала не верил этому, хотя его и предупреждали). Но не успел он пуститься в рассуждения об arricio, intonaco, sinopia [нанесение грунта, штукатурка, охра красная (итал.)] и прочем, как Бресли прервал его:
- Уродка, дорогая, брось ты, ради бога, эту дерьмовую книжку и слушай.
Уродка положила книгу в мягкой обложке на землю и скрестила руки на груди.
- Извините.
Извинение относилось к Дэвиду - старика она не удостоила взглядом, - но в голосе ее звучала нескрываемая скука, точно она хотела сказать: ты нудный человек, но раз он настаивает…
- Раз ты употребляешь это слово, черт побери, то скажи его как следует, а не для проформы.
- Я не знала, что мы тоже участвуем.
- Чушь.
- Но я все равно слушала. - Она говорила с легким акцентом кокни [наречие, на котором говорят обитатели бедных кварталов Лондона], голос у нее был усталый и грубый.
- Не будь такой дерзкой, черт тебя дери.
- Да, слушала.
- Чушь.
Она сделала гримасу, оглянулась на Мышь.
- Генри-и!
Дэвид улыбнулся.
- Что читаете?
- Друг мой, не ввязывайтесь. Будьте так любезны. - Старик наклонился вперед и нацелил на нее палец. - Чтобы этого больше не было. Учись.
- Хорошо, Генри.
- Извините, любезнейший. Продолжайте.
Этот небольшой инцидент толкнул Мышь на неожиданный поступок. Она украдкой кивнула Дэвиду за спиною Бресли; хотела ли она этим сказать, что не произошло ничего необычного, или посоветовать ему продолжать, пока не разразился настоящий скандал, - это было неясно. Но когда он заговорил снова, ему показалось, что она слушает несколько более заинтересованно. Даже задала вопрос, показывая, что кое-что знает о Пизанелло. Должно быть, старик рассказывал ей об этом художнике.
Немного погодя Бресли встал и пригласил Дэвида посмотреть его "рабочую комнату" в одном из строений за садом. Девушки даже не пошевелились. Проходя следом за Бресли через арку в стене, Дэвид оглянулся на худую загорелую фигурку в черной трикотажной рубашке. Уродка снова держала книгу в руках. Когда они вышли на покрытую гравием дорожку, ведущую налево к строениям, старик подмигнул и сказал:
- Вечно одно и то же. Попробуй переспи с такими сучками. Потеряешь чувство пропорции.
- Они студентки?
- Мышь. Чем себя считает другая, одному богу известно.
Но ему явно не хотелось говорить о девушках, словно они значили для него не больше, чем мотыльки, прилетевшие на огонек свечи. Он стал рассказывать Дэвиду о переделках в помещениях и о том, что в них было раньше. Они вошли в главную мастерскую - бывший амбар, где был уничтожен верхний этаж. У широкого окна, обращенного на север, к посыпанному гравием дворику, стоял длинный стол, на котором в беспорядке лежали рисунки и листы чистой бумаги, рядом - стол с кистями и красками, распространявшими знакомые запахи; большую же часть помещения занимала новая, законченная на три четверти картина размером шесть на двенадцать футов на специальном станке с передвижными лесенками. Это был опять-таки лес, но с поляной в центре, гораздо более населенной, чем обычно, и не так сильно напоминающей сказочное подводное царство; темно-синее, почти черное небо создавало впечатление не то ночи, не то душного дня перед грозой, ощущение опасности, нависшей над человеком. Но здесь уже сказывалось непосредственное влияние (Дэвид уже привык искать чье-нибудь влияние) Брейгелей и даже некоторое подражание себе самому - "Охоте при луне", висевшей в зале. Дэвид с улыбкой посмотрел на Бресли.
- Ключ?
- Кермесса? Пожалуй. Еще не уверен. - Старик задержал взгляд на своей картине. - Играет со мной в прятки. Ждет своего часа, вот что.
- А по-моему, очень хороша. Уже сейчас.
- Потому мне и нужно женское общество. Уметь выбрать момент. Кровотечение и прочее. Знать, когда не следует работать. Девять десятых успеха. - Он посмотрел на Дэвида. - Да вы же все это знаете. Сами художник, а?
Дэвид затаил дыхание и поспешил уйти от скользкой темы: рассказал о Бет и о том, что она работает в одной с ним мастерской, - он понимал, что Бресли имел в виду. Старик как бы в знак одобрения развел руками и промолчал; относительно творчества самого Дэвида из вежливости допытываться не стал. Отвернулся и сел на табурет, взял в руки карандашный натюрморт с разбросанными на столе дикими цветами - ворсянками и чертополохом. Рисунок был выполнен с впечатляющей, хотя несколько безжизненной тщательностью.
- Мышь. Уже чувствуется почерк, вы не находите?
- Прекрасная линия.
Бресли кивнул на огромное полотно.
- Разрешил ей помогать. Черновую работу.
- На таком полотне… - пробормотал Дэвид.
- Она умница, Уильямс. Не заблуждайтесь на ее счет. И воздержитесь от насмешек. - Старик снова посмотрел на рисунок. - Заслуживает лучшего. Без нее я бы не смог, правда.
- Уверен, что она и сама многому здесь учится.
- Знаете, что говорят люди? Старый распутник и тому подобное. Человек моих лет.
Дэвид улыбнулся.
- Уже не говорят.
Но Бресли, казалось, не слышал.
- А я плюю на это. Всегда плевал. Пусть думают что хотят.
Повернувшись лицом к картине - а Дэвид стоял рядом и смотрел на нее, - он заговорил о старости и о том, что вопреки мнению молодежи воображение художника, его способность постижения с возрастом не атрофируются. Недостает ему только физических и духовных сил, чтобы осуществить задуманное, - как старому бедняге ливрейному лакею, которому тоже без посторонней помощи не обойтись. Сделав это вынужденное признание, Бресли явно смутился.
- "Отцелюбие Римлянки" [название картины Рубенса, основанной на легенде о молодой римлянке, которая кормила грудью заключенного в темницу отца, чтобы спасти его от смерти; картина находится в Эрмитаже]. Знаете, что это такое? Дряхлый старик сосет грудь молодой женщины. Эта мысль часто меня посещает.
- Мне кажется, это выгодно не только одной стороне. - Дэвид показал рукой на натюрморт. - Знали бы вы, как сейчас обучают искусству в Англии.
- Вы думаете?
- Уверен. Большинство студентов даже рисовать не умеют.
Бресли провел ладонью по седой голове; в его взгляде снова мелькнуло что-то трогательно-мальчишеское, точно старик не был уверен в себе. Дэвид начинал невольно проникаться сочувствием к этому человеку, угадывая под внешней грубоватостью манер и языка застенчивый, но открытый характер; видимо, старик решил, что может довериться своему собеседнику.
- Следовало бы отправить ее домой. Духу не хватает.
- Разве это не от нее зависит?
- А она ничего не говорила? Когда вы приехали?
- Разыгрывала роль ангела-хранителя - между прочим, весьма убедительно.
- Скорее, клуши на насесте. - Слова эти были сказаны почему-то с мрачной усмешкой; старик, не вдаваясь в объяснения, встрепенулся и тронул Дэвида за руку, как бы извиняясь перед ним. - К черту. Приехали поджаривать меня на вертеле?
Дэвид спросил, как он готовится к работе над картиной.
- Методом проб и ошибок. Много рисую. Смотрите.
Он подвел Дэвида к дальнему концу стола. На эскизах лежала та же печать робости в странном сочетании с уверенностью, что угадывалась в тоне его высказываний о Мыши. Словно он боялся критики и в то же время считал, что заслужил ее.
Его новая картина, видимо, родилась из смутных воспоминаний раннего детства о поездке на ярмарку, теперь он уже не помнил точно, где была эта ярмарка; пяти- или шестилетним мальчиком он желал этой поездки, она доставляла ему огромную радость - это неодолимое желание до сих пор сохранилось в памяти художника, им тогда было пронизано все: ребенку хотелось подойти к каждому лотку, к каждой лавочке, все увидеть своими глазами, все попробовать. А потом - гроза, которая для взрослых, судя по всему, не явилась неожиданностью, мальчика же потрясла и ужасно разочаровала. Перебирая эскизы, выполненные гораздо тщательнее и в большем числе вариантов, чем он предполагал, Дэвид видел, что внешние приметы ярмарки становятся все менее и менее заметными и в окончательном изображении исчезают совершенно. Как будто, постоянно меняя композицию и отрабатывая детали, чтобы избежать буквалистики, старик задался целью скорректировать неуклюжую натуралистичность, концептуальную связь. Но сюжет объяснял странную глубину, забвение места действия. Отвлеченные ассоциации, пятнышки света на фоне бесконечного мрака и все остальное выглядели, пожалуй, чуть слишком банально. В целом на картине лежал излишний отпечаток мрачной загадочности; иными словами, нечто вроде пессимистического трюизма о положении человека. Но тон, настроение, сила утверждения выглядели убедительно - и этого было более чем достаточно, чтобы преодолеть предубеждение, какое питал Дэвид против конкретных сюжетов в живописи.
Далее беседа потекла по более широкому руслу, и Дэвиду удалось увести старика к его прошлому, к жизни во Франции в двадцатые годы, к дружбе с Браком и Метью Смитом. Преклонение Бресли перед Браком давно уже не было тайной, но старик, видимо, хотел убедиться, что Дэвиду об этом известно. По его мнению, сравнивать Брака с Пикассо, Матиссом и "компанией" - значит ставить великого человека на одну доску с великими подростками.
- Они это знали. И он знал. Да и вообще все знают, кроме чертовой публики.
Дэвид не стал спорить. Старик произносил имя Пикассо так, что оно приобретало неприличное звучание. Но в целом, пока они разговаривали, он старался воздерживаться от непристойных выражений. Маска невежества стала спадать, обнажая лицо старого космополита. Дэвид начал подозревать, что имеет дело с бумажным тигром или, во всяком случае, с человеком, который все еще жил в мире, существовавшем до его появления на свет. Вспышки агрессивности Бресли были основаны на смехотворных, изживших себя представлениях о том, что может шокировать людей, служить той красной тряпкой, которая приводит их в бешенство; как это ни грустно, но разговор с Бресли напоминал игру матадора со слепым быком. Только какой-нибудь самодовольный кретин мог попасться такому быку на рога.
Было без малого шесть часов вечера, когда они вернулись в дом. Обе девушки снова куда-то исчезли. Бресли повел Дэвида в гостиную на первом этаже посмотреть другие картины. Посыпались анекдоты, категорические оценки. Одного прославленного художника он упрекнул за гладкость:
- Слишком легко, черт побери. Этот, знаете ли, может производить по дюжине картин в день. Только лентяй. Это его и спасло. Тонкая бестия.
Дэвид спросил, чего ради он покупал эти вещи, и старик откровенно ответил:
- Ради денег, дорогой. Капитал. Никогда не рассчитывал, что мои собственные вещи представят большую ценность. Ну а это - кто, по-вашему?
Они остановились перед небольшим натюрмортом с цветами, который Дэвид при первом ознакомлении приписал Матиссу. Дэвид покачал головой.
- С тех пор писал одну дребедень.
Но этой подсказки оказалось недостаточно - среди такой коллекции. Дэвид улыбнулся.
- Сдаюсь.
- Миро. Пятнадцатый год.
- Боже милостивый.
- Грустно. - Бресли поник головой, точно стоял над могилой человека, умершего в расцвете лет.
Были там и другие маленькие шедевры, авторов которых Дэвид не мог назвать сам: Серюзье, замечательный пейзаж Филиже в духе Гогена… но когда они дошли до дальнего угла зала, Бресли открыл дверь:
- А вот здесь, Уильямс, у меня художник получше других. Вот увидите. Сегодня за ужином.
Дверь вела в кухню; за столом сидел и чистил овощи седовласый мужчина со впалыми щеками; пожилая женщина, хлопотавшая у современной кухонной плиты, повернула голову и улыбнулась. Дэвида познакомили с ними: Жан-Пьер и Матильда, они вели домашнее хозяйство и ухаживали за огородом. Была там еще большая овчарка. Пес вскочил было на ноги, но Жан-Пьер осадил его. Его звали Макмиллан - по созвучию с "Виллон"; Бресли с усмешкой заметил, что пес - "старый самозванец". Старик заговорил по-французски - впервые за весь вечер - странно изменившимся голосом и, насколько мог судить Дэвид, совершенно свободно, как на родном языке: вероятно, английский язык стал для него более чужим, чем французский. Дэвид догадался, что они обсуждали меню. Бресли подошел к плите и, приподнимая крышки, стал нюхать содержимое кастрюль, как это делают офицеры, инспектирующие солдатскую кухню. Потом извлекли и осмотрели щуку. Пожилой француз стал что-то рассказывать. Видимо, щуку поймал он, а собака, когда рыбина оказалась на берегу, пыталась схватить ее. Бресли наклонился и погрозил ей пальцем: прибереги, мол, свои зубы для воров; в глубине души Дэвид порадовался, что в момент его прибытия в имение овчарки не оказалось поблизости. Судя по всему, это вечернее посещение кухни - часть ритуала. Дух семейственности, простота отношений, вид тихой французской четы приятно контрастировали с несколько нездоровой атмосферой, которую ощущал Дэвид из-за присутствия двух девушек.
Когда они возвратились в гостиную, Бресли сказал Дэвиду, чтобы он чувствовал себя как дома. А ему нужно написать несколько писем. Перед ужином, в половине восьмого, они соберутся вместе выпить.
- Надеюсь, у вас не слишком официально?
- Никаких церемоний, друг мой. Хоть нагишом приходите, если нравится. - Он подмигнул. - Девушки не будут против.
Дэвид улыбнулся.
- Понятно.
Старик помахал рукой и направился к лестнице. На полдороге остановился и сказал:
- Свет-то не сошелся клином на голых грудях, а?
Дэвид постоял немного в раздумье и тоже пошел к себе наверх. Сел в глубокое кресло и стал писать. Пожалел, что не может воспроизвести буквально все слова старика, однако первые два часа все равно оказались весьма интересными, а потом, наверное, фактов еще прибавится. Кончив писать, он лег на кровать, подложил руки под голову и устремил взгляд в потолок. В комнате, несмотря на открытые ставни, было очень тепло и душно. Странное дело, Бресли несколько разочаровал его как личность - слишком уж много позы и старческого кривлянья, слишком велик разлад человека с его творчеством; кроме того, как Дэвид ни старался об этом не думать, вопреки логике его немного обидело, что старик ничего не спросил о его собственной работе. Он понимал, что обижаться нелепо, что чувство это - всего лишь реакция на явную мономанию; была тут и доля зависти… довольно роскошный старый особняк, просторная мастерская, коллекция картин, легкий налет чего-то порочного, двусмысленного в этом доме, особенно действовавшего на воображение при воспоминании о привычной старушке Бет и о детях; уединенность этого мирка, отчуждение, неожиданные вспышки искренности, патина… вид цветущей сельской местности, по которой он весь день ехал в машине, обилие зреющих яблок.
Но он был несправедлив к Бет: ведь, когда в понедельник утром опасения насчет ветрянки Сэнди подтвердились и у них произошел неприятный разговор, она отнеслась к своим родительским обязанностям более ответственно, чем он. Теща, приехавшая к ним специально для того, чтобы остаться на время их отсутствия с детьми, и вполне способная справиться с ними, приняла его, Дэвида, сторону, и тем не менее жена настояла на своем. Тому причиной - ее неспокойный характер, всегдашняя несговорчивость и, как он подозревал, некоторые угрызения совести из-за кратковременного бунта против тирании детей вскоре после рождения Луизы. Бет заявила, что, даже если все обойдется благополучно, она была бы неспокойна, если бы уехала, потому что оставалась бы в неведении; Дэвид же должен ехать - ведь это, в конце концов, его работа. А поездка на неделю в Ардеш, которую они планировали после Бретани, может еще состояться. Наконец, когда он в понедельник вечером собрался в Саутгемптон, они договорились так: если в четверг она не пришлет ему в Котминэ телеграмму - значит, на следующий день будет в Париже. Дэвид тотчас же отправился за билетом на самолет и вернулся домой не только с билетом, но с цветами и бутылкой шампанского. Теща одобрила этот жест. Бет отнеслась к нему суховато. Ее огорчило, что он, расстроившись ее отказом сопровождать его в этой поездке, да еще с такой миссией, слишком уж демонстративно пренебрег своим родительским долгом. Но ее последние слова были: "Я прощу тебя в Париже".
Дверь рядом с лестницей - та, за которой исчез давеча Бресли, - на минуту приоткрылась, и до его слуха донеслись звуки музыки - не то радио, не то проигрыватель, похоже на Вивальди. И снова тишина. Дэвид почувствовал, что он здесь чужой и, в сущности, непрошеный гость. Мысли его вернулись к девушкам. Его отнюдь не шокировало то, что они валялись со стариком в постели. Вероятно, им хорошо платили за услуги - в буквальном и переносном смысле; должно быть, они знали, по какой цене продаются его произведения, не говоря уже о капитале, который можно извлечь из его коллекции на аукционе. Дэвид не переставал ловить себя на мысли, что их присутствие раздражает его. Конечно же, у них есть своя цель, и они пользуются слабостью старика. Он чутьем улавливал какую-то тайну, в которую ему не дано проникнуть.
Он снова пожалел, что рядом с ним нет Бет. Та всегда отличалась большой прямотой и не так боялась обидеть кого-нибудь, поэтому могла бы извлечь из этих девиц больше сведений.