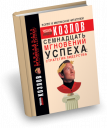Клуб кинопутешествий
Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова, и плывут материки.
Очертания известны, и течения интересны, и журнал «Вокруг света» печатает карты и рассказы.
Вы расскажите мне про Париж.
Вы говорите, там розовый воздух, вы говорите, там бульвар Инвалидов и повсюду маленькие бистро.
Вы говорите, там художники рисуют на улицах, и приезжие чувствуют себя как дома.
Как интересно!
А вот и документальный фильм.
Да, да, мы как-будто там побывали.
Полтора часа среди парижан.
И даже получили подробные ответы не на свои вопросы.
Сомоотверженный труд кинооператоров: десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам, миллионам.
А вчера, в воскресенье, в двадцать часов, мы объездили с корреспондентом заповедник. Мы притаились с оператором за деревом, мы из вездехода наблюдали за львами.
Как интересно.
Журналист очень аккредитованный говорит:
«Там, — говорит, — львы, — говорит, — не боятся машин, там обезьяны совершают набеги, собираются, — говорит, — вместе, и нет, — говорит, — спасения, — говорит, от них.»
Как интересно.
Фиджи, Таити, Лос-Пальмас — такие названия и острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то, а сейчас живут на доходы от туристов каких-то.
А выставка цветов на Таити…
А Таити открыт давно и работает круглые сутки.
А Багамские острова… Как? Вы не бывали на Багамах?
— Ну, грубо говоря, не бывал.
— Вот европейские столицы похожи. Если вы были в Париже, то уже можно, говорят, не ездить в Вену или Стокгольм. Разве вы этого не знали?
— Ну, как же, не знал, как же, не знал. Ну, конечно, не знал. Вы же знаете — все время на работе. Глянешь иногда в окно… Выедешь куда-нибудь на троллейбусе… И, вобщем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение развито — мурашки появляются, если Рейкьявик. Если Африка — потею. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся — мозоли от пальмы: Я ее обхватывал ногами — и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там, в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары — брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми. Австрия — тот же Алтай, Нью-Йорк напоминает Ялту, чем-то, я завтра досмотрю — чем.
Часа в два ночи появляется Сидней — и раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финнов уже совсем от наших не отличишь, ихние Хельсинки — тот же Гомель, я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе, клубе кинотеледомогорепутешественников. Когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании.
Но, говорят, самое интересное — пароходом. Экран, значит, на экране вода, океан, земли ни черта не видать. Если океан спокоен — никто ничего, плывем. По квартирам тишина. и вдруг налетает ветер, из телевизора — как даст прямо в лицо, с брызгами. Ну там инструкция есть: ведро воды сзади заливаешь с утра. На ведро воды — пачку соли за семь копеек и ветродуй для морского колорита. Это если диктор предупреждает, что поплывем, потому что если поскачем, допустим, на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, то впечатление не то — на лошадях с веслами, как дурак.
Значит вот так: ветер двинул, брызги, лежишь мокрый — ну полное ощущение. И тут начинается: горизонт — вверх, горизонт — вниз, прямо разрывает. От телевизора рычаги к кроватям. Операторы на студии управляют всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинает. Ну по сто квартир в доме, и все плывут в Австралию. Если очень плохо — сошел с кровати и все, но впечатление потерял. А тут крики чаек из кухни, кто-то кусает из динамика.
Некоторые, самые крепкие, звонят на студию и слышат крик капитана: «Спасайся! Мина по борту!» Лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, конечно, в разных квартирах кто в каком состоянии, и только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал: с этим очень строго будет. Потому что очень удобная поездка, как на кладбище: все едут туда. Оглянулся: и ты дома, жена, дети — итальянские впечатления.
А сейчас цветная стереофония пошла… Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он — по ихнюю сторону экрана, мы — по нашу. То есть он жует — стереофония, звук, цвет, хруст, писк… Единственно вкуса нет, хотя слюна уже пошла.
1977
Кто виноват
Прежде чем горячиться, писать и ругать, копни глубже, сядь и подумай: кто виноват. И ты всегда поймешь — никто. Никто.
Таксист отказался везти: дорога обратно, холостой пробег, слесарю плати. Сел на его место, через два дня сам заговорил: «Дорога обратно, холостой пробег, слесарю плати».
Отказались ремонтировать: невыгодно, а выгодно циклевать. Вник, пошел к ним на работу: да, невыгодно, а выгодно циклевать.
Телефонов нет, не ставят — у нас инвалиды. Действительно, инвалиды. Пятьсот рублей дал — и поставят. Так ведь чтобы отказаться от пятисот рублей, тот инвалид и этот. Честный человек должен сидеть в АТС. Принципиальный, редкий, — допустим, бывший летчик. Но даже умереть один раз без оглядки легче, чем жить всю жизнь долго и без оглядки. Так вот, два одинаковых инвалида, а один еще дает пятьсот рублей.
Нет мест в гостиницах. Администратор виноват? Нет. Начальник треста виноват? Нет. Клиент виноват? Нет. Министр виноват? Нет. Совет Министров? Нет. Народ? Нет. Ну, нет и нет.
Мяса в Архангельске нет, а в Москве есть. Кто виноват? Завмаг? Нет. Завгар? Нет. Министр? Нет. Он бьется, он приезжает раньше всех. Он по большому счету хочет, чтобы у всех было мясо. Он хочет, чтобы было в Архангельске, он может туда приехать. И знает, что в тот вечер туда забросят мясо из Ленинграда. Он знает это, он все знает, ему записки пишут. Колхоз виноват? Нет. Совхоз? Нет. Райком? Нет. Горком? Нет. Покупатель? Нет. Корова? Нет. Сколько мяса могла дать, столько дала. Никто не съел пять килограммов за раз, твою порцию не съели. Виноватых нет. Ну, нет и нет.
Когда есть, так есть, и можно объяснить, откуда есть, но нету — нет. И виноват кто? Никто. Квартира плохая. Он что, себе забрал пять квартир? Ну, отдал по блату двадцать, так ведь те, блатные, двадцать и освободили. Когда привыкаешь к этой радостной мысли, что никто не виноват, все хотят как лучше, когда ее раскусишь, — господи, ты становишься тихим, и благостным, и седым. Грызешь себе то, что подобрал, несешь на себе то, что дают, смотришь то, что показывают. С такой добротой и сочувствием глянешь на милиционера или активиста. И они не виноваты. Они же не могут объяснить, они начинают злиться, кричат, что ты хромой, что у тебя глаз искусственный. И ты и я знаем, что так не спорят, так они и не спорят, они ругаются. Скажи им: «Да» — и иди спокойно. Когда раскусишь то, что понял, и поймешь, что раскусил, природа начинает манить, горы манят, скалы неприступные зовут, колеса поезда заманивают, затягивают: «Эге-гей! Никто не виноват, никто не виноват, никто не виноват, никто не виноват, никто». Все, справедливость восторжествовала!
1977
Нюансы
— К тебе можно зайти?
— Можно. Но есть нюанс.
— Какой?
— Муж.
— Значит, ты замужем? Поздравляю. Ну как?
— Хорошо.
— Муж хорош?
— Хорош, но есть нюанс.
— Какой?
— У него семья.
— Ага. Так он с ней?
— С ней, но есть нюанс.
— Какой?
— Он у меня все время.
— Значит, хорошо?
— Хорошо, но есть нюанс.
— Какой?
— Я люблю другого.
— Почему же ты не там?
— Он меня не любит.
— Значит, можно зайти?
— Конечно.
1977
Как обычно
Идешь, как обычно, куда-то.
Лицо, как обычно, смотрит вперед.
Вдруг сзади:
— Продолжать движение!
— Продолжаю.
— Так и идите.
— Я так и иду.
— Взять правей.
— Беру!..
— Не разговаривать!
— Молчу.
— Стоять, не оглядываться!
— Стою, не оглядываюсь!
Пропускаю слева, что там сзади?
— Не оглядываться!
— Не оглядываюсь.
— Все свободны!
— Свободен, господи!
1978
Помолодеть!
Хотите помолодеть?.. Кто не хочет, может выйти, оставшиеся будут слушать мой проект. Чтобы помолодеть, надо сделать следующее. Нужно не знать, сколько кому лет. А сделать это просто: часы и календари у населения отобрать, сложить все это в кучу на набережной. Пусть куча тикает и звонит, когда ей выпадут ее сроки, а самим разойтись. Кому интересно, пусть возле кучи стоит, отмечает. А мы без сроков, без времени, без дней рождения, извините. Ибо нет ничего печальнее дней рождения, и годовщин свадеб, и лет работы на одном месте.
Так мы без старости окажемся… Кто скажет: «Ей двадцать, ему сорок?» Кто считал? Кто знает, сколько ей?.. Не узнаешь — губы мягкие, и все.
Живем по солнцу. Все цветет, и зеленеет, и желтеет, и опадает, и ждет солнца. Птицы запели, значит, утро. Стемнело, значит, вечер. И никакой штурмовщины в конце года, потому что неизвестно. И праздник не по календарю, а по настроению. Когда весна или, наоборот, красивая зимняя ночь, мы и высыпали все, и танцуем…
А сейчас… Слышите — «сейчас?» Я просыпаюсь, надо мной часы. Сажусь, передо мной часы. В метро, на улице, по телефону, телевизору и на руке небьющаяся сволочь с календарем. Обтикивают со всех сторон. Напоминают, сколько прошло, чтобы вычитанием определить, сколько осталось: Час, два, неделя, месяц. Тик-так, тик-так. Бреюсь, бреюсь каждое утро, все чаще и чаще! Оглянулся — суббота, суббота. Мелькают вторники, как спицы. Понедельник — суббота, понедельник — суббота! Жить когда?..
Не надо бессмертия. Пусть умру, если без этого не обойтись. Но нельзя же так быстро. Только что было четыре — уже восемь. Только я ее целовал, и она потянулась у окна, просвеченная, — боже, какая стройная! А она уже с ребенком, и не моим, и в плаще, и располнела. И я лысый, и толстый, и бока, и на зеркало злюсь… Только что нырял на время и на расстояние — сейчас лежу полвоскресенья и газеты выписываю все чаще. А это раз в год! В детстве казалось, возьмешь ложечку варенья — в банке столько же. Ерунда! В банке меньше становится. Уже ложкой по дну шкрябаешь…
И что раздражает, так это деревья. То зеленые, то желтые. И стоят, и все. Маленький попугай — крепкий тип. Гоголя помнит и нас помнить будет. Нельзя нам так быстро. Не расстраивался бы и вас не расстраивал. Но жить люблю, поэтому и хочется…
1979
Не троньте
Товарищи, не надо меня выгонять: будет большой шум. Клянусь вам. Меня вообще трогать не надо: я такое поднимаю — вам всем противно будет. Те, кто меня знает, уже не препятствуют. Очень большая вонища и противный визг. Так у меня голос нормальный, но если недодать чего-нибудь… Ой, лучше мне все додать… Клянусь вам. И походка вроде нормальная, но если дотронуться… Ой, лучше не трогать, клянусь. Держитесь подальше, радуйтесь, что молчу… Есть такие животные. Его тронешь, он повернется и струёй дает. Тоже с сумками.
Я как замечу, кто на меня с отвращением смотрит, — все, значит, знает. Клянусь! А что делать? Зато все — по государственной и с гостями тихий, хотя от ругани акцент остается. А что делать? Всюду все есть, и всюду все надо добыть. Есть такое, а есть такое. Цемент есть для всех, а есть не для всех — очень быстросхватывающий. И колбаса есть отдельная, а есть совершенно отдельная — в отдельном цеху, на отдельном заводе, для отдельных товарищей. Огурец нестандартный, обкомовский… Только каждый на своем сидит, не выпускает. Тянешь из-под него тихонько — отдай! Что ж ты на нем сидишь? Отдай потихому. Дай попользуюсь. Да дай ты, клянусь, отдай быстрей. Брось! Отпусти второй конец! Отпусти рубероид! И трубу три четверти дюйма со сгоном для стояка… Отпусти второй конец, запотел уже.
Главное разыскать. А там полдела. В склад бросишься, дверь закроешь, там — как свинья в мешке, визг, борьба, и тянешь на себя. Глаза горят, зубы оскалены — ну волк степной, убийственный. И все время взвинченный. Все время — это, значит, всегда. Это, значит, с утра до вечера! Готов вцепиться во что угодно. Время и место значения не имеют.
В трамвае попросят передать, так обернусь: «Га?! Ты чего?» Бандит, убийца, каторжник. Зато теперь между ногами пролезет, а не передаст.
Руки такие потные, противные. Пожму — он полчаса об штаны вытирает. Зато теперь, чтоб не пожать, все подпишет. Взгляд насупленный, щеки черные, и ругань вот здесь уже, в горле. Я ее только зубами придерживаю. «Га?! Ты чего?!» Рявкнул и сам вздрагиваю. Прямо злоба по ногам. Дай все, что себе оставил. Как — нет? Что, совсем нет? Вообще нет? Абсолютно нет? Есть. Чуть-чуть есть. И — от греха. И дверную рукоятку под хрусталь с отливом и коврик кухонный с ворсой на мездре.
Я бегу со склада — кровь за мной так и тянется. То я барашка свежего — по государственной. Только что преставили. Еще с воротником. Такой след кровавый до кастрюли тянется. И быстро булькает. Потому что не газ дворовый, а ацетилен с кислородом — мамонта вскипятят. И в розетке чистые двести двадцать. Не туберкулезные сто девяносто, как у всех, а двести двадцать, один в один. И все приборчики тиком таком. Ровно в двенадцать этот рубанет, тот вспылит, этот включится, тот шарахнет и маленький с-под стола «Маячка» заиграет.
Машина стиральная — камнедробилка. Кровать перегрызает. Потому что — орудийная сталь. Всю квартиру только военные заводы обставляли. Мясорубку вчетвером держим. На твердом топливе. Такой грохот стоит. Зато — в пыль. Кости, черепа. Не разбирает. И сервант со смотровой щелью — двенадцатидюймовая сталь корабельная. Лебедкой оттягиваем, чтоб крупу достать. Дверь наружная на клинкстах. Поди ограбь! Ну, поди! Если при подходе по подорвешься на Малой Лесной, угол Цыплакова, значит, от газа дуба дашь в районе видимости. То есть ворота видишь и мучаешься. Это еще до Султана пятьсот метров, а он знает, куда вцепиться, я ему на себе показывал.
А как из ворот выходим всей семьей с кошелками… Все!!! Сухумский виварий! То есть — дикие слоны! Тяжело идем. Пять человек, а земля вздыхает…
Ребенок рот откроет — полгастронома сдувает. Потому что — матом и неожиданно. Ребенок крошечный, как чекушка, а матом — и неожиданно. Грузчик бакалейный фиолетовый врассыпную. Такую полосу ребенок за кулисы прокладывает… Средненький по врачам перетряхивает. Зубчики у всех легированные, дужки амбарных замков перекусывают, хотя на бюллетене — сколько захотим. И в санаторий — как домой. Только мы пятеро в настоящем родоне, остальная тысяча уже давно в бодусане лечится.
Старшенький по промтоварам. Все, что на валюту за рубли берет. Ну, конечно, с криком: «Чем рубль хуже фунта стерлингов?!» Прикидывается козлом по политической линии. Борец за большое. А дашь маленькое — замолкает на время. Шнурка своего нет. Все чужое. Гордится страшно, подонок.
Жена с базара напряжение не снимает. Конечно, тоже с криками: «Милиция!», «Прокуратура!», «Где справка от колхоза?» — сливы на пол трясет…
А я постарел. По верхам хожу. РЖУ, райисполком. Ну, давлю… Только таких, как мы, природа оставляет жить. Остальные не живут, хотя ходят среди нас. Клянусь вам. А что делать? Вот ты умный… что делать? В кроссовочках сидишь. Как достал? Поделись, поклянися…
А-а-а… это я сейчас добрый, злоба отошла, на ее место равнодушие поднялось, а как после обеда, в четырнадцать выхожу… Вот вы чувствовали — среди бела дня чего-то настроение упало? Солнце вроде, птички, а вас давит, давит, места себе не находите, мечетесь, за сердце держитесь, и давит, давит?.. Это я из дома вышел и жутко пошел.
1979
Ожидание
— Нет, что вы, — говорил он, — придут, увидят, как я живу, и помогут. Я сам не пойду, мне стыдно…
— Нет, что вы, — говорил он, — ну, еще год пройдет. Придут, увидят, скажут: «Как же, такой талантливый!»
Не идут.
— Придут. Должны.
Не идут.
— Придут. Должны.
Не идут.
— Знают о моей работе, пригласят. Я же там нужен.
Узнали, и нужен, но не приглашают.
— Идите сами просите.
— Стыдно для себя. Кто-то пойдет и скажет, что я плохо живу. Пойдет куда-то и скажет.
Никто никуда не идет. Все по-прежнему ему ему говорят: «Вы плохо живете. Идите, просите, умоляйте».
— Я не могу. Стыдно. Я подожду, я посижу. Вдруг очень большой начальник из исполкома зайдет. Люди будут передавать из уст в уста. Слух пройдет. Тякой хороший работник в таких плохих условиях, и он зайдет.
Не заходит председатель исполкома, и люди друг другу не передают.
Только однажды спиной услышал: «Вот дурак. Столько лет ждет».
— Я все-таки дождался! Освободилась площадь! Освободилась!.. От отца, от матери… Вот и один. На всю, всю комнату…
1980
Личность
Звонят из городской творческой организации, просят написать приветствие к шестидесятилетию секретаря.
— Найдите какие-нибудь очень теплые слова. Вспомните что-нибудь очень хорошее.
— Я не могу. Я недавно. Подскажите.
— Мы, к сожалению, тоже не можем.
— Он трудолюбив?
— В том-то и дело.
— Ленив?
— Очень трудолюбив. Если что хорошее прорывается — только в его отсутствие. А это все реже. Он сидит днем и ночью.
— Может быть, хорошо выглядит?
— Да нет. Желтый, бледный. Ночами сидит.
— Может, написать, чтобы красиво отдохнул, дал другим поработать?
— Нельзя. Он поймет.
— Ну что писать? Может, самостоятельно решает?
— Да нет. Бегает, согласовывает каждый шаг.
— А если об этом так приятно упомянуть, — мол, не один?..
— Он догадается.
— А если написать, допустим, что оратор блестящий?
— Он поймет, что ни о нем.
— А если сказать о счастье в семье?
— Поймет.
— Жену похвалить?
— Обидится.
— О детях?
— Нельзя упоминать.
— А может, почерк хорош, фигура, любим в коллективе?
— Поймет.
— Сказать, что очень рады присутствовать, что все были счастливы служить под его?..
— Поймет.
— Давайте скажем, что не дурак.
— Это к шестидесятилетию?
— Он добрый?
— Нет.
— Злой? — Нет.
— А какой?
— Никакой.
— Мда… Может, поступки какие-нибудь совершал?
— Что-то на припомним. Его же потому и держат.
— Какой-нибудь свой взгляд высказал? Точку зрения? Мнение?
— Ничего не вспоминается. Вы пока напишите что-нибудь теплое. Абстрактно. Мол, шестьдесят лет — в такой прекрасный день, в таком прекрасном месте. А там, где о нем, ставьте прочерк. Фамилию и две-три черты. Мы вставим сами. Мы тут узнаем. Может, в молодости что-нибудь индивидуальное…
И оставьте второй экземпляр на семидесятилетие на этом же посту.
1980
Писательское счастье
Что такое писательский ум? Не договаривать половину фразы.
Что такое писательское счастье? Немножко написать и жить, жить, жить.
Что такое писательский ребенок? Тот, кто о любви к себе узнает из произведений отца.
Что такое писательская жена? Женщина, которая сидит дома и с отвращением видит в муже человека.
Что такое писательская квартира? Место, где у него нет угла.
Что такое писатель в семье? Квартирант под девизом: «Ты все равно целый день сидишь, постирал бы чего-нибудь».
Что такое писательская жизнь? Ни одной мысли вслух.
Что такое писательская смерть? Выход в свет.
1980
Мы беремся
1.
Мы, конструкторы, берем на себя обязательства устранить ошибки ученых.
2.
Мы, технологи, берем на себя повышенные обязательства усовершенствовать работу конструкторов.
3.
Мы, рабочие, берем на себя обязательства усовершенствовать и внести рацпредложения в работу технологов.
4.
Мы, жильцы, беремся своими руками устранить недоделки рабочих.
5.
Мы, комбайнеры, беремся своими силами отремонтировать только что полученные с завода машины.
6.
Мы, журналисты, берем под контроль работу комбайнеров.
7.
Мы, ученые, беремся устранить ошибки в работе журналистов и объективно освещать.
8.
А мы, юмористы, берем на себя обязательства смешить читателя тем, как один всю жизнь доделывает за другого.
1981
Жлобство — это не хамство
Жлобство — это не хамство, это то, что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством.
Жлобство, простите, так присуще многим из некоторых, которых мы часто встречаем порой и страдаем от этого.
От голода голодаем, от болезни болеем, от холода мерзнем, от жлобства страдаем.
Если, конечно, вам не повезло и вы тихий, вежливый, исчезающий от прозвищ и частых упоминаний матери…
Поздравим себя — все меньше удовольствия хаму, все уже поле его деятельности.
Наша берет.
В чем был его кайф?
Изрыгнуть внезапно, чтоб у всех отвисла челюсть к попадали руки.
Чтоб посинели лица в безумных поисках ответа.
Было такое.
В пору пребывания в толпе мягких, воспитанных дам-с, юристов-с.
Но, слава богу, эти времена прошли.
Теперь хам получает повсеместный ежедневный отпор.
Бледнеть некому-с.
Хрупкая скрипачка в автобусе оборачивается н врезает между ртом и глазом матросу-сантехнику так, что тот на глазах корежится, жухнет, пускает жуткий синий дым и сваливается в сугроб.
Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида так шарахнули матом в ответ на короткое слово дремучего алкоголика, сопровождающее предложение отойти, что, не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь.
Поздравим себя — публика перестала распадаться на выступающих и слушателей.
Едины все участники дорожного движения.
Наличие в руках фагота или Ромена Роллана не даст хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек.
Усиленные занятия каратэ и знание мата без словаря приближает час всеобщего трамвайного равенства.
Нерадивость породила дефицит, дефицит — воровство, воровство — хамство, хамство — нерадивость, которая породила дефицит. Отсюда и выход из замкнутого круга, который должен быть, но его надо искать.
А пока в преддверии исчезновения хама как отдельной личности его успешно заменяет отдельный коллектив.
1981
Стиль спора
Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов.
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит полосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на «ты», сказать: «А вот это не твоего собачьего ума дело», и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по «Клубу кинопутешествий», остроту мнений по хрестоматии.
Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу — вскипело!
19..