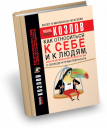Рот Йозеф. Марш Радецкого
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Уже три года, как полковой врач Макс Демант служил в уланском полку. Он жил за городом, на южной окраине, там, где шоссе вело к обоим кладбищам, к "старому" и к "новому". Оба кладбищенских сторожа хорошо знали доктора. Раза два в неделю он приходил навещать мертвых, давно канувших в безвестность и только недавно схороненных и еще не позабытых. Иногда он долго блуждал среди могил, и слышалось, как то тут, то там его сабля с тихим звоном задевала надгробные камни. Он, без сомнения, был странным человеком – хорошим врачом, как говорили, и, следовательно, среди военных врачей во всех отношениях диковиной. Он избегал какого бы то ни было общения с людьми. Только долг службы повелевал ему изредка (но всегда чаще, чем ему бы хотелось) появляться среди товарищей. По своим годам и сроку службы он мог бы быть уже штабным врачом. Никто не знал, почему он им еще не был. Может быть, он не знал этого и сам. Бывают "карьеры с закорючками". Словцо это было изобретением ротмистра Тайтингера, который снабжал полк, помимо всего остального, еще и меткими изречениями.
"Карьера с закорючкой", – часто думал и сам доктор. "Жизнь с закорючкой, – не раз говорил он лейтенанту Тротта. – У меня жизнь с закорючкой. Если бы судьба была ко мне милостивее, я мог бы сделаться ассистентом великого венского хирурга и даже профессором". В мрачную безысходность его детства громкое имя венского хирурга рано дослало свой блеск. Макс Демант еще мальчиком решил сделаться врачом. Он родился на восточной окраине империи. Его дед был набожным еврейским шинкарем, а его отец, после двенадцатилетней службы в ландвере, сделался почтовым чиновником средней руки в близлежащем пограничном городке. Он еще отчетливо помнил своего деда. У больших ворот пограничной харчевни в любое время дня сидел старик. Могучая борода из витого серебра закрывала его грудь и спускалась до колен. Вкруг него носился запах удобрений и молока, лошадей и сена. Он сидел перед своим шинком – старый король среди шинкарей. Когда крестьяне, возвращаясь с еженедельного свиного рынка, останавливались перед шинком, старик поднимался, мощно, как гора в образе человеческом. Так как он был уже глуховат, то низкорослые крестьяне должны были кричать ему вверх свои желания, через сложенные трубкою руки. Он только кивал в знак понимания. Он удовлетворял желания своих клиентов так, словно оказывал им милости и словно за них не расплачивались наличной звонкой монетой. Сильными руками он сам распрягал лошадей и отводил их в стойла. И пока его дочери в широкой низкой зале шинка подавали гостям водку с сухим и посоленным горохом, он с ласковыми прибаутками кормил во дворе коней. По субботам он сидел, согнувшись над огромными, душеспасительными книгами. Его серебряная борода закрывала нижнюю половину испещренных черными буквами страниц. Знай он, что его внук в форме офицера, вооруженный для убийства, будет разгуливать по свету, он проклял бы свою старость и плод своего семени. Уже его сын, отец доктора Деманта, почтовый чиновник средней руки, был для старика только ласково терпимым страшилищем. Шинок, завещанный праотцами, должен был достаться дочерям и зятьям; тогда как мужские его потомки были обречены до бесконечно далекого будущего оставаться чиновниками, учеными, служащими и дураками. До бесконечно далекого будущего? Нет, слова эти были не к месту: у полкового врача не было детей. Он и не стремился иметь их. Дело в том, что его жена…
На этом месте доктор Демант обычно обрывал свои воспоминания. Он вспоминал свою мать. Ока жила в постоянных лихорадочных поисках какого-нибудь побочного дохода. Отец после службы сидит в маленьком кафе. Он играет в тарок, проигрывает и остается должен хозяину заведения. Он хочет, чтобы его сын окончил четыре класса средней школы и затем сделался чиновником – на почте, разумеется. "Ты всегда широко шагаешь! – говорит он матери. Он содержит, как ни беспорядочна его частная жизнь, в смехотворном порядке весь реквизит, оставшийся у него после военной службы. Его форма, форма писаря "сверхсрочной службы" (мундир с золотыми угольничками на рукавах, черные штаны и пехотный кивер), висит в шкафу, как разделенное на три части, но все еще живое существо с блестящими, каждую неделю вновь начищаемыми пуговицами. И черная изогнутая сабля с зубчатой, тоже еженедельно освежаемой рукояткой, с небрежно болтающейся золотисто-желтой кисточкой, похожей на еще не раскрывшийся и слегка запыленный цветок подсолнечника, висит на двух гвоздях поперек стены над никогда не используемым письменным столом.
– Если бы не появилась ты, – говорит отец матери, – я выдержал бы экзамен и был бы теперь капитаном интендантства.
В день рождения императора почтовый служитель Демант надевает свой чиновничий мундир, треуголку и шпагу. В этот день он не играет в тарок. Каждый год, в день рождения императора, он решает начать новую жизнь, жизнь без долгов. Он напивается. Возвращается домой поздно ночью, вытаскивает в кухне свою шпагу и начинает командовать целым полком. Горшки – у него взводы, чайные чашки – отряды, тарелки – роты. Симон Демант – полковник, полковник на службе Франца-Иосифа Первого. Мать, в кружевном чепце, в сборчатой нижней юбке и развевающейся кофточке, встает с постели, чтобы утихомирить мужа.
Однажды, через день после рождения императора, отца в постели хватил удар. У него была легкая кончина и блестящие похороны. Все почтальоны шли за гробом. И в преданной памяти вдовы покойный остался образцовым супругом, умершим на службе императора и императорско-королевской почты. Обе формы, форма унтер-офицера и форма почтового служителя, все еще рядом висели в шкафу, сохраняемые вдовой при помощи щетки, камфары и нафталина. Они походили на мумии, и, когда бы ни отворялся шкаф, сыну казалось, что он видит два трупа покойного отца.
Любой ценой надо было сделаться врачом. Приходилось давать уроки за несчастные шесть крон в месяц.
Ходить в дырявых сапогах. В дождливые дни оставлять на добротных, натертых полах богатых домов мокрые и непомерно большие следы (когда подошвы продраны, ноги кажутся больше). И наконец сдать государственные экзамены. И вот он врач. Нищета все еще заслоняла собой будущее – черная стена, о которую все разбивалось. Пришлось без дальнейших околичностей броситься в объятия армии. Семь лет еды, семь лет питья, семь лет одежды, семь лет крова, семь, семь долгих лет! Он стал военным врачом. И остался им…
Жизнь, казалось, бежала быстрее, чем мысли. И прежде чем было принято решение, подошла старость.
И женитьба на фрейлейн Еве Кнопфмахер…
Здесь полковой врач, доктор Демант, еще раз оборвал ход своих воспоминаний. Он отправился домой.
Вечер уже наступил, непривычно торжественный свет лился из всех комнат.
– Старый барин приехал, – сообщил денщик. Старый барин: это был его тесть, господин Кнопфмахер.
Он выходил в этот момент из ванной комнаты, в длинном мохнатом халате в цветочках, с бритвой в руках, с весело раскрасневшимися, свежевыбритыми и надушенными щеками, далеко отстоявшими друг от дружки. Его лицо как бы распадалось на две половины. И держалось только благодаря серой остроконечной бородке.
– Мой милый Макс! – произнес господин Кнопфмахер, бережно положил бритву на столик и растопырил руки, предоставив халату распахнуться. Они обнялись, два раза бегло поцеловались и вместе пошли в кабинет.
– Я выпил бы водочки, – заявил господин Кнопфмахер. Доктор Демант открыл шкафчик, посмотрел с минуту на бутылки и обернулся к тестю.
– Я не могу выбрать, – проговорил он, – не знаю, что тебе придется по вкусу.
Он заказывал себе набор алкогольных напитков, подобно тому, как невежда заказывает библиотеку.
– Ты, видно, все еще не пьешь, – заметил господин Кнопфмахер. – Нет ли у тебя сливянки, арака, рома, коньяку, горькой настойки, водки? – спросил он так быстро, что это даже не гармонировало с его достоинством. Он поднялся, подошел (полы его халата развевались) к шкафу и уверенным движением выбрал бутылку.
– Я хотел сделать Еве сюрприз, – начал господин Кнопфмахер, – и должен тебе сейчас же сказать, мой милый Макс, тебя весь день не было, но вместо тебя… – Он сделал паузу и повторил: – вместо тебя я застал здесь одного лейтенанта, и преглупого.
– Это единственный друг, – возразил Макс Демант, – которого я приобрел за все время моей службы. Это лейтенант Тротта, прекрасный человек!
– Прекрасный человек! – повторил тесть. – Я тоже прекрасный человек. Но не советовал бы тебе оставлять меня даже на час наедине с хорошенькой женщиной, если ты хоть вот столько в ней заинтересован! – Кнопфмахер сложил кончики большого и указательного пальцев и немного спустя повторил: – Хоть вот столько.
Полковой врач побледнел. Он снял очки и долго протирал их. Таким образом он окутывал весь окружающий мир благодетельным туманом, в котором и тесть в своем купальном халате казался неясным, хотя и весьма пространным белым пятном. Когда они были протерты, он не сразу надел их, а держал некоторое время в руке и наконец бросил в туман слова:
– У меня нет никаких оснований, милый папа, не доверять Еве или моему другу.
Полковой врач говорил нерешительно. Эти слова для него самого прозвучали совсем чуждым оборотом речи, заимствованным из какой-то давнишней книги или услышанным в давно забытой пьесе.
Он надел очки, и старый Кнопфмахер, с ясно видимыми объемом и очертаниями, немедленно приблизился к нему. Теперь оборот, которым он воспользовался, показался еще более далеким. В нем безусловно не было правды. Полковой врач знал это так же хорошо, как и его тесть.
– Никаких оснований! – повторил господин Кнопфмахер. – Но у меня есть основания! Я знаю свою дочь! А ты не знаешь своей жены! Господ лейтенантов я тоже знаю! И вообще мужчин! Не хочу ничего дурного говорить об армии. Не будем отклоняться. Когда моя жена, твоя теща, была еще молода, у меня были случаи ознакомиться с молодыми людьми, штатскими и военными. Да, смешные вы люди, вы, вы…
Он искал какого-нибудь общего обозначения ему самому не так-то уж хорошо известной породы, к которой принадлежал его зять и другие дураки. Больше всего ему хотелось бы сказать: "Вы, люди с университетским образованием". Ибо он сделался смышленым, благосостоятельным и почитаемым, не получив такового. Как раз в эти дни ему собирались пожаловать титул коммерции советника. С будущим он связывал сладостные мечты, мечты о денежных пожертвованиях, крупных денежных пожертвованиях, непосредственным результатом которых должно было явиться дворянство. Если, например, перейти в венгерское подданство, молено и еще скорей сделаться дворянином. В Будапеште людям не затрудняют жизнь. Университанты же вообще склонны ее затруднять: все они дураки и фантазеры. Собственный зять и то затрудняет его. Если теперь разразится какой-нибудь скандал с его детьми, придется еще долго дожидаться титула коммерции советника? За всем надо следить самому, чтобы все шло правильно, за всем присматривать самолично! Добродетелью чужих жен тоже приходится интересоваться.
– Мне хотелось бы, милый Макс, пока еще не слишком поздно, вывести все на чистую воду.
Полковой врач не любил этого выражения, он не любил слышать правду, купленную любой ценой. Ах, он знал свою жену так же хорошо, как господин Кнопфмахер свою дочь! Но он любил ее – что тут поделаешь! Он любил ее. В Ольмютце у нее был окружной комиссар Гердаль, в Граце – окружной судья Ледерер, Если это не были его однокашники, полковой врач уж и за то был благодарен богу и жене. О, если б можно было выйти из армии! Здесь тебе постоянно грозит смертельная опасность. Как часто он уже приступал к тому, чтобы предложить тестю… Он попытался еще раз.
– Я знаю, – сказал он, – что Ева находится в опасности. Всегда. В течение многих лет. Она легкомысленна, к сожалению. Но она не доводит дела до крайности. – Он остановился и повторил: – Не доводит до крайности! – Он убивал этим словом все свои сомнения, уже много лет не дававшие ему покоя. Выкорчевывал свою неуверенность и убеждался, что жена его не обманывает. – Ни в коем случае, – еще раз громко повторил он. Он приобрел полную уверенность: – Ева порядочный человек, несмотря ни на что!
– Несомненно! – поддержал его тесть.
– Но такая жизнь, – продолжал полковой врач. – долго мы ее уже оба не вынесем. Меня эта профессия совершенно не удовлетворяет, как тебе известно. Чего бы я только не добился, если бы не военная служба! Я занимал бы превосходное положение в свете, и честолюбие Евы было бы удовлетворено. А она честолюбива, к сожалению!
– Это у нее от меня, – не без удовольствия заметил господин Кнопфмахер.
– Она недовольна, – продолжал полковой доктор, покуда его тесть наполнял следующий стаканчик, – она недовольна и старается развлечься. Я не могу ее за это винить!
– Ты должен сам развлекать ее! – вставил тесть.
– Я… – Доктор Демант не мог найти нужного слова, помолчал с минуту и взглянул на водку.
– Ну, выпей же наконец, – поощрительно сказал господин Кнопфмахер. Он встал, принес стаканчик и наполнил его; халат распахнулся, и доктор Демант увидел его волосатую грудь и веселый живот, такой же розовый, как его щеки. Он поднес налитый стаканчик к губам зятя. Макс Демант выпил.
– Есть и еще одна причина, вынуждающая меня оставить армию. Когда я вступил в полк, с глазами у меня все обстояло еще благополучно. Теперь они с каждым годом становятся хуже. Теперь я… теперь я не могу… теперь для меня невозможно ясно видеть что-нибудь без очков. И мне, собственно, следовало бы об этом сообщить по начальству и выйти в отставку.
– Да? – спросил господин Кнопфмахер.
– Но с чего…
– С чего жить? – Тесть закинул одну ногу на другую, его сразу пробрал холод. Он запахнулся поплотнее в халат, руками придерживая воротник. – Да, – сказал он, – и ты думаешь, я смогу это осилить, С тех пор как вы поженились, я выплачиваю вам (случайно мне это известно точно) триста крон в месяц. Но я уж знаю, знаю! Еве нужно много. И если вы начнете новую жизнь, ей нужно будет не меньше. И тебе тоже, мой сын! – Он становился нежным. – Да, мой милый, милый Макс! Дела теперь идут не так хорошо как прежде!
Макс молчал. Господин Кнопфмахер почувствовал, что отразил нападение, и перестал кутаться в халат. Он выпил еще стаканчик. Его голова умела оставаться ясной. Он знал себя. Вот дуралей! И все же этот зять лучше того, Германа, мужа Елизабет. Шестьсот крон в месяц обходились ему дочери! Он "случайно" знал это совершенно точно. Если полковому врачу суждено ослепнуть – он внимательно посмотрел на его поблескивавшие очки… Пусть следит за своей женой! Для этого не надо быть дальнозорким!
– Который час? – спросил он очень дружелюбно и очень невинно.
– Скоро семь! – ответил доктор.
– Пойду одеваться! – решил тесть. Он поднялся, кивнул и медленно, с достоинством направился к двери.
Полковой врач остался сидеть. После знакомого одиночества кладбища, одиночество в его собственном доме казалось ему огромным, непривычным, почти враждебным. Впервые в жизни он сам налил себе водки. Похоже было на то, что он н пьет впервые в жизни. "Навести порядок, – подумал он, – надо навести порядок". Он решился переговорить с женой и вышел в коридор.
– Где моя жена?
– В спальне! – отвечал денщик.
"Постучаться?" – спросил себя доктор. Нет, повелело его железное сердце. Он нажал ручку и вошел. Его жена в голубых штанишках с большой розовато-красной пуховкой в руке стояла перед зеркальным шкафом.
– Ах! – вскрикнула она и прикрыла рукой грудь. Полковой врач остался стоять в дверях. – Это ты? – спросила жена. Вопрос ее прозвучал как зевок.
– Это я, – твердым голосом ответил доктор. Ему казалось, что говорит кто-то другой. Очки были у него на носу, но слова он бросал в туман.
– Твой отец, – начал он, – сказал мне, что здесь был лейтенант Тротта!
Она обернулась. В голубых штанишках с пуховкой в правой руке, как оружие обращенной на мужа, она прошептала:
– Твой друг Тротта был здесь! Приехал папа? Ты уже виделся с ним?
– Именно поэтому я… – сказал полковой доктор и понял, что его игра проиграна.
С минуту все было тихо.
– Почему ты не стучишься?
– Я хотел тебя обрадовать!
– Ты меня напугал!
– Я… – начал доктор. Он хотел сказать; "Я твой муж". Но сказал: – Я люблю тебя!
Он действительно любил ее. Она стояла перед ним в голубых штанишках с розовато-красной пуховкой в руке. И он любил ее…
"Я ревнив", – думал он. И проговорил:
– Я не люблю, когда у нас в доме бывают люди, а я ничего об этом не знаю!
– Он славный малый, – заметила жена и стала медленно и тщательно пудриться перед зеркалом.
Полковой врач близко подошел к ней и взял ее за плечи. Он взглянул в зеркало. И увидел свои коричневые волосатые руки на ее белых плечах. Она улыбалась. В зеркале он видел стеклянное эхо ее улыбки…
– Скажи правду, – взмолился он. Казалось, что и его руки, лежащие на ее плечах, умоляли коленопреклоненно. Он тотчас же понял, что она не скажет правды. И повторил: – Скажи мне правду! – Он видел, как она проворными, бледными руками взбивала волосы на висках. Излишнее движение: оно взволновало его. Из зеркала на него упал ее взгляд – серый, холодный, сухой и быстрый, взгляд, как стальное копье. "Я люблю ее, – думал полковой врач. – Она причиняет мне страданья, а я люблю ее". Он спросил: – Ты сердишься, что я весь день не был дома?
Она полуобернулась к нему. Теперь она сидела, повернув в бедрах верхнюю часть туловища – неживое существо, модель из воска и шелкового белья. Из-под завесы ее длинных черных ресниц показались светлые глаза, фальшивые, поддельные молнии из льда. Узкие руки лежали на штанишках, как белые птицы, вышитые по голубому шелку. И низким голосом, какого он, как ему казалось, никогда не слышал, голосом, словно выходившим из какого-то механизма в ее груди, она медленно произнесла:
– Я никогда не скучаю по тебе!
Он стал ходить взад и вперед, не глядя на жену. Отодвинул два стула, преграждавших ему дорогу. У него было чувство, что ему нужно многое убрать со своей дороги и, быть может, сдвинуть стены, разбить головой потолок, ногами втоптать пол в землю. Звяканье шпор отдавалось у него в ушах, оно шло издалека, словно они были надеты на ком-то другом. Одно-единственное слово жило у него в голове, шныряло взад и вперед, проносилось через его мозг беспрерывно: "Конец, конец, конец!" Маленькое слово. Юркое, легкое, как перышко, и в то же время весящее много центнеров. Его шаги становились все быстрее, ноги держали один ритм с этим словом, раскачивавшимся, как маятник, в его голове. Внезапно он остановился.
– Ты, значит, меня не любишь? – спросил он. Он был уверен, что она не ответит на это. Смолчит. Она ответила:
– Нет! – приподняла черную завесу своих ресниц, смерила его с головы до ног обнаженным, ужасно обнаженным взглядом и добавила: – Ты пьян.
Он понял, что выпил слишком много. И удовлетворенно подумал: "Я пьян, да, и хочу быть пьяным". И произнес чужим голосом, словно обязан был быть пьяным и невменяемым:
– Ага, так!
Согласно его смутным представлениям, это были слова, которые в такой момент должен был процедить пьяный. Он так и поступил. И сделал все остальное:
– Я убью тебя, – медленно проговорил он.
– Убей меня! – прощебетала она своим прежним, звонким, привычным голосом. Она встала. Встала проворно и легко, держа пуховку в правой руке. Стремительный взлет ее шелковых ног чем-то напомнил ему составные конечности в витринах модных лавок. Вся женщина была составлена, составлена из отдельных частей. Он больше не любил ее, он больше не любил ее. Он был преисполнен неприязни, которую сам ненавидел, злобой, которая, как неведомый враг, пришла из далеких краев и теперь поселилась в его сердце. Он произнес вслух то, что думал час назад:
– Навести порядок! Я наведу порядок.
Она рассмеялась полнозвучным голосом, которого он не знал. "Как на сцене", – мелькнуло у него в голове. Непреодолимое стремление доказать ей, что он может навести порядок, напрягло его мускулы, придало слабым глазам небывалую зоркость. Он сказал:
– Оставляю тебя с твоим отцом! Я пойду разыщу Тротта!
– Иди, иди, иди! – сказала жена.
Он ушел. Прежде чем оставить дом, он вернулся в кабинет выпить водки. Он вернулся к алкоголю, как к закадычному другу, – впервые в жизни. Налил себе стаканчик, еще один, третий. Звенящими шагами вышел из дому. Он отправился в казино. И там спросил денщика:
– Где лейтенант Тротта? Лейтенанта Тротта в казино не было.
Полковой врач повернул на прямую, как нитка, улицу, ведущую к казарме. Луна уже была на ущербе. Но светила еще серебряно и ярко, почти как полная.
Ничто не шелохнулось на тихой улице. Сухие ветки обнаженных каштанов рисовали мудреную сетку на чуть выпуклой мостовой. Резко и холодно звучали шаги доктора Деманта. Он шел к лейтенанту Тротта, Вдали, в голубоватой белизне, он видел мощную стену казармы и шел прямо на нее, на эту неприятельскую крепость. Навстречу ему понесся холодный, жестяный звук отбоя. Доктор Демант прямиком надвигался на замороженные, металлические звуки. Скоро, каждое мгновение мог появиться лейтенант Тротта. И действительно, темное пятно отделилось от мощной белизны казармы и двинулось ему навстречу. Лейтенант отдал честь. Доктор Демант, как из бесконечной дали, услышал свой голос:
– Вы были сегодня днем у моей жены, господин лейтенант?
Вопрос отдался в синем стеклянном своде неба. Давно уже, несколько недель, говорили они друг другу "ты". Но теперь стояли лицом к лицу как враги.
– Я был сегодня днем у вашей жены, господин полковой врач, – сказал лейтенант.
Доктор Демант подошел вплотную к лейтенанту.
– Что у вас с моей женой? – Толстые стекла докторских очков сверкали. У него больше не было глаз, только очки.
Карл Йозеф молчал. Казалось, что во всем обширном белом свете не существовало ответа на вопрос доктора Деманта. Десятки лет можно было напрасно дожидаться ответа, словно язык людей исчерпался и высох на веки веков. Сердце колотилось о ребра частыми, сухими, жесткими ударами. Сухой и жесткий, прилипал язык к гортани. Из оледеневшей стеклянной дали послышались слова доктора Деманта:
– Отвечайте, господин лейтенант!
Лейтенант щелкает каблуками (по привычке, а также чтобы услышать какой-нибудь звук), и звон шпор успокаивает его. Он говорит совсем тихо:
– Господин полковой врач, между вашей женой и мною ничего нет!
"Он сошел с ума! – думает лейтенант и: – Разбито!" Что-то разбито. Кажется, он слышит сухой звук разлетающихся осколков. Разбитая верность! – приходит ему в голову, он где-то читал эту фразу. Разбитая дружба! Да, это разбитая дружба.
Внезапно он понимает, что полковой врач уже много недель его друг; его друг! Они виделись ежедневно. Однажды он с полковым врачом гулял но кладбищу между могилами. "Так много на свете мертвых, – сказал полковой врач. – Разве ты тоже не чувствуешь, что можно жить мертвыми?" – "Я живу дедом", – отвечал Тротта. Он представил себе портрет героя Сольферино, меркнувший под сводом отчего дома. Да, что-то братское звучало в словах доктора. "Мой дед, – говорил полковой врач, – был старым, рослым евреем с седой бородой!" И Карл Йозеф видел старого, рослого еврея с седой бородой. Они оба были внуками. Когда полковой врач сидит на лошади, он выглядит немного смешным, маленький, он кажется еще миниатюрнее, и лошадь несет его на спине, как мешочек с овсом. Так же скверно ездит и Карл Йозеф. Он хорошо знает себя. Он видит себя, как в зеркале. Во всем полку имеются только два офицера, за спиной которых перешептываются другие: доктор Демант и внук героя битвы при Сольферино! Их двое во всем полку. Двое друзей.
– Вы даете слово, господин лейтенант? – спрашивает доктор. Тротта, не отвечая, протягивает ему руку. Доктор говорит: "Спасибо!" – и пожимает эту руку. Они вместе идут по улице обратно, десять шагов, двадцать шагов, не проронив ни единого слова.
Внезапно полковой врач начинает:
– Ты не должен на меня сердиться. Сегодня приехал мой тесть. Он видел тебя. Она меня не любит. Не любит меня. Понимаешь ли ты?.. Ты еще молод, – добавляет он, помолчав, словно пожалев о своих словах. – Ты еще молод.
– Я понимаю, – говорит Карл Йозеф.
Они шагают в ногу, их шпоры звенят, сабли постукивают. Огни города, желтоватые и уютные, кивают им навстречу. Им обоим хочется, чтобы улица не имела конца. Долго, долго хочется им так вот шагать рядом. У каждого из них есть много, что сказать, и оба они молчат. Одно слово, одно слово так легко выговорить. Но оно не выговаривается. "В последний раз, – думает лейтенант, – в последний раз мы идем так вот, рядом".
Они уже подходят к городу: полковому врачу необходимо сказать еще несколько слов, прежде чем они в него войдут.
– Это не из-за моей жены, – говорит он. – Но это уже неважно. С этим я покончил. Это – из-за тебя. – Он ждет ответа и знает, что ответа не последует. – Все хорошо, благодарю тебя, – быстро добавляет доктор. – Я еще зайду в казино. Ты тоже?
Нет. Лейтенант Тротта сегодня не идет в казино. Он поворачивает назад.
– Спокойной ночи, – говорит он и направляется в казарму.