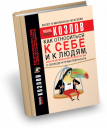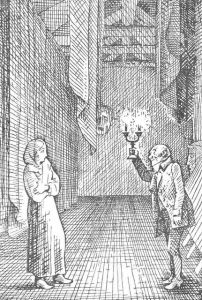Софья Могилевская.
Театр на Арбатской площади
Повесть
Часть первая. Санька попадает на Арбатскую площадь
Глава первая. О том, как Санька залезла на березу и раздумывала над своей судьбой
— Вожжами ее, да как следует, да как следует, тогда будет знать!
— Куда ж она девалась? Ума не приложу… Санька!.. Вот непутевая!
— А я тебе сколько твержу? А все мимо уха… Она и есть непутевая! Совсем от рук отбилась. Бойка, дерзка… Вожжами ее!
— Вожжами да вожжами — у тебя одна присказка. А с ней надобно лаской. От ласки она шелковая.
— Ишь ты — лаской… Небось к моим доченькам не больно-то ласков.
— А с твоих что взять? Санюшка… Эх, беда! На базар ехать, а репа не копана…
— Попадись она мне, всю бы излупила!
— Вели своим подыматься, пусть помогут…
— Репу копать?! Рехнулся, старый! Надо же! Чего в его глупую башку лезет? Мои лебедушки сроду такого делать не приучены! Репу копать Марфуше с Любашей? Надо такое придумать! А твою Саньку найду, буду лупить, рук не пожалею.
И громогласно, да так, что от ее зычного голоса петух закукарекал, а куры со страха закудахтали, Степанида, Санькина мачеха, Заорала:
— Санька, чертова девка, сей минутой будь здесь! Отцу на базар ехать, иди репу копать!..
А в это время Санька, сидевшая на верхнем суке березы, скрытая от всех густой листвой, хмуро наблюдала за переполохом, который сама же учинила. Сидела угрюмая, потрясенная тем, что узнала нынче утром от соседской девчонки Параши. Услышанное трахнуло ее по голове, словно обухом, словно шилом насквозь проткнуло сердце.
И сейчас, сидя на березе и чутким ухом прислушиваясь к голосу отца (до мачехи ей дела не было, мачеха и есть мачеха, что с нее взять?), она пыталась в его словах и поступках найти приметы тому, что ей у колодца рассказывала Параша. Правда это или вранье? Родной дочерью или найденышем росла она в отцовском доме? Услышанное вроде бы в одно мгновение вышибло из памяти заботы, любовь и ласку, которые она знала и видела все эти годы и от Луки, и от покойной своей матери Матрены. Теперь же нанизывалось в памяти только то, что служило подтверждением всего, что рассказала ей Параша. И от этого сильнее и сильнее накипало на сердце. С обидой и горечью она твердила про себя:
«Была бы я им родная, не стегала бы меня матушка крапивой всякий раз, как убегу с подружками в лес…
Была бы я им родная, купили бы они мне тот полушалок в розанах, какой мне тогда хотелось…
Выла бы я им родная, не женился бы батюшка второй раз на проклятущей этой Степаниде. Как молила его, как просила… Говорила ему: волк в лесу, мачеха в дому. Не послушался!..
Была бы я ему родная, не позволил бы он мачехе и сестрицам измываться надо мною, заступился бы…»
Это последнее, пожалуй, сильнее всего говорило Саньке, что не родной дочерью, а приемной была она Матрене и особенно Луке.
И чем дальше, тем больше горьких мыслей приходило на ум. А вместе с горечью росла и обида.
Приемыш… Что там говорить — разве это родная дочь?
Что она была им не родной, об этом знала вся округа. Знали соседи всей Пресненской слободки — и ближние и дальние. Только одна она ни о чем не догадывалась до сегодняшнего утра.
Пока была маленькой, несмышленышем, люди судили, рядили, дивились, вдосталь языками чесали: надо же, Крюковым Луке с Матреной словно с неба свалилась долгожданная дочка! Но прошли годы, все позабылось, и уже ни один человек не вспоминал о том дне, когда Лука, прижимая к себе с осторожной неловкостью, внес в избу крохотную девочку, укутанную в рваную ветошь. И с рук на руки передал эту девочку изумленной Матрене.
А своих детей у них отродясь не было. Не раз оба ходили вымаливать себе дитя и в Троице-Сергиеву лавру, и в другие монастыри. «Хоть какого кривенького, хоть косенького, хоть лядащега,— просила у бога Матрена, не скупясь на жаркие молитвы и толстые восковые свечи.— Уж я бы его, кровиночку мою, любила больше жизни, уж; я бы его миловала, голубила…»
И прожили Лука с Матреной в достатке, в сытости, душа в душу много лет, а детей им бог так и но дал. Вот горе-то! Чем же они всевышнего прогневили?
Лука был огородником. Вдоль берега реки Пресни, которая недалеко от того места вливалась в Москву-реку, лежали его огороды. Не то чтобы очень большие, а все же изрядные. В летнюю пору Лука возил на московские базары разные овощи — репу, морковь, горох, зимой же — соленые огурцы, квашеную капусту и всякую иную снедь.
Как-то раз возвращался он с базара. Дело было летом. Ехал потихоньку, подсчитывая в уме выручку. И вдруг послышался ему детский плач. Оглянулся — поблизости никого. А голос у дитяти был хоть и не очень громкий, но до того заливистый и жалостный, что за сердце хватало. Лука остановил лошадь, соскочил с телеги и пошел на плач младенца.
А река Пресня, делая поворот, текла здесь тихо, мирно, отражая в своих водах и небо, и облака, и темную зелень прибрежных ракит. Однако в этом месте, люди говорили, была бездонная глубина. И если бы кто задумал порешить себя, лучшего места не сыскать…
Недалеко от берега, в траве под кустом, и увидел Лука девочку. Сколько ей было, Лука определить не мог — по этой части опыта у него не было никакого. Но вот что удивительно: девчушка, увидев склоненного к ней Луку, вмиг перестала плакать. Глянула на него — на темных ресницах еще дрожали слезинки — и улыбнулась. Сверкнули белые зубки — два наверху, два внизу.
«Ишь ты,— подумал Лука, умиляясь,— кроха, а человечью душу сразу почуяла…»
И долго не раздумывая, очарованный доверчивой детской улыбкой, Лука на всякий случай перекрестился, взглянув на бездонный омут, сгреб ребенка в охапку вместе с ветхими тряпками, на которых тот лежал, и привез Матрене.
— Держи дочку, богом посланную!
Матрена вся затрепетала — радость-то какая нежданная! А потом затревожилась: а ну как хватятся ребенка? А коли отдавать придется? Присохнешь сердцем — и отнимут у тебя…
Но девочку никто не искал, никто не спрашивал, никому она, видно, не надобилась. И стала она растя у Луки с Матреной, катаясь как сыр в масле, в достатке и в родительской любви. Окрестили Александрой. Стали звать Саней, Санюшкой.
С того дня, когда Лука нашел девочку, прошло более четырнадцати лет. Так что теперь Сане, сидевшей на березе, было годков пятнадцать. Может, чуть поменьше или чуть сверх того.
Но теперешняя жизнь Сани намного отличалась от прежней. А вернее сказать, ничего сходного не было в ее теперешней с той прежней, когда она как сыр в масле каталась…
Года три назад Матрена простудилась, неделю поболела и померла. Лука на свою же голову женился снова. Женился на вдове, вздорной и крикливой бабе Степаниде. И были у той вдовы дочки — Марфуша и Любаша. Обе невесты. Обеим женихи нужны да хорошее приданое. Обе ленивые, белые, пухлые, будто калачи из печи вынутые. Обе давно в цвет вошли да уже и отцветать начали. Обе без меры матерью любимые. И пошла жизнь у Саньки вкривь и вкось…
Прежде у Луки с Матреной была работница. Дарьей ее звали. А теперь мачеха завела новые порядки: «Вот еще, деньги на ветер пускать! Пусть Санька все дела делает, не развалится!»
И пошло звенеть по дому с утра до вечера Санино имя: Санька, воды принеси! Санька, в погреб слазь! Санька, где дрова? Санька, Санька, Санька… И туда и сюда знай поворачивайся!
К ночи Санька с ног сбивалась. Однако все делала безотказно, отца своего жалеючи — вон как исхудал. Даже рыжая бороденка вылезла, реденькой стала.
Будто шершень впилась Степанида в Луку, кровь из него сосала для дочек своих любезных, а с них пылинки-былинки сдувала. А как же, девушки — невесты! Нельзя им белые ручки марать, нельзя им пышность терять, нельзя, чтобы слинял румянец с толстых щек.
Ладно, думала Санька, отдадим их замуж, полегче станет. Потерпим с батей.
А Марфуша с Любашей до того обленились, что захотят водицы испить,— не поднимутся, велят Саньке, чтобы подала. Да не из кадки — из колодца чтобы водица была…
Так миновал год, другой и третий пошел. Санька день-деньской в работе, а сестрицы допоздна на пуховиках нежатся. А подымутся— начнут новые наряды мерить, разные шали цветастые да полосатые на себя накидывать. В зеркальце полюбуются, по горнице пройдутся и опять в сундуки сложат. Опять же на гулянье ходят — то в сады под Новинский монастырь, то на Пресненские пруды. Женихов там разглядывают, на каких указывает им сваха Домнушка. Только ни один пока ихнему вкусу не угодит. Тот молод, да беден. Другой богат, а староват. Иной и богат и молод, да лицом рябой.
А Степанида своим дочерям:
— Умницы вы, разумницы, королевны вы мои, раскрасавицы! Уж коли замуж, подавай нам короля червонного… Чтобы был хорош да пригож, богат да тароват…
Вот так всё и шло до сегодняшнего утра. А сегодня, когда рано поутру Санька, громыхая ведрами, помчалась на колодец, встретилась ей Параша.
— Ой, Санюшка,— запричитала она,— да что с тобой сталось? Уж не хворая ли?
— Здорова, — ответила Санька.— Мне для хвори лишней минуты пет.
— А похудала, а отощала, а лицом пожелтела!.. Ай-яй-яй…
Вытянула Санька из колодезной глубины ведро с водой и на всякий случай в колодец глянула. А там, внизу, в водяном зеркальце,— ее лицо. А ведь правда словно бы исхудала!
— Сестрицы с мачехой замучили, — призналась она Параше.— Все жилы тянут, а никак замуж не идут…
Тут-то Параша и брякнула:
— Заступы у тебя нет. Был бы тебе дяденька Лука родным отцом, не дал бы в обиду.
— Что пустое брешешь! — огрызнулась Санька. У самой же сердце так и екнуло. И лицо побелело.
Параша поняла, что Саньке ничего не известно, сама не рада была, что лишнее сболтнула. Да слово не воробей — вылетело, поди поймай его!
Вот тут-то, возле колодца, Санька узнала: что Матрене с Лукой сна не родная дочь, а найденыш; что нашел ее Лука под ракитовым кустом возле омута. А что она им не родная, сразу заметно — не той породы!
И правда, была Санька кудрява и черноволоса, с тугими смуглыми щеками, лукавым взглядом, чуть наискось прорезанных глаз. Тонка в талии, быстра на язык, к тому же увертлива, как ящерка или змейка-медянка. Всем было удивительно, когда рыжий Лука и рыхлая веснушчатая Матрена называли доченькой эту бойкую черноглазую девчонку.
И теперь, сидя на березе и прислушиваясь к голосам мачехи и отца (да не отца ведь, вот в чем беда!), Санька старалась найти глазами то место, где Пресня, делая поворот, размыла бездонный омут и где на берегу, махонькую и горемычную, родная мать оставила ее под кустом. А сама-то, а сама?.. О господи, сама-то вниз головой кинулась в тот страшный омут.
Сквозь листву березы ей виднелась хоть и близкая, да незнакомая Москва. Сорок сороков церквей жарко горели золотыми маковками в лучах утреннего солнца.
Здесь же, поблизости, все было ей знакомо и мило сердцу — и река Пресня, и ручей Студенец, и речка Бубна. Вся местность, изрезанная вдоль и поперек реками и речушками, весной и осенью была непролазна от топи и грязи. Но теперь, па исходе лета, глаз тешила свежая зелень деревьев, еле тронутая нежной желтизной.
Рядом с домом разлеглись огороды — тянулись гряды с огурцами, репой, брюквой; понизу, ближе к реке, уже закрутила лист капуста. А в саду вперемежку с яблонями и грушами отец посадил кусты крыжовника и смородины.
— Ну ладно, — прошептала Санька не то себе, не то кому-то неведомому,— родной не родной, а, кроме меня, кто ему пособит репу копать?
И стала она потихоньку с ветки на ветку, с ветки на ветку слезать с березы.
Глава вторая. О том, как Санька две затрещины снесла, а подзатыльника не стерпела
Только успела она ступить на землю, услыхала возле себя:
— Вот она, твоя чернявая…
Не дочь, а чернявая, подумала Санька. Стало быть, и эта знает, что она подкидыш.
Подскочив к Саньке, мачеха заорала:
— Ты где ж пропадала, окаянная твоя душа?
А Санька в ответ ни слова, будто онемела. Молчок, и всё тут!
— Не слыхала, что ли, как тебя кричали?— громче прежнего заорала Степанида.— Оглохла?
И на этот раз Санька промолчала. Стоит, словно каменная. И глаза в землю уперла.
Степанида даже позеленела от злости. Ишь ты, гордячка! II слова из нее не вытянешь.
— Ты что, надолго молчать взялась?
Тут Санька подняла на мачеху глаза. А в глазах — одна дерзость и непокорность.
У Степаниды руки зачесались: ох, и нахлещет же она сейчас девку! Однако такая ярая злоба была в Санькиных глазах, что руки-то у Степаниды хоть чесались, а подняться не поднялись.
— Иди репу копать. Дел невпроворот, а она баклуши бьет!
— Не пойду.
— Как это не пойдешь?
— Не пойду, и весь сказ…
— Да ты что?!
— А ничего. Посылай своих девок, на моем горбу наездились. Предовольно с меня… Хватит! Пусть твои спину гнут, а я посижу да погляжу.
Тут Степанида дала волю рукам. Ястребом кинулась на Саньку—шлеп ее по одной щеке! Шлеп ее по другой щеке!.. Вот уж истинно говорят — мать высоко руку поднимает, да не больно бьет, а уж как у мачехи рука опустится, так огнем щеки загорятся.
От Степанидиных затрещин щеки у Саньки и правда запылали алым пламенем.
Тут подошел Лука.
— Чего разорались? На весь околодок крик подняли.
— Ты глянь на свою злодейку… Ей — слово, она—десять! Ей говорю — иди репу копать, отец велел. Она — не пойду! Да что ж это такое? Осатанела девка!
А Санька стояла — не подступись. Губы прикусила, щеки разрумянились, глаза горят.
Ну и ну… Ведь правда осатанела!
Лука подошел к ней и тихо, но с угрозой приказал:
— Иди репу копать. Надобно на базар ехать.
А Санька ему свое, да громко, да на весь двор:
— Не пойду. Посылай Любку с Марфуткой.
— Люди добрые, что придумала! Моих лебедушек…
Может, Саньке в ту минуту и смешно не было, может, и вовсе смеяться не хотелось, однако подняла хохот на весь двор:
— Аи да лебедушки! Гусыни жирные, вот кто дочки твои разлюбезные… Еле ходят, вот до чего отъелись на батенькиных хлебах.
Из сеней на крыльцо выползли Любаша с Марфушей. От сонной одури глазами хлопают — что такое? Их-то зачем поминают? Экую рань крик подняли. Спать бы еще да спать, а разбудили…
А на Саньку такое нашло, что и рада бы себя остановить, да куда там — вскачь понеслась!
— Вот они, гусыни! Гляньте на них, на жирных. Да разве таких кто замуж возьмет? В перестарках сидят и будут сидеть…
Кое-кто из соседей стал выходить на крыльцо. Что это у Крюковых делается? Сроду такого не случалось. Крик. Ругань, Натюшки светы родимые, да что ж это?
Лука подошел к Саньке.
— Замолчи, дура! Не срами на старости лет,— и, не удержавшись, двинул ей здоровенный подзатыльник.
А Саньке того и надо было. Закричала громче прежнего:
— Видать, что ты мне не отец! Кабы отцом был, не поднялась бы рука… Заступником стал бы! Разве отец даст над родной дочерью измываться? Разве…— уткнув лицо в ладони, вдруг громко Заплакала и, рыдая, кинулась за дом.
Лука стоял, будто онемевший. Степанида и та замолчала. Однако ненадолго. Вспомнив, что Санька обозвала ее дочерей гусынями, вмиг обрела голос. Накинулась на Луку:
— Так тебе и надо, простофиле! «Лаской, лаской с ней надобно»!.. Вот тебе и лаской! Мало девку лупили, получай теперь…
Лука махнул на Степаниду рукой: молчи ты, не твоего ума дело! И, понурившись, виноватый пошел за Санькой.
Она уже не плакала. Стояла в саду под яблоней. Глаза были сухи, лицо бледно, только на щеках горели алые пятна — следы Степанидиных затрещин.
Лука подошел к ней.
— Санюшка, прости меня…
Санька не глянула на него, процедила:
— Бог простит.
И Лука понял: бог-то, может, и простит, а Санька не простила и никогда не простит. Подумал: видно, и та, что в омут кинулась, оставив под кустом младенца, великой гордыни была женщина.
А Санька, не повернув к нему головы, спросила:
— Сказывай, где репу копать? На ближних грядах или возле реки?
— Да ладно, не надо…
— Показывай, раз спрашиваю! — прикрикнула она на Луку. А часа через два, лишь только он уехал на базар, Санька, умывшись, приодевшись, надев на ноги праздничные сапожки, накинув на голову пунцовый полушалок, последний подарок матери, пошла к воротам.
— Ты куда это? — вздумала остановить ее Степанида. Но Санька на нее лишь искоса глянула, та осеклась и смолкла. Думала ли Санька в тот миг, когда за ней, скрипнув, закрылась калитка, что слышит скрип этот последний раз? Думала ли она, заложив за собой щеколду, что и это она сделала последний раз? Нет, такого у нее в мыслях не было. Просто хотелось ей в тот миг досадить мачехе и сестрицам. Пусть, пусть поработают! Пусть ведер двадцать воды из колодца вытянут! Пусть раз десять слазят в погреб! Пусть дров натаскают, пусть печку истопят, пусть скотину накормят, в доме приберут… Пусть, пусть, пусть поглядят, как им без нее, без Саньки, придется…
Со злорадством услыхала за своей спиной вопрошающий окрик мачехи:
— Никак, ушла?
И два голоса с испугом ей в ответ:
— Ушла, маменька, ушла…
Но слова их словно бы Саньки уже и не касались, словно бы донеслись к ней из далекого далека.
Выйдя за ворота, она перекрестилась. Поглядела налево, поглядела направо. И пошла по той самой дороге, которая вела через пустоши, через огороды, через большое торговое село Кудрине прямо в первопрестольную. А Москва, кстати сказать, находилась от Санькиного дома не так уж и далеко…
Глава третья. О том, как Санька попала на Тверской бульвар
 А как попала Санька на Тверской бульвар, она и сама толком не могла понять. Брела себе по московским улицам, глазела по сторонам. Дивилась на барские хоромы с каменными собаками у ворот. А может, это вовсе не собаки поглядывали на нее каменными глазами? Говорят, есть такие звери с преогромными гривастыми мордами, вроде бы на собак походят, только много свирепее…
А как попала Санька на Тверской бульвар, она и сама толком не могла понять. Брела себе по московским улицам, глазела по сторонам. Дивилась на барские хоромы с каменными собаками у ворот. А может, это вовсе не собаки поглядывали на нее каменными глазами? Говорят, есть такие звери с преогромными гривастыми мордами, вроде бы на собак походят, только много свирепее…
Видела она и ветхие хибарки, крытые соломой. Таких на улицах Москвы стояло предостаточно, поболее, чем барских дворцов. Возле дворцов — зеленые сады, липы шумят, дубы чуть шевелят листами. Возле хибарок — огороды с огурцами, мусорные свалки да кое-где рябина рдеет спелыми ягодами.
Проходила Санька мимо деревянных церквушек, до того стареньких, дунь посильнее — и на бревнышки развалятся! И кресты на погосте тоже от старости совсем накренились. А чуть подалее — храм божий. Глаз не отвести, краше не бывает! На одних купола золотом горят, на других небесно-голубые с золотыми звездами. Вот где молиться да молиться! Небось из таких-то вернее донесется на небо молитва?
То натыкалась Санька на какой-нибудь плетень. А вперед ходу нет! Никак иначе не выбраться, как лезть через плетень. А за ним — крапивы вдосталь. Лезла и спрашивала себя: «Ну зачем, дура, лезешь?» Отвечала: «Что я, не барыня себе? Куда хочу, туда и лезу!» Вот и получай, барыня: все руки крапивой обстрекались!
А один раз еле спаслась от косматого, злющего кобеля. Вылетел из подворотни, чуть в клочья не изодрал праздничный сарафан. Насилу ноги унесла.
Эх, Санька, Санька, ну куда ты топаешь? Ведь обратно домой нипочем не найти дороги…
И вдруг, пройдя по незнакомой улице с красивыми барскими домами, вышла и вовсе неведомо куда. Что это был Тверской бульвар, Санька знать не могла. Откуда же? Сроду здесь не бывала. Хоть не раз ездила с Лукой в Москву на базары, даже брал он ее с собой на большие торги на Красную площадь. Но эти места посетить не случалось.
Увидев великое многолюдство и скопище разных карет да колясок, Санька сперва решила—не попала ли на какое-нибудь гулянье? На Пресненские пруды, что ли? Или под Новинский? Но нет, те места были ей знакомы. А тут ни прудов, ни Новинского монастыря. Видно, совсем в другие края забрела. Остановилась. Стала глазеть. Чем дольше глазела, тем больше дивилась. По усыпанной песком широкой улице чинно и благородно разгуливали одни лишь господа. Ни тебе каруселей, ни качелей, ни развеселой музыки! Петрушка и тот не пищит. Скоморохов тоже не видно. Просто ходят нарядные господа взад-вперед и разговоры разговаривают. Поговорят, поклон друг другу отвесят, ручкой помашут и пошли шагать дальше.
Батюшки светы родимые, да отколь же сюда столько господ набралось? Неужто со всей Москвы сбежались к этим вот березкам?
В те времена—а происходило всё в 1811 году — Тверской бульвар был совсем не похож на тот, который мы знаем теперь. Не липы, как теперь, а рядами росли вдоль бульвара березы. Липы были посажены много позднее, уже после нашествия Наполеона, после того, как французы, побывав в Москве, срубили и сожгли все березы.
А тогда Тверской бульвар напоминал просторную и длинную березовую аллею, ровно укатанную и посыпанную песком. И был Этот бульвар самым модным и любимым местом прогулок москвичей. Со всех концов съезжалось сюда не только дворянство, но и все иные сословия горожан. Наряду со столичным щеголем с лорнетом у глаз можно было увидеть здесь и богатого откупщика в кафтане. Бренча саблями, расхаживали военные, золотые нити трепетали на их эполетах в такт молодцеватым шагам. И тут же шествовала купчиха в атласном салопе розового цвета. Еле касаясь туфельками земли, кутаясь в прозрачные шарфы, прогуливались молодые красавицы. Следом за ними важные лакеи несли ридикюли и шали с цветастой каймой.
Приезжали сюда, на Тверской бульвар, чтобы часок-другой пофланировать, свидеться со знакомыми, услышать новости, посудачить, а заодно посетить кофейное заведение, которое держал здесь француз-кухмистер. Кофейня эта находилась в деревянной галерейке и славилась прохладительными напитками, а также можно было в ней отведать мороженого, конфет французских и выпить чашечку отменного на вкус чаю.
И стояла Санька как завороженная, крутила головой туда-сюда, боялась что-нибудь недоглядеть… Ну и ну! Таких красивых и нарядных барынь она еще никогда не видывала. Одни шляпки чего стоят — загляденье! С букетами, с перьями, с бантами… Иные же до того высоки да замысловаты — как только их голова держит?
А по обеим сторонам бульвара счета нет экипажам. Тут и кареты богачей — кони кровные, одномастные, как на подбор! И большие желтые коляски, и маленькие, легкие, на двух колесах. А на одной карете на козлах рядом с кучером арапчонка посадили. Черного-пречерного, а нарядного — в красном кафтане с золотыми пуговками.
А кучера-то, кучера! Дородные, бородатые, кафтаны на них голубые, зеленые, малиновые. Толкутся возле карет, переговариваются, ждут, когда барам наскучит ходить взад-вперед между березками.
Но вот услышала Санька:
— Подать карету их сиятельства Измайловой!
Увидела рослого лакея в ливрее с золотыми галунами. Увидела и генеральшу. Каков же сам генерал, коли у генеральши до того взгляд грозный, что и не подступись…
Насмотревшись на все досыта, Санька почувствовала, что устала и голодна. Голодна так, что чугун каши умяла бы в один миг. И ноги гудят в новых, еще не разношенных полусапожках. Надо присесть, отдохнуть, прежде чем повернуть обратно домой.
Утреннее буйство в ней совсем улеглось. С каким-то даже добродушием вспоминала она, как мачеха, не веря глазам, спросила Любку с Марфуткой: «Никак, ушла?» А дурехи сестрицы ей с испугом: «Ушла, маменька, ушла…» Небось рады будут, когда назад вернется.
Ладно, думала Санька, приду, повинюсь батюшке. Вспомнила, как просил ее Лука: «Прости меня, Санюшка…»
А она-то ему — вот бешеная! — «Бог простит». Сама ведь не простила.
А разве не родным отцом, не родной матушкой были ей все эти годы Лука с покойной Матреной?.. А коли матушка иной раз ее крапивой стегала, так, видно, было за что. Испокон веку такое ведется! И Парашку мать стегала в малолетстве. И Аришку косоглазую. И Гриньку тоже. Того отец не только крапивой, а березовым прутом да вожжами сек, вот как! Если с парнем сладу нет, почему не постегать?
И полушалок матушка ей купила. Правда, не тот в розанах, зато атласный, пунцовый. Накинула ей на голову и прошептала, любуясь: «Ишь как на тебе ладно, доченька…» И слезу пустила. Эх, благодарности в тебе нет, Санька, вот что я тебе скажу! Найдя укромное местечко позади скамьи, Санька присела на траву, продолжая, однако, разглядывать всех, кто проходил мимо. Ну и рассказов у нее наберется! Полон короб… Послушают любезные сестрицы, чего она им сегодня наговорит.
Недалеко от той скамьи, за которой устроилась Санька, остановилась красивая барыня, а рядом с нею два барина. Говорили все трое между собою, надо думать, по-чужеземному, слова у них были непонятные. А платье на барыне было уж до того хорошо, что глаз не отвести: голубого переливчатого шелка да с синими бархатными бантами. И шляпка под стать — белая, тоже с синими бантами. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!
Но могла ли представить себе Саня, что темно-голубой наряд, который был в этот день на французской актрисе Луизе Мюзиль и так обольстил Саню, будет подарен именно ей, Саньке? Правда, уж не новый, поношенный, но все равно, щеголяя в этом наряде, она будет сокрушаться лишь об одном — что не может похвалиться им перед Марфушек и Любашей, покрасоваться перед соседской Парашей. Да и мачеха пусть зеленеет от зависти, не жаль…
И так получилось, что оба барина, простившись с француженкой, подошли к той скамейке, за которой в тени, на зеленой траве, сидела наша Санька.
А были эти два человека — один знаменитый в те времена драматург и театральный деятель князь Шаховской, а второй не менее знаменитый московский актер Петр Алексеевич Плавильщиков.