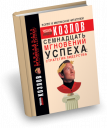II. Школа
В мае 1896 г. вся семья (родители и четверо мальчуганов) переехали в Ораниенбаум (дачное место около Петербурга), а осенью — в Петербург. Осенью все братья сдали экзамен в гимназию и были приняты: оба старшие брата — во второй класс, а я с Сеней — в приготовительный класс. Гимназия наша (Первая С.- Петербургская гимназия) была одной из самых старых и считалась одной из лучших правительственных гимназий в Петербурге. В гимназии этой я провел почти восемь лет и в течение всего пребывания в ней числился одним из лучших учеников (так же, как и брат Сеня). Я был весьма общительным мальчиком и имел несколько товарищей, с которыми очень дружил. Но по окончании гимназии я всех этих своих гимназических друзей растерял. То же самое должен сказать и об учителях и воспитателях. Никто из них не оказал на меня большого влияния. Не могу также сказать чтобы я вынес из гимназии солидные знания или даже привычку работать. Особенно плохо обстояло дело с языками: латинским, греческим, немецким и французским. Я это почувствовал впоследствии: немецкому языку я должен был учиться, штудируя в Гейдельберге и Фрейбурге, а свои знания латинского и греческого языков должен был усиленно восполнять, готовясь к магистерскому экзамену. <…>
Значительно большее внимание на мое развитие оказали дом, внешкольные знакомства и чтение. В младших классах я увлекался историей. Первой серьезной книгой, которую я прочитал, когда мне было 10 лет, была «Recits des temps merovingjens» Aug. Thierry. Посоветовал ее мне П. Н. Милюков, посетивший отца, затевавшего тогда издание юридического еженедельника «Право». Несколько лет спустя большое влияние на меня оказала книжка Fr. Engels'a «Происхождение семьи, собственности и государства», которую посоветовал мне прочитать Я. Штернберг, известный этнограф, возвратившийся из ссылки, приятель отца и товарищ его по революционному кружку. Книга эта была первым введением моим в марксизм. Но наибольшее влияние, вплоть до IV класса, имел на меня отец. Он руководил нашим чтением, летом во время каникул читал нам (всей четверке) вслух, в саду или в лесу — русских классиков. Вместе с ним мы перечли всего Тургенева, Гоголя, много Толстого, Щедрина, а также Белинского, Добролюбова, Писарева, Островского. Перечли вместе и много пьес Шиллера и Шекспира. Отец также следил вначале за приготовлением нами уроков, но уже от III класса ограничивался просмотром и исправлением наших домашних сочинений. Когда я был в 1 классе, было основано «Право». Уже с IV класса отец начал поручать мне чтение корректур, что имело большое значение в выработке моей грамотности и стиля. Редакция «Права» находилась в соседней квартире, соединенной с нашей. В дни редакционных заседаний члены редакции заходили к нам на обед или на чай, и я прислушивался к их разговорам на политические, юридические и литературные темы. Среди гостей чаще всего у нас бывали двоюродный брат отца, проф. В. М. Гессен, проф. Л. И. Петражицкий, проф. А. И. Каминка, проф. Н. И. Лазаревский, В. Д. Набоков и др. Более всех я любил своего дядю Владимира Матвеевича, было время, когда я видел в нем свой идеал (он был высокий, красивый, очень добрый, имел большой успех как профессор и оратор).
III. Университет
Летом 1905 г., когда я сдал экзамен на аттестат зрелости, мне не исполнилось еще восемнадцати лет. Как большинство молодых людей в то время, я был отчаянным революционером. Отец, опасаясь, что меня могут снова арестовать отправил меня с братом за границу. В конце сентября мы выехали в Берлин и затем в Гейдельберг, где записались на философское отделение. Здесь мы ходили на лекции Виндельбанда о Канте, Иеллинека — по теории государства, М. Кантора — по дифференциальному исчислению и Б. Ласка — по философии истории.
Невзирая на слабое владение немецким языком, я записался на семинар по философии истории, проводимый Б. Ласком, в ту пору еще молодым доцентом. Мою работу о доктрине прогресса у Кондорсе и у О. Конта я написал по-русски, а перевел ее на немецкий язык один молодой доцент Московского университета, который меня опекал. Несмотря на ужасный акцент, сводивший к нулю отличный стиль переводчика, работа весьма понравилась Ласку. Я доложил ее в конце семестра, и Ласк посоветовал мне перевестись на время летнего семестра во Фрейбург и заняться философией под руководством его учителя Г. Риккерта, с работами которого я познакомился уже в этом семестре.
Первый семестр в Гейдельберге имел большое, решающее значение для моей жизни. Определился характер моей последующей работы и направление моего философского развития на долгие годы вперед. Благодаря Ласку я вошел в круг философов школы Риккерта. В Гейдельберге началась моя дружба с Ф. А. Степуном, который занимался со мной немецким языком, с Б. Яковенко и с Б. А. Кистяковским, бывшим тогда уже доцентом Московского университета. Беседы с ними стали для меня замечательным введением в философскую проблематику и дали мне, быть может, более, нежели лекции профессоров, которые казались мне слишком тяжелыми и по языку, и по содержанию. В Гейдельберге я познакомился с моей будущей женой, Ниной Минор.
Последующие шесть семестров (1906—1909 гг.) я провел во Фрейбурге, в Баварии, раз в год возвращаясь на каникулы домой в Петербург.
Во Фрейбурге, кроме Риккерта, на лекции которого я всегда ходил, я слушал лекции и участвовал в семинарах таких профессоров, как Ф. Майнеке (новейшая история), Г. Шульце-Геверниц (политическая экономия) Ионы Кона (философия и психология). Все они, как и первый мой профессор, Б. Ласк, были мне не только учителями, но и друзьями. Вплоть до самой их смерти я поддерживал эти дружеские отношения. Уже после Второй мировой войны я получил письмо от последнего из оставшихся в живых моих профессоров, И. Кона, который эмигрировал в Америку в начале войны. Наша переписка поддерживалась до его кончины в 1946 г.
Из моих друзей и коллег по учебе упомяну здесь Р. Корнера и Г. Мелиса. В 1908 г. мы организовали философский кружок, в который входил тогда и наш профессор Риккерт. Не раз я устраивал там дискуссии. Главной темой наших бесед были проблемы гносеологии. Кроме философии Баденской школы, мы основательно изучали Марбургскую школу (Коген, Наторн, Кассирср), а также логику Гуссерля. Позднее вошли также Ф. А. Степун и Б. Яковспко. Здесь возникла мысль об издании «Логоса».
В начале осени 1908 г. я закончил работу «Individuclle Kausalitat» («Об индивидуальной причинности»), которая была принята Риккертом с большой доброжелательностью, а через несколько месяцев основательной подготовки, в марте 1909 г., получил степень доктора summa cum laude (Т.е. «с отличием» (лат.)). Экзамены сдал я плохо, особенно по политэкономии у профессора Шульце-Геверница, и если все же получил, summa cum laude, то лишь благодаря мнению Риккерта о моей работе и благодаря Мейнеке; оба они познакомились с моей работой во время семинарских занятий. Должен признаться, что и позднее мне также не везло на экзаменах. Насколько во время чтения докладов, а затем на своих лекциях я показывал, что могу выражать свои мысли без подготовки, настолько же на экзаменах это качество меня всегда подводило.
На семинаре у Мейнеке я прочел свою работу о политических взглядах жирондистов. Она была встречена с большим одобрением, а позднее была издана по-русски. Работа эта писалась в связи с моими занятиями Французской революцией. В 1906 г. одно издательство в Петербурге предприняло инициативу публикации речей деятелей Французской революции. Директор издательства, знавший лично меня и моего брата, предложил мне участие в переводах. От меня требовалось перевести выступления жирондистов и снабдить их примечаниями. Это была моя первая большая литературная работа. Она значительно углубила мои познания во французском языке и по новой истории благодаря разработке стиля и техники перевода. Уже не помню почему, но книга эта не вышла в свет; издательство, однако, заплатило мне за работу. Зато в 1908 г. под моим именем вышло 2-ое издание «Теории государства» Г. Иеллинека, несмотря на то что я только сверил перевод моего дяди, В. М. Гессена, исправив его и дополнив, согласно тексту последнего немецкого издания.
IV. «Логос»
Получив докторскую степень и совершив вместе с женой путешествие по Швейцарии, Северной Италии и Южной Франции, я обосновался в Петербурге, часто бывая при этом в Москве по вопросам издания «Логоса», редактируемого мною и Степуном. Это был год оживленной деятельности.
В Петербурге я сделал доклад в Философском обществе при университете и участвовал в его собраниях. Благодаря этому я ближе узнал петербургских философов старшего поколения — А. Введенского, Н. О. Лосского и И. Лапшина, С. Франка, Л. Габриловича, моих будущих коллег и друзей. В этом же году при моем участии в Петербурге было создано общество друзей философии, которое собрало все молодые философские силы (Н. В. и Д. Болдыревы, А. Вейдсман и другие, в среде которых была весьма популярна так называемая Марбургская школа). Доклады и дискуссии во время заседаний помогли мне в изучении этого неокантианского течения.
Я завязал сердечную дружбу с членом общества В. Е. Сеземаном, с которым затем вместе готовился к магистерскому экзамену.
В Москве я прочел доклад в философском кружке, собравшемся вокруг М. К. Морозовой, и стал действительным членом редколлегии издательства «Мусагет», в котором выходил «Логос». Часто бывая в собраниях «Мусагета», я встречал представителей символизма, с которыми подружился, особенно с А. Белым и Э. Метне- ром. В то время я изучал сочинения Бергсона «Время и свобода воли» и «Введение в метафизику», которого я перевел на русский язык. Изучал я также L'identite et realite («Тождественность и действительность») Мейерсона, о котором написал большую статью, переведенную затем по просьбе автора на русский язык. Начал я заниматься и русскими философами: В. Соловьевым, А. Введенским, Н. Лосским, И. Лапшиным, которых в то время совершенно не знал. Кроме того, я написал две статьи и серию рецензий для двух номеров «Логоса», а также много других статей и рецензий для газеты «Речь», главными редакторами се были П. Н. Милюков и мой отец.
В начале этого плодотворного периода Жуковским, с которым я позднее подружился, был издан мой перевод «Философии истории» Г. Риккерта.
Весной 1910 г. я был допущен к магистерскому экзамену на историко-философском факультете Петербургского университета, под условием сдачи экзаменов по древней и средневековой истории, аналитической геометрии и физике.<…>
В течение следующих четырех лет, с 1910 по 1914 г., я сновал между Петербургом и Москвой (по поводу «Логоса»), ездил во Фрейбург и Швейцарию, где в основном жила моя жена с ребенком и куда я приезжал надолго во время каникул. Летом 1910 г., кроме подготовки к экзаменам, я занимался Марбургской школой и иосе1цал лекции и семинары Г. Когена, П. Наторпа и начинавшего в то время Н. Гартмана.
Летом 1911 г. во Фрейбурге я слушал лекции по аналитической геометрии Гефтера, лекции по физике, а также посещал семинары Риккерта и Кона и принимал участие в дискуссиях прежнего философского кружка. Кроме того, я, как и раньше, писал рецензии для «Логоса» и для сборников «Новые идеи в философии», издал книгу Риккерта «Наука природы и наука культуры». Я разбрасывался так отчасти по легкомыслию, отчасти из-за необходимости заработка. Из более важных работ я написал только «Философию наказания». Две другие задуманные работы — «Проблема альтруизма» и «Ригоризм и иезуитизм в этике», написанные вчерне и с одобрением принятые во время их чтения в кружке любителей философии в Петербурге и на семинаре Риккерта, — не были закончены и никогда не публиковались. Я легкомысленно откладывал их окончание, полагая найти в будущем необходимое для этого время и постоянно упуская его, да так никогда уже к ним не возвратился.
К сожалению, и позднее я точно так же не завершил друг».Л работ, среди которых была книга по философии Канта; они отняли у меня много времени и стоили большого труда.
Это были годы тесной дружбы с Ф. А. Степуном и Б. А. Кистяковским, жившими в Москве, с В. Сеземаном и Н. Болдыревым, которые жили в Петербурге. Среди новых знакомых вспомню супругов Мережковских и В. Иванова, у которого я часто бывал в Петербурге, а также семейство Р. Б. и Н. В. Шаскольских, с которыми я познакомился во Фрейбурге. С Р. Б. Шаскольским я поддерживал тесную дружбу до самой его смерти в 1917 г., а с Надеждой Владимировной Шаскольской-Брюлловой — вплоть до моего бегства из Петербурга в Финляндию в декабре 1921 г. Во Фрейбурге же летом 1911 г. я встретил Ольгу Александровну Шор, дружба с которой стала в дальнейшем одним из важнейших событий моей внутренней жизни. Дружба эта не раз граничила с большой любовью, которая, как мне казалось, была взаимной. Однако « я упустил все возможности, откладывая решение до более удобной, как мне тогда казалось, минуты, и, отчасти по своей нерешительности, а частью также из-за обычного своего легкомысленного оптимизма, полагал, что в будущем случится что-то такое, что облегчит мой развод с женой, которой, так же, как и детей, я не решался оставить. О. А. Шор, с которой я посещал лекции математики, основательно помогала мне в подготовке к магистерскому экзамену. Беседы с ней не только углубили мой образ мыслей, склонный к банальным конструкциям, но в определенном смысле расширили мой интеллектуальный кругозор, да и все мое миропонимание. Если я никогда больше не увижу ее, то все же хотел бы, чтобы она узнала, что я до конца моих дней сохранил чувство глубокой признательности к ней, которое сопровождалось сознанием утраты огромных возможностей.
V. Начало преподавания
В конце 1912 г. я сдал все подготовительные экзамены, а в 1913 г. приступил к магистерскому экзамену, который в конце того же года сдал не наилучшим образом.
В ноябре 1913 г. прошла моя первая пробная лекция на факультете, а в летнем семестре 1914 г. я начал свою преподавательскую деятельность в качестве приват-доцента. Первая лекция, посвященная ригоризму кантовской этики, прошла весьма слабо.
Несмотря на это, образовалась группа студентов (среди них мой будущий друг Г. Д. Гурвич, позднее значительное меня превзошедший и своими трудами и популярностью), которые весьма прилежно посещали мой семинар по философии Фихте.
С Гурвичем я уже встречался на семинаре профессора Петражицкого, где он читал свой доклад и принимал участие в дискуссии. Мои отношения с профессором Петражицким, который знал меня с детства, становились все более близкими и оставались таким даже тогда, когда он разошелся с моим отцом и оставил редакцию «Права». В это же время началось мое знакомство с профессором М. И. Туган-Бараповским, которого я часто встречал у моего друга Елкина, работы которого, особенно «Курс политической экономии» и «Промышленные кризисы», я хорошо знал. Я ходил на его семинары, а затем подружился с его семьей. Он также охотно бывал у меня и даже приезжал в Царское Село, где я жил в годы войны, с 1915 по 1917 г. По воскресеньям я часто бывал у академика А. С. Лаппо-Данилсвского, беседы с которым основательно углубили мои методологические установки. Весь учебный 1913/14 г., за который я сдал все экзамены и начал читать лекции в университете, я жил у своего друга и коллеги В. Сеземана. Наш дом был не только местом собраний философского кружка, но и редакцией «Логоса», который, после ликвидации «Мусагета», начал выходить в Петербурге в издательстве М. О. Вольфа. В состав новой редакции «Логоса», который должен был выходить четыре раза в год, вошел также В. Сеземан, вместо Яковенко, уехавшего в Италию. Однако в Петербурге вышли только два номера — начало войны положило конец журналу.
VI. Военные годы 1914 — 1916
Когда в июле 1914 г. я уезжал в отпуск к жене во Фрейбург, никто еще не думал о войне. Она застала меня в Гейдельберге, откуда нам не удалось выехать из-за болезни сына. Позднее, в то время как жена и сын смогли выехать особым поездом через месяц после начала конфликта, я был задержан как гражданский пленный, и только в конце сентября, благодаря помощи Макса Вебера, получил разрешение на выезд в Швецию, подписавши обещание не сражаться как доброволец. Я познакомился с Максом Вебером и его женой Марианной еще ранее, у Риккерта, с которым часто виделся во время моего пребывания в Гейдельберге. Бывал я также и у Б. Ласка, который читал мне и группе студентов фрагменты своей новой работы. Она не была издана ввиду гибели автора на фронте. Во время моего вынужденного пребывания в Германии Ф. Степун был призван в армию в самом начале войны, а В. Е. Сеземан пошел на фронт вольноопределяющимся санитарной службы.
В отсутствие редакторов «Логос» прекратил свое существование, и после моего возвращения в Петербург в декабре 1914 г. мне не удалось возродить его к жизни.
Годы войны я провел в Царском Селе, ежедневно бывая в Петербурге, где, кроме лекций в Университете, я имел еще лекции в женской гимназии М. Н. Стоюниной, а также в мужских и женских классах Петер-Шуле при лютеранском приходе. Я читал логику, психологию и педагогику, а на факультете начал чтение лекций по истории педагогики. Педагогика была для меня совершенно неизведанной областью, однако я намеревался заняться ею всерьез. Спустя два года я уже нисколько не думал, что занялся несвойственным мне делом. Летом 1916 г. на курсах, организованных в Петербурге для учителей основной школы, я с большим успехом прочел свой первый курс лекций по педагогике.
Понятно, что преподавание в средней школе очень помогло мне в изучении педагогической теории. Помимо занятий педагогикой, я усилено работал над подготовкой ко второму магистерскому экзамену* над своей книгой по философии Канта; отдельные ее главы я представил во время чтения лекций в университете. Осенью 1917 г. черновик работы был готов; я отработал ее план, все цитаты из работ Канта поместил в соответствующих главах. Большинство разделов было закончено, остальные еще оставались в черновом виде. К сожалению, книга не была закончена. Ее черновик я возил за собой в большой папке, сначала с намерением закончить начатую работу, а позднее уже как реликвию. Я снова обратился к ней в Томске, в связи с лекциями и семинарами, посвященными философии Канта. В годы эмиграции только черпал из нее разные справки, когда, поглощенный иными темами и работой, сталкивался с проблемами, связанными с философией Канта. Когда я жил в Варшаве, большая коричневая папка с пожелтевшими уже от времени мелкоисписанными листками покоилась в ящике моего бюро. В последний раз я воспользовался сю во время Второй мировой войны, при написании очерка «О платоновских и евангельских добродетелях» и глав по философии религии Достоевского. Она сгорела во время Варшавского восстания в августе 1944 г. вместе со всеми моими рукописями.
_________________
*Это был последний, согласно приват-доцентуре, научный экзамен, состоящий в опубликовании книги и проведении дискуссий по ней на факультете. — Прим. ред.
Незадолго до войны С. Чацкина и И. Захер в тесном сотрудничестве с Г. А. Ландау начали издавать ежемесячник «Северные Записки» и предложили сотрудничество всей группе «Логоса». Я написал для «Северных Записок» целую серию статей на философские темы, участвовал в собраниях, устраиваемых редакцией журнала, который очень скоро стал популярен, особенно после публикации в нем «Писем капитана артиллерии» Ф. А. Степуна. Но мое сотрудничество с газетой «Речь», напротив, сократилось. В это время я сблизился с поэтом и литератором Г. Чулковым, который жил со мною рядом в Царском Селе. Дружба с ним значительно расширила мой литературный и лингвистический кругозор. Пушкин, Тютчев, В. Соловьев, А. Блок были темами наших долгих бесед.
VII. Февральская революция
Февральская революция изменила направление моей деятельности. Я продолжал преподавать в школах и в университете и даже работал над диссертацией, душой все же я был с теми, кто стремился удержать революцию в рамках демократического социализма. Хотя я давно порвал с марксизмом, душой, однако, я всегда был на стороне социал-демократической группировки Плеханова ("Единство"). Несмотря на мое кантианство, я, как и раньше, ощущал себя ближе правовому марксизму Плеханова, чем революционному социализму. Полагаю, что причиной тому было мое непреодолимое тяготение к Западу и мой демократический либерализм, заставляющий с подозрением относиться ко всяким проявлениям популизма. Такое умонастроение не могло принести плодов в тяжелую революционную пору. Мои статьи в «Единстве» были образчиком оторванных от реальности теоретических выводов и абсолютно бессильной позиции.
Вместо того, чтобы атаковать противников, я стремился убедить их с помощью бледных, анемичных рассуждений. Моя брошюра «Свобода и дисциплина», напечатанная в десятках тысяч экземпляров, была так же безжизненна и скучна, как и статьи, и, по всей видимости, никогда не была дочитана до конца читателями, которым она предназначалась. Еще хуже обстояло дело с моими выступлениями на митингах. Будучи неплохим и опытным оратором в студенческой аудитории, во время встреч с толпой рабочих я вызывал только раздражение. Мои отменно выстроенные фразы злили, вместо того чтобы убеждать; вскоре раздавались нетерпеливые возгласы, прерывающие мою речь и требующие ее закончить. Это вызывало во мне замешательство, не позволяющее закруглиться вовремя. В моем молодом упорстве (выглядел я тогда очень молодо) аудитория видела только упрямство самонадеянного оратора. Во время одного из таких митингов в Царском Селе я разозлил слушателей до такой степени, что мне едва удалось скрыться через черный ход, когда на меня набросились с кулаками. Впрочем, еще перед революцией, в 1916 г., я имел подобный же провал на собрании, на которое меня пригласили вместе с П. Н.-Милюковым и Ф. Ф. Зелинским. В аудитории была интеллигенция и рабочие. Уже после первых фраз они перестали слушать мои рассуждения о сущности народа и истинном и ложном патриотизме. Я не знал, как из этого выпутаться, и быстро закончил речь. Лекции же свои я, напротив, мог с артистизмом закруглять и заканчивать в течение часа. Моя речь о сущности народа была опубликована в виде статьи в сборнике «Вопросы войны» и вызвала много похвал моих коллег, а также Милюкова и Зелинского.
Несмотря на эту, вполне заслуженную неудачу, редакция «Единства», особенного Плеханов, и в дальнейшем ценила мое сотрудничество и привлекала меня к политической деятельности.
Плеханова, поселившегося в Царском Селе, я видел весьма часто и вел с ним долгие беседы. Он был обаятельным собеседником. Благодаря этим беседам я переосмыслил философские основания марксизма и открыл для себя Плеханова с такой стороны, о существовании которой и не подозревал. В своих сочинениях он был фанатичным и однобоким бойцом, и ему часто не хватало объективизма. В разговорах со мной, напротив, он был мудрецом, удивлявшим широтой кругозора и желанием как можно глубже понять оппонента. В своих работах он сражал наповал, но в нем самом не было ничего от борца. Возвратившись на родину после долгих лет эмиграции, он был сильно напуган тем, что он застал здесь, и не имел уже сил бороться со своими политическими противниками. К тому же возвратившийся туберкулез добивал его все сильнее. Когда я прощался с ним в конце сентября 1917 г., то понял, что дни его сочтены.
Отъезд из Петербурга в Томск положил конец моей бесславной политической деятельности. Еще до начала революции в Томском университете были созданы два новых факультета: естественно-математический и историко-филологический. Растущие трудности жизни в Петербурге и надежда на то, что в провинции я смогу больше времени посвятить науке, привели к тому, что я согласился ехать кандидатом в Томск. Комиссия поручила мне читать лекции по философии.
В конце сентября жена, оба мои сына и я экспрессом отправились в Томск вместе с моим новым коллегой, З.В. Дилем. Перед этим мы провели большую часть месяца в Москве. Жена прощалась с отцом и братьями, а я — с моими московскими друзьями перед отъездом в далекую Сибирь. Насколько в Москве и Петербурге на каждом шагу напоминали о себе признаки войны и революции, настолько здесь, в скором поезде, эта всеобщая дезорганизация жизни была почти незаметна. Экспресс, который отходил только раз в неделю, и прибывал во Владивосток через 10 дней, напоминал скорее некий огромный корабль, чем обычный поезд. До станции Тайга, где было необходимо сделать пересадку, поезд шел всего 4,5 дня. Поезд шел точно но расписанию, и в вагоне-ресторане еще можно было питаться по сравнительно низкой цене. Революция была предметом оживленных споров пассажиров, которые еще не ощутили ее на собственной шкуре. Через 15 дней все решительно изменилось. Наш скорый был предпоследним поездом, нормально отбывавшим из Петербурга.