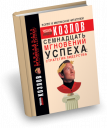ИСКУШЕНИЕ
Отец Иосиф Девочкин, казнохранитель обительский, пришел в свою просторную келью с воеводского совета совсем недужный. Насилу смог он перед святыми иконами помолиться; прилег на широкую скамью и укрылся теплым мехом. Лихорадка трясла его иссохшее тело, в глазах мутилось, чудились ему в тишине и полутьме кельи разные голоса, разные страшные видения. Ворочался больной инок на скамье, стонал, молитвы читал — ничего не помогало: все сильнее мучил его болезненный бред, порожденный черными думами, страхом, отчаянием. Отец казначей был для троицкой братии дорогим человеком, вершил он все дела с мирянами, с прихожанами, с даятелями благочестивыми; хранил и приумножал он казну обители, наперечет все доходы монастырские знал. Но в житейских заботах, в мирских попечениях не почерпнула душа отца Иосифа той чистоты, той крепости, того просветления, которыми были преисполнены сердца других соборных старцев, проводивших ночи и дни в посте и молитве. И больше них привык отец казначей к бренным благам мира сего, больше них дорожил смертной, скоротечной жизнью. Изболелось сердце его при виде разгрома обители, не находил он себе ни покоя, ни утешения. Чей-то лукавый голос нашептывал ему черные мысли, туманил разум; яд горького сомнения, отчаяния жгучего кипел в душе его. Новые и новые муки приносил ему каждый день.
Лежал отец казначей на меховой подстилке, воспаленным взором окидывал он свою келью. Вдруг почудилось ему, что загремели за дверями выстрелы, зазвенело оружие, и не успел он подняться, как вбежала к нему дикая орда обрызганных кровью ляхов. Грозно горели их очи, сверкало их оружие, вопили они неистовыми голосами, ликуя, что взяли святую обитель. Бросились злые враги к отцу казначею, стащили его с ложа, сорвали мантию иноческую, золотой крест. Впились в его руки туго затянутые веревки, бросили его нечестивцы на пол, словно мешок какой. Видит отец Иосиф — стали они по келье шарить, стали с икон золоченые оклады сдирать. Зазвенели в укладке ключи от обительской казны. Рванулся было отец казначей к грабителям, да не смог вырваться из крепких веревок. А злодеи достали ключи; радостно и алчно сверкнув очами, начали отмыкать тяжелые сундуки. Старшие паны поспешили в ризницу. Конец пришел обители.
Заметался отец Иосиф, захрипел — и очнулся. Все пропало: прежняя тишина стояла в горнице, слабо горели перед иконами свечи и лампады. Сотворил испуганный инок крестное знамение, зашептал молитву. Но не отходили от него черные думы. Полежав малость, опять впал он в бред горячечный. Повели ляхи связанного, униженного пленника к себе в стан. С ним рядом, в толпе рыдающей, идут воеводы, архимандрит, старцы соборные, закованные в цепи; подгоняют их плетьми ляшские конные воины, ругаются над ними. В стане вражьем, у шатров, сидят ляшские вожди — Лисовский да Сапега; блещут мечи да топоры кругом. Видит казначей Девочкин: костер горит, над ним краснеет железная, раскаленная решетка. "Вот я вас, черных воронов, за супротивство ваше живьем зажарю!" — гремит гневный голос вражьего вождя. Все ближе и ближе раскаленное железо, чует отец Иосиф, что терзает уже оно его тело. Стонет, вопит казначей, а рядом с ним раздаются стоны и вопли других жертв. Ох, как терзает грудь жестокая боль! Горит кожа, тлеют жилы.
— Отец казначей, здоров ли? — слышит больной над собою чей-то знакомый голос. — Не надо ли тебе чего?
Очнулся опять отец Иосиф. Над ним склонился и с испугом глядел на него старец Гурий; зашел старый инок к казначею случайно, попросить чего-то для раненых. Опять спросил он заботливо больного:
— Не надо ли чего? Озноб, вишь, у тебя. Выпей настою полынного, авось полегчает. Сейчас изготовлю тебе.
Отец Иосиф только головою кивнул: спасибо-де, а говорить невмоготу. Привычно и проворно изготовил старец горькое питье, дал больному, укрыл-уложил казначея поудобнее, послушника позвал.
— Коли что понадобится, за мной сбегай.
И нахлопотавшись, вышел добрый инок из казначейской кельи: еще ко многим надо было ему поспеть, многим муки телесные и душевные облегчить.
Присел послушник на лавке, у дверей, и подремывать стал. Долгое время лежал неподвижно отец казначей: утишило озноб и бред целебное питье. Но страшные видения не прошли бесследно для его смятенного ума; все припоминал он их, все ужасом мучился. "А ну, как все сбудется? — думал он. — Еще и не такие муки придумают нам свирепые ляхи. И чего супротивничать, коли вам Господь беду насылает? Перебьют у нас всех воинов, иноков голыми руками возьмут. То же и воевода Голохвастов говорил сегодня".
Новая мысль пала на ум отцу казначею. Позвал он слабым голосом дремлющего послушника.
— Пойди, Порфирий, к младшему воеводе. Скажи, шлет-де отец казначей поклон ему; недужится-де отцу Иосифу, и просит он воеводу к себе в келью на часок.
Ушел послушник по наказу старца. Тяжко дыша, ожидал Голохвастова больной, поглядывая на дверь.
Не замедлил воевода; благоволил он к обительскому казначею и часто с ним долгие беседы вел.
— Занемог, отец Иосиф? — спросил он, входя и крестясь на образа. — Затосковал, чай? Ну, потолкуем с тобой.
— Ох, Алексей Дмитрич, смерть, кажись, приходит! Сел воевода около больного, нахмурился и ответил:
— Смерти-то и всем нам не миновать, а может, и ждать-то ее, безглазую, недолго придется.
— И моя такая же думка, воевода. Только не понять никак мне, к чему людскую кровь ручьями лить? К чему столько народа неповинного на смерть обрекать?
— Эх, не раз говорил я о том князю да архимандриту — никакого толка нет. Мы-де крест целовали! — возвысил сердито голос Голохвастов. — А я разве не целовал? А я разве не держал присягу крепко, не бился, как воин рядовой? Ведь не об измене толкую им, не о сдаче малодушной. Может, ляхи поумерили бы алчность свою, на уступку пошли бы.
— А как посланец-то их грозил, помнишь, воевода? И в грамоте все написано было. Уж не пожалеют они мук лютых, пыток злобных, когда обитель возьмут! Не пощадят ни седин старцев, ни младенцев, ни жен. Разве это не грех перед Богом? Падет упорство наше на головы невинных! Правда ль в словах моих, воевода? Так ли и ты мыслишь?
— Так, отец казначей. Истину молвил ты. Мне же, ратному человеку, виднее, устоит ли обитель, — и глубоко задумавшись, помолчал воевода. — У меня уж, почитай, половину стрельцов из строя выбили; у князя детей боярских да казаков верных еще менее половины осталось. На послушников да богомольцев нечего полагаться — непривычны к бою. А ляхам-то что: их все новые отряды подваливают. Вон донские казаки-то ушли с Епифанцем, а на их место новая толпа разбойничья приспела денька через три. И пушки-то ляшские лучше, и зелья-то у них много.
— А у нас-то, — подхватил отец казначей, — закрома да кладовые пустеют, вина хлебного запас самый малый. Вдруг, упаси Боже, цинга по народу с холоду да с голоду ударит?! Морозы ведь еще вдвойне надвинутся, а топливо-то кровью достается.
Опять прервалась беседа. Замолчали воевода и инок, друг на друга с опаской глядят: не проговорились ли?
— Порфирий, — сказал вдруг отец казначей послушнику, что опять у двери подремывал. — Выйди-ка вон из кельи.
Оставшись с глазу на глаз с воеводою, повел отец Иосиф издалека свою хитрую речь.
— Тайну хочу открыть тебе, воевода, строго соблюди ее, не то мне худо будет. Давно уж болит душа моя за обитель, давно уже мыслю я, как делу помочь. Коли удаль неразумная воеводы большою гибелью грозит православному воинству и братии, не грех будет нам самим поостеречься. Кабы ты, воевода, со мной заодно был, вышло бы дело доброе. Надумал як ляхам грамотку послать, а в той грамотке написать, что-де не все монастырцы им супротивничают, что многих к бою неволят. Коли-де не разграбите обители да нас живыми отпустите, тогда можно и до сдачи дело довести. Достань-ка в укладке грамотку, воевода, да прочти. Давно уж я ее изготовил.
Хмуря густые брови, Алексей Голохвастов начал казначейскую грамотку читать. Ни он, ни отец Иосиф и не приметили, что в дверь, которую послушник неплотно запер, бесшумно вошел отец Гурий. Он улучил времечко взглянуть на больного и подивился сильно, увидав, что занялся отец казначей беседой с воеводой. Неслышно присел старец на скамью у дверей в темном углу.
— Больно уж ты ляхам много сулишь, отец Иосиф. Разгорятся их глаза алчные — и остального захотят.
Услышал это старец Гурий — весь вздрогнул: слушает…
— Не согласятся они на малом-то, воевода! — простонал отец Иосиф. — Хоть половину казны отдать им надо.
Опять начал Алексей Голохвастов читать уступную грамоту — то хмурилось, то просветлялось лицо его.
— Что ж, — молвил он наконец, — попытать можно.
— Так даешь свою подпись, воевода? — обрадовался отец казначей. — Вот перо новое, здесь пиши.
Даже на скамье приподнялся немощный инок от великого нетерпения. Взял Алексей Голохвастов перо, пододвинул к себе оловянную чернильницу и хотел писать имя свое на изменничьей грамоте. Поднялся тогда отец Гурий из темного угла своего, и словно гром небесный, поразил его грозный голос малодушных:
— Помедли, воевода! Остановись, отец казначей. Умыслили вы худое… Предал вас Господь нежданно-негаданно в руки мои. Достойны вы суда и кары великой!
Прежде чем успели опомниться воевода и казначей, подошел к ним старец вплотную, вырвал у них властно из рук изменничью грамоту и у себя на груди под рясу спрятал. Потом к двери шагнул и громко кликнул послушников; целая толпа их в казначейскую горницу тотчас ввалилась.
— Бегите за отцом архимандритом, за князем-воеводой, — наказал им поспешно отец Гурий. — Чтобы, не медля, сюда шли! Скажите, беда приключилась.
Двое послушников бегом бросились из дверей, остальные в горнице остались. Старец, вперив грозный взор в преступников, преграждал им путь к выходу. Но они о бегстве и не помышляли. Алексей Голохвастов сидел на лавке, понуря голову; багровые жилы вздулись на его челе, вниз были опущены хмурые очи. Стыд терзал младшего воеводу, и ждал он покорно всенародного позора, суда и справедливой кары. Отец Иосиф Девочкин онемел от ужаса, весь трясся, как былинка под ветром, и закрывался от людских глаз теплым мехом. Изредка глухо и жалобно стонал он и бормотал что-то несвязное, сбивчивое. Послушники у дверей боязливо перешептывались и поглядывали, дивясь, на доброго старца Гурия, что в такой необычный гнев впал сегодня. Запыхавшись, вошли, наконец, в келью казначея отец Иоасаф и князь Долгорукий. Не дал им старец Гурий слова вымолвить, вон выслал послушников и протянул архимандриту изменничью грамоту.
— Прочти, отче, с князем-воеводою. Измену я накрыл.
Изумлением и гневом засверкали очи князя Григория Борисовича, глубокая скорбь темным облаком покрыла кроткое лицо игумена. Не нашлись они сперва, что и сказать.
— Сейчас хотел воевода Голохвастов ту грамоту тоже подписать, — молвил, негодуя, старец Гурий.
Алексей Дмитрич все сидел на лавке неподвижно — даже и головы не поднял.
— Ты ли это, товарищ мой ратный?! — с гневом и горестью воскликнул князь. — Ты ли это, с нами святой крест целовавший не отдавать обители?!
Отец архимандрит молча подошел к лежавшему казначею, открыл лицо ему и в глаза глянул. Мутны и воспалены были очи больного, дикий бред срывался с запекшихся губ его.
— Ляхи! Ляхи! — бормотал отец казначей. — Костры горят, решетка железная калится. Жгут, режут мое тело грешное! Ой, спасите!
— Без памяти он, — сказал архимандрит, отходя от лавки. — Может, Господь и совсем разум у него отнял; раньше нас покарал за грех его великий!
Муки совести, ужас и новый приступ жестокой горячки вконец обессилили, вконец подавили дух и тело отца казначея. Подошел к нему старец Гурий, осмотрел, головой покачал и перекрестился.
— Не дожить ему до утра! Наказал Бог изменника! Поднялся тут с лавки воевода Алексей Голохвастов, встал смело перед архимандритом и князем и вымолвил твердым голосом:
— Вижу вину мою, каюсь! Открылись ныне глаза мои, понял я искушение духа лукавого. Не о милости прошу, не о прощении — делайте со мной, что хотите! Предайте пыткам, казни позорной — все перетерплю! Готов я теперь стоять за обитель святую. Верю в помощь Божию и святого Сергия. Въявь они ныне чудо сотворили: открыли наш замысел черный! Отрекаюсь от него и от сообщника своего, Богом наказанного! В вашей воле я теперь — казните ли, помилуете ли.
Молчал князь Долгорукий, сурово сдвинув густые брови.
Отец Иоасаф зорко вглядывался в лицо младшего воеводы: правдиво смотрели очи Алексея Голохвастова, правдой звучал его твердый, громкий голос. Ласково ему руку на плечо положил отец архимандрит.
— Вижу, чадо мое, твое раскаяние искреннее. Но победи и гордость свою непокорную, не ради нас, а ради того дела святого, которому крест мы целовали. Пади в ноги, как виновный передо мной, игуменом обительским, перед князем, главным воеводой царским.
Не сразу смирилось буйное, мятежное сердце Алексея Голохвастова; сам с собой боролся он, темные тени пробегали по лицу его. Наконец, совесть победила.
— Винюсь! Простите меня, грешного! — воскликнул он и упал архимандриту и князю в ноги. — Винюсь!
Смягчился князь, поднял ратного товарища с земли; архимандрит благословил кающегося.
— Дайте мне вину искупить, — взмолился им Алексей Голохвастов, видя их сердечную доброту. — Должник я вечный перед святым Сергием, хочу крепко послужить Чудотворцу. Не пожалею ни крови, ни жизни моей!
— Ладно, воевода. Отныне будешь ты всегда передовую дружину вести в бою и в вылазке. Удали-то тебе, я знаю, не занимать. Обнимемся, товарищ ратный!
Со слезами радости глядел архимандрит на примирившихся воевод, да и очи обительских вождей тоже слезами увлажнились. Чуяли все, что спасена грешная, заблудшая душа, что избег человек лукавого искушения. Отец Гурий снова в свой угол отошел и шептал там про себя благодарственное моление.
— Ну, что было — быльем поросло, — весело крикнул князь Долгорукий. — Идем, воевода, на стены — поглядим, не затевают ли ляхи какого лукавства нового. Нет им покоя, нечестивцам!
Дружно вышли воеводы из кельи. Архимандрит взглянул на хрипевшего и бившегося отца Иосифа и подозвал старца Гурия.
— Облегчи страдальцу час последний. Не покидай его одного в недуге тяжком. Все же в нем душа человеческая теплится. Я тут неподалеку буду, дошли за мной, коли кончаться станет. Помилуй его, Господи!
И добрый архимандрит оставил горницу, где боролась с лютой смертью полупотухшая человеческая жизнь.
Сел отец Гурий поближе к умирающему, освежил ему пылающую голову студеной водой. "И за что погиб человек? — думал печально добрый старец. — Слаба душа смертного, стережет ее отовсюду с соблазнами и искушениями лукавый враг. И не увидишь, как вползет он змеей ядовитой в сердце, к греху потянет". Отрывистее становилось дыхание отца Иосифа, чаще метался он на своем ложе. Видно было опытному оку старца Гурия, сведущего в лечении болей телесных, что давно уже подтачивал тайный, злой недуг силы казначея и напал теперь на его слабое тело, как на верную добычу. "А мне-то и невдомек было, — сокрушался старец. — Может, словом кротким да разумным обратил бы я его на путь правый!"
Дико вскрикнул больной, приподнялся на скамье.
— Ляхи! Ляхи! Взяли обитель! Не мучьте меня, не палите огнем мое тело старое. Половину казны обительской отдам. Сдержу слово! Пощадите! Ох, тащат меня на пытку. Спаси, святой Сергий! Не слышит меня угодник Божий! Грешник я, грешник великий!
Как ни успокаивал старец Гурий больного, ничто не помогало. Вопли сменялись стонами, напали на казначея жестокие корчи. Увидал старый инок, что близка смерть, — послал за архимандритом.
Когда бледный, усталый отец Гурий уже вечером вошел в свою малую келью — подивились на него и молодцы, и Грунюшка, и раненый Ананий. Молча сел он на лавку, и не дерзнул никто прервать его глубокого, печального раздумья. В келье только что живая беседа шла, раздавался веселый смех беззаботного Суеты — а теперь смолкли все, притихли.
— Ох, тяжко грешной душе с телом расставаться! Чует она правый суд Божий, дрожит и страшится, за бренный прах крепко держится! А праведная душа с радостью покидает оболочку земную и стремится к небесному блаженству.
— Отец Гурий, — осмелился прервать старца скорый на язык Тимофей Суета. — Правда ли, что здесь про отца казначея говорили: будто он…
Не дал старец Суете кончить речи:
— Преставился отец Иосиф, и теперь душа его в руках Божиих. Там воздастся ей суд правый!
Замолк Суета, и никто уже не тревожил глубокого, печального раздумья старца.