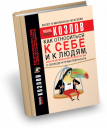|
|
Гейнсборо. Голубой мальчик |
Мистер Кэрби разглядывал пейзаж Гейнсборо, только что законченный им. Художник старался вместить в картину все на свете и при этом явно отдавал предпочтение вещам, приятным для глаз. Река, мирные поселяне, рощи, скалы, дома предместья, женщина с корзиной белья, горы вдали; а на первом плане фигура юноши, созерцающего все эти красоты. Кэрби решил, что и у Гейнсборо есть желание угодить вкусам публики, но чувство меры и такт его выручают, а вслух он спросил, показывая на фигуру юноши:
А это что? Автопортрет со спины? Гейнсборо улыбнулся.
Ты считаешь затылок лучшей частью моей головы?
В синих сумерках над крышами госпиталя звенели призывы колокола церкви святой Марии. Кэрби сидел в кресле, сосредоточившись перед темной картиной Томаса, и, казалось, думал совсем о другом.
— Кстати о Хогарте, — начал он медленно. — В одном из домов Лондона мне довелось…
Одиннадцать лет они прожили в Ипсвиче. Родилась вторая дочь, Маргарет. Томас работал, ездил к заказчикам. «Чета Эндрюс», «Мистер Кэрби с женой», «Чета Браун», портреты эсквайров на лоне любимых полей. Провинциальная импозантность с оттенком мягкого лиризма, интимности.
Современники вспоминают: «Его приветливые манеры внушали любовь к нему всех, с кем сталкивала его профессия, было ли это в хижине или во дворце. Ему была присуща особая манера держаться, которая не могла не оставить приятного впечатления. Многие дома в Саффолке, так же как и во всей окрестности, были всегда для него открыты, и владельцы их почитали для себя счастьем принимать его… Старые лица крестьян освещались радостью при воспоминании о многочисленных проявлениях его доброты и щедрости».
Бат — это в Западной Англии, недалеко от Бристоля.
— Очаровательный солнечный город. В последние дни римского владычества его серные ванны были особенно знамениты. Здесь бывает все высшее общество Англии и даже король.
Так говорил Томасу его новый друг Филипп Тикнес, уговаривал переехать в Бат, обещал свое покровительство.
Пятьдесят фунтов в год — это солидная плата. На краешке круглой, недавно отстроенной площади Томас и Маргарет сняли дом. Уютный, приветливый, с высокими окнами бельэтажа, каждое окно обрамляют колонны — так и ждешь, что послышится музыка. Поблизости королевский дворец, парк «Виктория», главная улица, которую называют Веселой.
«Это цвет голубой или небесный? Это жемчужный, это чайная роза». Томас рассматривал комнаты — много воздуха, света, широко и свободно, и, как всегда, немного жаль прежнего дома на Лэндсдаунроад — дороге, ведущей в холмистые рощи окрестностей Бата.
…Сегодня накрапывал дождь. Капли воды, разбиваясь о подоконники, стреляли в комнаты. Казалось, что площадь уже не площадь, а пруд, круглый водоем, по рябой поверхности которого кое-где разбросаны шкурки осенней листвы, с черным фонтаном деревьев в середине.
Тусклый день миновал. Вечером были гости. Дождь утих, за окнами светлая ночь. Томас рисует, устроившись у камина. Свечи горят, да иногда вздрагивают рябые уголья. Томас рисовал, присутствие Маргарет давало забвение и свободу. Но он всегда ощущал ее близость, и в его воображаемом полете над землею, над прошлым она была с ним. Он ей показывал страны, путников на дороге, нагромождения скал, уходящие все дальше и дальше в тот светозарный мир, где он был и создатель и пилигрим… Серебристый свинцовый карандаш, полосатое зерно бумаги, капельки светлых белил… Это были лесные сцены с животными и собирателями хвороста, это были сцены с парусами, водопадами, хижинами, долины, полные солнца, где он встретил ее четверть века назад.
— Бедняга Шеридан… был так мрачен… говорят, он просил руки Элизабет, но Линли ему отказали.
— Линли не понимают, что Ричард Шеридан, может быть, самый достойный из всех.
— Всего-навсего сын актера из «Ковент-Гарден».
— Знаешь, что сказал доктор Джонсон о «письмах» лорда Честерфильда, которые сегодня так осуждал Шеридан? Он сказал: «Эти письма должен читать каждый образованный человек, хотя они и безнравственны».
— Ты пошлешь в академию последний портрет Гаррика?
— Я пошлю пять портретов, и в том числе Гаррика.
Томас целует жену и относит рисунки к себе в мастерскую; раздвинув портьеру, поднимает оконную раму… вглядывается в ночь…
1772 год. Тринадцать сезонов провели они в Бате, курорте высшего света, под сенью статуй римлян в туниках и лавровых венках, с серьезными, озабоченными лицами; среди калек на костылях и лордов, среди искателей богатых невест и женихов, шулеров, актеров, музыкантов и всяких прочих джентльменов, приезжавших сюда в жаркие летние дни; в тени колоннад продаются цветы, в городе много магазинов и парикмахерских, стекло их витрин множит, перемешивает людскую суету, пропускает ее сквозь решетки оград… Но вот ты вышел, остановился, припаянный черною тенью к брусчатке, вот двинулся по серым квадратным плитам и стал их считать, как памятник, меняющий постаменты, ты идешь, человек, по улицам, городам своей страны, пока не застынешь, отлитый в бронзе, на какой-нибудь площади, перекрестке и шляпа твоя, треугольная шляпа, не станет чашей, собирающей воду для птиц…
Говорят, что я не умею рисовать, что я недоучка. Я ненавижу гипсы, эти холодные, мертвые локоны, эти мышцы, застывшие, гладкие, как белый студень. Я не изучаю складок, я передаю их движение; я не прощупываю кости черепа и места прикрепления мышц, когда изображаю лицо, я пишу взгляд, улыбку, молчание. Конечно, я стараюсь передать портретное сходство, но словно кто-то другой управляет моими руками, притягивает, крадет взгляд… И эти герои моих портретов уже не мои; вся их внешность, вся их оболочка, весьма скромно представленная, в лучшем случае — элегантно, внешность остается моей до конца, а жизнью, дыханием, прошлым и будущим управляю не я. Я действительно недоучка, но что-то всегда меня выручает.
Поэтому те, кто имеет портреты свои кисти ученого сэра Джошуа Рейнольдса, все же приходят ко мне, чтобы заказать мой безграмотный, непрофессиональный портрет. В нем они находят что-то другое, необъяснимое, необходимое, и они поселяют мою картину в свой дом, повинуясь какому-то смутному, безотчетному инстинкту, который движет простыми людьми, соблюдающими правила древних поверий. Исчезновение всякой картины — потеря для дома; исчезновение картины моей делает дом пустынным, ее может заменить или восполнить разве что полоска лунного света… Да, да, ибо все они чуточку «лунные», чуточку «потусторонние»…

|
|
Гейнсборо. Портрет герцогини де Бофор |
Виднейшие люди Англии позируют Томасу Гейнсборо, их жены, их дети позируют Томасу Гейнсборо; он умножает коллекции замков аристократов, ему дорого платят, он достиг совершенства. Но он, он всего только мастер, артист, он недолюбливает всю эту публику, и он не может, не имеет права ненавидеть модель; он обязан, он вынужден восхищаться, и он помещает своих героев в сумерки тенистых парков, соединяя в отрешенной картинности движение рук и стволов деревьев, влажность взгляда и воздуха, легкость одежды и зыбкость листвы. Его кумир и учитель — природа и естество… и картины Ван Дейка… чистота и нежность; их много в Англии на стенах картинных холлов. Томас не знает мастера более совершенного, чем Ван Дейк. Ни Рембрандт, ни Рубенс, ни Мурильо, ни Хогарт. Ван Дейк привез в Англию отголоски великолепия венецианцев, которых он видел в Италии, — Тициана, Джорджоне; но северный гений окрасил печалью всю эту пышность, весь этот расцвет. Придворный художник английского короля Карла I, художник, возведенный в дворянское звание королем, которого через несколько лет обезглавили, был так же, как Томас, сыном торговца тканями. Гейнсборо высветлил и отдалил торжественность и грусть ван-дейковских картин, превратил в прекрасную мечту, в отраженье, в приглушенное эхо реальности. И это во всем: в холодноватой нежности красочной гаммы, в застывшей непринужденности позы, в улыбке, в наклоне, в легкости пальцев руки, в легкости прикосновения кисти к холсту. Томас пишет картину, чуть касаясь холста мазками разбавленной красочной массы, мягким кончиком кисти. Лишь кое-где, в самых светлых местах — грудь, плечи, шея и лоб — он использует слой белил, с тем чтобы залить его жидким светящимся слоем легкого тона. Его мазки — дождь, его мазки — искры, порхающие в сгустках поверхности, точные выстрелы, маленькие мотыльки, сверкающий, текучий стеклярус. От зелено-оливковых и песочных к бархатистому золоту, от фарфорово-белых, серебристых, жемчужных до чистой воды голубого камня.
…Годы и годы, сезон — не сезон; годы… портреты, визиты, концерты, морщины, бессонница. Томас работает по ночам.
Бат, вишнево-мраморный, роскошный Бат превратился для него в жаровню летом и в каменный мешок зимой… с удушливым запахом серной воды. Утомительна праздность и тягостна; праздность вокруг. И этот бесконечный парад — вереница заказчиков.
Снова он пишет пейзажи — целые дни в лесах Клавертона, Уорли…
Вальтер Вилтшайр — курьер от Бата до Лондона. Живет он в окрестностях Бата; Томас часто его навещает, нуждаясь в услугах. А дальше, всего в нескольких милях, живет Эдвард Орпин, церковный псаломщик, беседа с которым одно удовольствие… Сестры, родные сестры Сусанна и Мэри, — замужние дамы, теперь живут в Бате…
Шеридан обвенчался с невестой во Франции. Сильное чувство, вызов обществу, молодые не возвращаются в Англию…
…И к этой серой лошади, что всегда он седлал у Вилтшайра, Томас привык, может быть, потому, что только она, только серая лошадь, разделяла с ним эти часы любованья, просветленного отдыха здесь, в долинах реки Эйвона.
Ссора с Тикнесом улеглась, и его великодушный покровитель по-прежнему склонен искать его общества в роли патрона: «Я провел три дня в обществе Гейнсборо…», «Мисс Тайлер позирует Гейнсборо…», «Я получил подарок от Гейнсборо…»
Да, мой друг, мистер Тикнес, теперь произносить имя Гейнсборо — признак хорошего тона, но я не забуду, как Вы любили рассказывать, что дети мои бегали по Ипсвичу без башмаков и чулок тогда, когда не было Вас, моего дорогого патрона.
Нужно пойти к этому немецкому профессору, у которого, говорят, есть теорб*, такой, как я видел в картине Ван Дейка. Инструмент так блестяще написан… научиться играть и на лютне, хоть с виолой-да-гамба я никогда не расстанусь…
Страницы истории Англии — этапы жизни Гейнсборо. Солома, птичьи гнезда, болота и топи Корнардского леса в Сэдберри; городские ворота, монастырские стены и корабельные мачты Ипсвича; колоннады, витрины и площади Бата; парки, соборы, театры, мосты и дворцы Лондона…
_______________
* Теорб — музыкальный инструмент, разновидность лютни.
1774 год. Гейнсборо в Лондоне.
На королевском троне Англии Георга II сменил честолюбивый и неуравновешенный король Георг III Стюарт. В парламенте у него есть опора в лице королевских друзей во главе с Уильямом Пит-том. Представители молодой буржуазии объединяются в партию вигов, сторонники монархии — в партию тори, к которой будет принадлежать и Гейнсборо.
Несколько лет назад, когда сэр Джошуа Рейнольде создал академию художеств и стал ее первым и бессменным президентом, в число академиков был избран также и Гейнсборо.
Девизом Георга III было: «Помощь, покровительство и содействие грациям». Академия именовалась королевской. С 1769 года Гейнсборо посылает свои работы на выставки академии в Лондоне.
Это было время, когда главным в обществе было искусство приличий, когда все грани человеческой жизни становились искусством. Умение грациозно стоять и ходить, умение красиво построить фразу, умение спорить. Это было время, когда среди молодежи было принято задавать себе строгий или легкомысленный тон поведения на день, на вечер, и искусство быть печальным ценилось так же, как искусство быть щедрым. И Гейнсборо лучше, чем кто бы то ни было, чувствовал и выразил в своих картинах все внешние стороны этих приличий, и в то же время искренность и чистота его образов явились прямым укором великому искусству притворства.
Его заметил король. Пригласил в Букингемский дворец. Он писал короля Георга, он писал королеву Шарлотту, он писал трех принцесс, он работал в Виндзоре, он стал любимцем всей королевской семьи.
Гейнсборо в зените славы.
…Дни стояли удушливые, дни, когда почти не чувствуешь времени года, когда цветение лета, зелень, плоды, земля — все покрывается матовым желтоватым налетом не пыли, а лесса, какой-то глиняной пудры.
И сегодня вдруг к вечеру, когда людям уже казалось, что не следует верить глазам, что все давным-давно глухи, что мир — это обман, что все это серое, полуистлевшее, тусклое, безжизненное, погребенное, несуществующее… вдруг задвигался воздух, завертелись смерчи этой буроватой рассеянной пудры, люди заметались, предчувствуя разрешенье, прорыв к атмосфере, к небу, к дождю; и вот уже туча, и первые робкие молнии, и первые капли, и запахи пересохшей земли и электричества.
В золоченой карете, сопровождаемый слугами в шитых ливреях, сэр Джошуа приближался к Сент-Джеймскому парку, близ которого в доме Шомберга на Пэлл Мэлл умирал Томас Гейнс-боро.
Оленей сегодня не видно на территории парка, думал сэр Джошуа, когда-то это был просто болотистый луг, Генрих VIII осушил его и создал олений парк. Джеймс I получил для него в подарок верблюдов, Карл II пригласил садовника Ле Нотра, чтобы сделать парк элегантным и приятным садом во французском вкусе. Так размышлял сэр Джошуа Рейнольде, в кармане которого лежало письмо, полученное им от Гейнсборо:
«Дорогой сэр Джошуа!
Боюсь, что Вы не станете читать то, что я Вам пишу теперь, после этих шести месяцев, что я смертельно прикован к постели. Особое расположение, как мне сообщил друг, которое сэр Джошуа выразил по отношению ко мне, побудило меня просить последней благосклонности, а именно — навестить меня и посмотреть на мои вещи, моего «Лесника» Вы никогда не видели. Если то, о чем я прошу, не будет Вам неприятно, удостойте меня чести говорить с Вами. Я могу сказать от чистого сердца, что всегда восхищался и искренне любил сэра Джошуа Рейнольдса.
Т. Гейнсборо».
Рейнольде подъехал к дому — две черные кариатиды поддерживали массивный балкон. И только теперь, взявшись за кольцо двери, Рейнольде понял, как нужен ему был Гейнсборо, человек, с которым они иногда ссорились, вспыльчивый и импульсивный, но открытый всегда для настоящего. Ведь их только двое великих художников Англии…
Слуга поклонился.
Поднявшись по лестнице, Рейнольде увидел картины, картины старых мастеров, которые были у Гейнсборо. Над камином висела небольшая работа Томаса — «портрет» двух любимых собак, Тристрама и Фокса. Их блестящие милые глаза смотрели на парадные портреты Ван Дейка, на классические пейзажи Пуссена, на «Иоанна Крестителя» Мурильо, вознесшего взор к небесам, — беспомощные и искренние зрители, не понимающие спектакля Великого и Возвышенного Искусства Живописи, не понимали и всей торжественности визита президента. На стене висело пять виол-да-гамба.
Сэра Джошуа проводили к больному. Мэри была неотлучно у постели отца. Гейнсборо приподнялся навстречу президенту. Оба знали, что эта встреча последняя.
Высокий, прямой, уже седой Рейнольде внимательно склонился к лицу Гейнсборо. Над постелью больного висела картина, написанная в Ипсвиче: дочери Томаса — Мэри и Маргарет детьми в лесу ловят бабочку.

|
|
Гейнсборо. Портрет Сарры Сиддонс. |
— Стрелка городского барометра бьется у надписи «Буря», — Рейнольде перевел дыхание.
— Мне трудно доброжелательно думать о том, что творится на небесах, — спокойно ответил Гейнсборо.
Желтый свет заполнял постепенно комнату. Это август, последний месяц лета.
Рейнольдса провели в мастерскую. Там было прибрано. Большой холст «Лесник, застигнутый грозой» стоял на мольберте, .впитывал свет. «Гейнсборо написал грозу, которая будет сегодня».
Энергично, тревожно, неистово. Глаза лесника смотрели в небо: трудно доброжелательно думать о том, что творится на небесах; у ног лесника жался мокрый длинноногий пес.
Рейнольде заметил кусочки цветного стекла, камни и палки с комочками мха на полу.
Желтый свет стал густеть.
Гейнсборо попросил достать смотровой ящик и зажечь в нем свечи. Мэри показала сэру Джошуа прозрачные пейзажи отца на стекле. В увеличении линзы просеянный свет зажженных свечей вспыхнул перед глазами Джошуа Рейнольдса широкими горящими пейзажами Гейнсборо в теплых и золотистых тонах…
Просмотр окончен, погашен огонь.
За окном непонятное. Ощущение «гроза будет» сменяется ощущением «после грозы» без дождя. Флажок флюгера башни застыл, слуги снова несут носилки вокруг сквера. В комнате стало светлеть.
— Теперь, сэр Джошуа, вы видите, что я тоже люблю золотистую гамму, — Гейнсборо было тяжело говорить. — Я снова возвращаюсь в детство, к цветным стеклышкам, зеркалам и зайчикам. Я чувствую такую нежность к моим ранним голландским пейзажам.
Рейнольде понял, что Гейнсборо просит простить его за то, что он написал «Голубого мальчика», за то, что он вышел победителем в негласном споре между ними, который невольно возник, когда он, президент, провозгласил в своей академической речи, что основой картины может быть только теплый тон — телесный, коричневый, красный; что холодные — голубые, зеленые, серые — могут быть только аккомпанементом, оттеняющим основное звучание теплых. Гейнсборо доказал обратное своим «Голубым мальчиком», доказал достойно, как мастер, делом. Мало кто это понял тогда. Только художники.
Так думает Рейнольде. Может быть, он не знает, что Гейнсборо и не собирался с ним спорить, что голубая сюита началась с портрета племянника Эдварда, двенадцатилетнего мальчика, который постоянно бывал у Томаса в мастерской и всегда в голубом; что склонному к «меланхолии» Гейнсборо просто приглянулось голубое, и он написал его в голубом костюме, а в портрете Джонатана Буталла усовершенствовал этот костюм, добавив ван-дейковский воротник, плащ и шляпу с пером.
Художников это тогда потрясло.
Возбужденный Хеймен, вернувшись к себе в мастерскую, воскликнул:
— Гейнсборо написал необыкновенную картину «Голубой мальчик» так же прекрасно, как Ван Дейк!
Мэри Мозер писала: «Гейнсборо превзошел себя в портрете джентльмена в ван-дейковском костюме».
А он, сэр Джошуа, молчал. Он купил у Гейнсборо его картину из крестьянской жизни «Девочка со свиньями» и дал ему сто гиней вместо шестидесяти. Но сегодня об этом не нужно.
— Как ваши питомцы в академии? — спросил Гейнсборо.
Рейнольде ответил одобрительным жестом.
— А у меня всего лишь он один, — кивнул Гейнсборо на стройного юношу Дюпона, своего племянника.—Меня это заботит. И угнетает сознание того, что только теперь я начал понимать себя и избавляться от многих просчетов. Моя лучшая вещь еще не написана.
Рейнольде уходил с гнетущим чувством потери… и гордости за своего современника. «Он потянулся ко мне как человек, преследуемый той же погоней, и как человек, достойный своего доброго имени и сознающий свое превосходство». С этой мыслью он садился в карету.
Через три дня Гейнсборо умер.
Его последним словом было слово «Ван Дейк». Его племянник и единственный ученик Гейнсборо-Дюпон был распорядителем похорон. В последний путь его провожали родные и близкие. Был Рейнольде, был Шеридан, был Томас Линли, художники и друзья. Среди приглашенных на похороны был и господин Джонатан Буталл.
Гейнсборо похоронили на кладбище Кей, рядом с могилой старого друга Джошуа Кэрби.
В одном из музеев Калифорнии, в Сан-Марино, хранится шедевр английского живописца Томаса Гейнсборо — портрет Джонатана Буталла, известный всему миру как «Голубой мальчик».
На фоне тревожного неба на земле стоит юноша в атласном костюме. В сумрачном воздухе вечера он является вам среди трав и камней, как озаренное странным светом видение, как голубое сияние, зыбкое и блистательное.
Он стоит твердо и в любую минуту готов взмахнуть шляпой и побежать, вскочить на коня и умчаться. Мимолетный, рассеянный свет .морщит складки камзола. Он сосредоточен как будто на вас, и в то же время глаза его смотрят скорее в себя или дальше, куда-то вперед, минуя вас, за деревья, за дождь, за горизонт. Мальчишеское озорство и грация, таинство и чистота. Сын торговца железными и скобяными товарами с Греческой улицы в Лондоне.