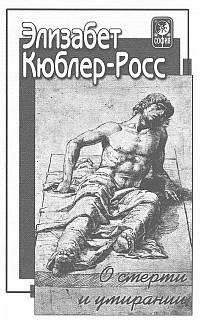
Элизабет Кюблер-Росс. О смерти и умирании
От чтения книги можно уклониться, но нельзя уклониться от проблемы.
Проблема в том, что умирать придется каждому. Хуже того, почти каждому приходится провожать самых близких — в этом случае невежество и беспомощность не просто вредны и жалки: они безнравственны.
Смерть — такое же великое событие, как и рождение. А подготовка к ней, умирание, — такая же полноценная часть бытия, как и детство. Нет второстепенных, не важных этапов жизни, каждый этап богат по-своему. И если мы отворачиваемся от умирающих, лишая их последнего богатства — душевного общения, то должны быть готовы к тому, что так же поступят с нами наши потомки.
Эта книга — учебник: она учит разумному и достойному поведению перед лицом смерти. Учит медиков-профессионалов и детей, милосердных знакомых, близких и дальних родственников, врагов и друзей умирающего — все мы, оказывается, плохо знаем предмет.
Мы хотели бы, чтобы те, кому придется готовить и провожать нас в последний путь, вначале прочитали эту книгу.
Памяти моего отца и Сеппли Бачер
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда меня спросили, не хочется ли мне написать книгу о смерти и умирающих, я восприняла идею с большим энтузиазмом. Но стоило мне присесть и поразмыслить над тем, во что я ввязалась, как все предстало в совершенно ином свете. С чего начать? Какие материалы включить в книгу? Что я смогу рассказать незнакомым людям, читателям, как мне поделиться с ними опытом общения с умирающими? Это общение происходит большей частью без слов — его нужно ощущать, переживать, видеть. Как передать это словами?
Я работала с умирающими больными последние два с половиной года. Моя книга расскажет о начале этого эксперимента, который в итоге стал для всех его участников важным и поучительным опытом. Это не учебник, посвященный уходу за умирающими, и не исчерпывающий справочник по их психологии, Моя книга—просто документальный отчет о новой и многообещающей возможности увидеть в больном человека, вовлечь его в беседу, узнать от него сильные и слабые стороны обращения с пациентами в наших больницах. Мы попросили больного стать нашим наставником, помочь нам больше узнать о завершающих стадиях жизни со всеми их тревогами, страхами и надеждами. Я просто пересказываю истории своих пациентов, которые делились с нами своими муками, ожиданиями и отчаянием. Я надеюсь, что эта книга поможет нам не отводить глаза от безнадежных больных, а сблизиться с ними, ведь все мы в состоянии оказать им огромную помощь в последние часы жизни. Те редкие люди, кому уже доводилось делать это, понимают, что подобные переживания приносят пользу обоим: они узнали много нового о деятельности разума и об уникальных гранях человеческого существования. Они обогатились этим жизненным опытом и, скорее всего, с меньшим беспокойством относятся к собственной бренности.
ГЛАВА I. О СТРАХЕ СМЕРТИ
Я не молю Тебя дать мне убежище от бед; дай лишь бесстрашие, чтобы лицом к лицу их. встретить.
Я не прошу избавить меня от страданий; дай мужество, чтобы их превозмочь.
Я не ищу союзников в жестокой битве жизни; я собираю собственные силы.
Не дай мне изнывать от страха и тревоги, спасения безвольно ожидая; дай мне надежду и терпение — и я добьюсь свободы.
Не дай мне трусом жить и уповать лишь на Твою спасительную милость; но дай мне ощутить поддержку Твоей руки, когда я буду падать.
В прошлом эпидемии наносили огромный урон целым поколениям. Смерть в раннем детстве и младенчестве была обычным явлением. Редкая семья не теряла хотя бы одного ребенка. За последние десятилетия уровень медицины резко изменился. Всеобщая вакцинация практически уничтожила множество болезней — во всяком случае в США и Западной Европе. Применение химиотерапии и, в частности, антибиотиков внесло большой вклад в уменьшение смертности от инфекционных болезней. Улучшение образования и медицинской заботы о детях существенно снизили заболеваемость и смертность в раннем возрасте. Покорены многочисленные недуги, которые прежде уносили жизнь миллионов подростков и представителей среднего возраста. Число пожилых людей неуклонно растет, но одновременно возрастает и количество тех, кто страдает злокачественными опухолями и прочими хроническими заболеваниями, связанными, главным образом, с преклонным возрастом. Педиатрам все реже приходится сталкиваться со случаями острых, несущих угрозу жизни осложнений, но в то же время у них увеличивается число пациентов с психосоматическими нарушениями, проблемами поведения и адаптации. В приемных появляется все больше больных с эмоциональными расстройствами; постоянно растет и количество пожилых пациентов, которым приходится не только мириться с возрастными ограничениями и упадком физических возможностей, — они сталкиваются также с тревогами и муками одиночества и изоляции. Большинство этих больных не обращаются к психиатру, поэтому их нужды должны понять и удовлетворить другие специалисты, например социальные работники или священники. Именно им я попытаюсь объяснить, какие перемены произошли за последние десятилетия — перемены, вследствие которых усилился страх смерти, возросла частота эмоциональных расстройств, увеличилась потребность в сопереживании и помощи перед лицом умирания и смерти.
Оглядываясь в прошлое, изучая древние культуры и народы, мы обнаруживаем, что смерть всегда была для человека отвратительной — и, похоже, останется такой в будущем. С точки зрения психиатра это вполне понятно и, вероятно, лучше всего объясняется основополагающим представлением о том, что наше подсознание считает собственную смерть совершенно невозможной. Оно, подсознание, просто не в силах представить себе прекращение своего существования на земле. Если нашей жизни и суждено оборваться, то такая гибель неизменно приписывается какому-то злонамеренному вмешательству со стороны. Говоря проще, наше подсознание в лучшем случае способно допустить, что нас убьют, но смерть от естественных причин или от старости остается непостижимой. Таким образом, смерть ассоциируется у людей со злодеянием, пугающей неожиданностью, чем-то таким, что само по себе призывает к возмездию и наказанию.
Помните об этих фундаментальных фактах, поскольку они чрезвычайно существенны для понимания самых важных — ив противном случае остающихся неясными — подробностей общения с нашими пациентами.
Следующий факт, который мы должны усвоить, заключается в том, что на подсознательном уровне мы не способны отличить желание от поступка. Каждый помнит примеры тех нелогичных сновидений, где бок о бок сосуществуют два совершенно противоположных утверждения. В сновидении это не кажется чем-то особенным, но в состоянии бодрствования становится немыслимым и алогичным. Подсознание не в силах различить желание убить кого-то в приступе ярости и само действие, настоящее убийство. Ребенок тоже не способен провести такое различие. Рассерженный малыш, втайне желающий матери смерти за то, что она не исполнила его капризы, перенесет тяжелейшую травму, если мать действительно умрет — пусть даже это событие не совпадет по времени с разрушительным пожеланием. Он навсегда возложит ответственность за смерть матери на себя. Он будет постоянно твердить себе (а изредка и другим): «Это я сделал, я виноват. Я вел себя плохо, и мама ушла». Следует помнить, что ребенок реагирует точно так же, когда расстается с кем-то из родителей в результате развода или отчуждения. Смерть часто кажется ему состоянием временным, то есть ребенок почти не отличает ее от развода, даже если время от времени имеет возможность встречаться с «ушедшим» отцом или матерью.
Многие родители могут вспомнить примечательные высказывания своих детей, например: «Сегодня мы похороним нашу собачку, а весной, когда появятся цветы, она снова оживет». Возможно, такими же надеждами руководствовались древние египтяне, снабжавшие своих усопших едой и вещами, и индейцы, которые хоронили родственников со всеми пожитками.
Когда мы взрослеем и начинаем понимать, что не так уж всемогущи, что даже самого сильного желания не достаточно, чтобы сделать возможным невозможное, страх того, что мы каким-то образом причастны к смерти любимого человека, постепенно слабеет, а вместе с ним угасает и чувство вины. Однако этот страх продолжает тлеть и не проявляется лишь до тех пор, пока мы вновь не столкнемся с горькими переживаниями. Следы этого ужаса можно ежедневно видеть в больничных коридорах, на лицах тех, кто потерял своих близких.
Муж с женой могут скандалить годы напролет, но, когда один из супругов умирает, оставшийся в живых рвет на себе волосы, заламывает руки, стонет и рыдает от горя, страха и скорби. С этого мгновения он начинает еще сильнее бояться собственной смерти, так как верит в закон воздаяния: око за око, зуб за зуб. «Я виновен в ее гибели, и в наказание мне суждено умереть страшной смертью».
Возможно, эти факты помогут нам понять множество давних обычаев и обрядов, которые сохранялись на протяжении веков. Их смысл — уменьшить гнев богов или людей, общества, смягчить предстоящее наказание. Я имею в виду посыпание головы пеплом, разорванные одежды, траурные вуали и стенания скорбящего — все это означает просьбу пожалеть их, выражает горе, мучение и стыд. Когда оставшийся в живых заламывает руки, рвет на себе волосы или отказывается от еды, его поведение отражает попытку наказать самого себя и тем самым избежать предполагаемой кары за смерть близкого человека.
Скорбь, стыд и чувство вины не так уж далеки от ощущений гнева и обиды. Печаль всегда подразумевает определенные признаки рассерженности. Поскольку никто из нас не желает признаваться в том, что сердится на покойного, эти чувства обычно тщательно скрывают и подавляют, увеличивая срок траура или проявляя их иными способами. Не нам осуждать подобные чувства, расценивать их как дурные или постыдные. Наша задача заключается в том, чтобы понять подлинные причины и смысл этих очень человеческих реакций. Чтобы пояснить это, я вернусь к примеру ребенка — ребенка, который кроется в душе любого человека. Пятилетний малыш, потерявший мать, обвиняет в ее уходе себя, но в то же время сердится на нее за то, что она исчезла и уже не исполняет его желания. Таким образом, покойный человек одновременно вызывает у ребенка равные по силе любовь и ненависть за такое жестокое наказание.
Древние евреи считали тело усопшего чем-то нечистым, к нему нельзя было прикасаться. Американские индейцы стреляли в небо из луков, чтобы отогнать прочь злых духов. Во многих культурах существовали обряды, призванные ублажить «злонамеренных» покойников. Источником всех таких ритуалов был гнев, который до сих пор кроется в каждом из нас, хотя мы и не любим это признавать. Традиция установки надгробий вполне могла основываться на желании удержать злых духов под землей. Камни, которые в наши дни скорбящие укладывают на могилу покойного, представляют собой пережитки того же стремления, его символическое отражение. Хотя мы привыкли называть стрельбу из ружей на военных похоронах прощальным салютом, это такой же символический обряд, какой отправляли индейцы, когда пускали в небо стрелы и копья.
Я привожу эти примеры, чтобы подчеркнуть одну мысль: по сути своей человек ничуть не изменился. Смерть до сих пор остается для него пугающим, отталкивающим событием, а страх смерти — всеобщим явлением, даже если нам кажется, что мы почти избавились от него.
Изменилось кое-что другое: то, как мы ведем себя перед лицом смерти и умирания, перед лицом наших умирающих пациентов.
Я выросла в европейской провинции, где наука была еще мало развита, современные технологии только начали прокладывать себе путь в медицину, а люди жили так же, как полстолетия назад. Возможно, благодаря этому мне выдалась возможность быстрее других изучить определенную грань развития человечества. Мне вспоминается смерть одного крестьянина, свидетелем которой я стала в раннем детстве. Он упал с дерева и смертельно поранился. Он был обречен. Крестьянин попросил, чтобы ему дали возможность умереть в собственном доме, и это желание исполнили безоговорочно. Когда его уложили в спальне, он вызвал к себе дочерей и переговорил с каждой из них наедине. Затем он, несмотря на сильные боли, спокойно уладил текущие дела, распределил имущество и землю, наказав при этом не проводить раздела земель, пока будет жива его жена. Кроме того, крестьянин попросил всех своих детей разделить между собой заботы, обязанности и дела, которыми до несчастного случая занимался он сам. Наконец, он попросил друзей посетить его еще раз, чтобы попрощаться с каждым. Хотя я была тогда совсем маленькой, он не требовал, чтобы меня и моих сверстников увели из дома. Нам позволили принять участие в подготовке к неминуемому и вместе со всеми горевать о случившемся, пока крестьянин не скончался. Его тело оставили в доме, который он построил собственными руками. Друзья и соседи приходили, чтобы в последний раз взглянуть на покойного, а он, усыпанный цветами, ждал их в том месте, где жил и которое так любил. В тех местах и сегодня нет надуманных залов для последнего прощания, там не пользуются бальзамированием и фальшивым гримом, призванным создавать иллюзию сна. Если болезнь оставила на теле неприглядные отметины, его просто прикрывают повязками. Тело выносят из дома до погребения только при угрозе инфекционного заражения.
Зачем я описываю такие «старомодные» обычаи? Думаю, они указывают на способность смириться с неизбежным концом, помогают и умирающему, и его семье свыкнуться с потерей близкого человека. Если больному разрешают расстаться с жизнью в знакомой, приятной обстановке, это причиняет ему меньше душевных мук. Домашние прекрасно знают его привычки, они понимают, что успокоительное иногда можно заменить стаканом любимого вина, а аппетитный аромат супа может вызвать у него желание проглотить несколько ложек жидкости — что, на мой взгляд, намного приятнее, чем внутривенное вливание. Я не пытаюсь приуменьшить значение успокаивающих препаратов и капельниц. Благодаря личному опыту работы сельским врачом я прекрасно понимаю, что эти средства нередко спасают жизнь и временами совершенно незаменимы. Но я знаю и другое: заботливые, знакомые люди и домашняя пища могут заменить десяток капельниц, которые ставят больному только потому, что внутривенное питание удовлетворяет все его физиологические потребности и не отнимает много времени у медсестры.
Когда детям позволяют оставаться в доме обреченного, участвовать в разговорах и обсуждениях, ощущать тревоги взрослых, у ребенка возникает чувство, что он не одинок в своем горе. Это чувство приносит утешение разделенной ответственности и общей скорби, постепенно готовит ребенка к неминуемому, помогает воспринимать смерть как часть жизни, а такой опыт обычно способствует взрослению и развитию.
Полной противоположностью становится общество, где смерть считается темой запретной, разговоры о ней воспринимаются болезненно, а детей полностью изолируют от подобных вопросов под тем предлогом, что для них это «слишком серьезно». Детей чаще всего отправляют к родственникам, нередко сопровождая такое решение неубедительной ложью («Мама уехала далеко и вернется не скоро»). Ребенок чувствует подвох, и его недоверие к взрослым лишь усиливается, когда другие родственники дополняют неправдоподобные выдумки новыми подробностями, избегают подозрительных вопросов либо осыпают малыша подарками — скудными заменителями потери, которую ему не позволяют осмыслить. Рано или поздно ребенок осознает перемены в жизни семьи и, в зависимости от возраста и характера, либо предается безутешной скорби, либо воспринимает случившееся как пугающий и загадочный (но в любом случае травмирующий) произвол не заслуживающих доверия взрослых, с которыми он не в силах тягаться.
В равной степени неблагоразумно убеждать потерявшую брата девочку в том, что Господь очень любит маленьких мальчиков и потому забрал Джонни на Небеса. Малышка выросла, стала женщиной, но ей так и не удалось избавиться от гнева на Бога. Три десятилетия спустя, когда она потеряла собственного сына, это привело к психотической депрессии.
Можно было бы предполагать, что широкая эмансипация, достижения науки и познания о человеке должны предоставить нам больше возможностей для подготовки себя и своей семьи к неизбежным трагедиям; однако давно миновали те дни, когда человеку позволяли спокойно, с достоинством умереть в собственном доме.
Похоже, чем больших успехов добивается наука, тем сильнее мы боимся, тем яростнее отвергаем достоверность явления смерти. Почему так получилось?
Мы пользуемся иносказаниями, мы придаем покойным внешний вид спящих, мы отсылаем детей к родственникам, чтобы оградить их от тревог и страданий, которые царят в доме, если больному посчастливится умирать именно там. Мы не позволяем детям навещать умирающих родителей в больницах, мы ведем многословные и противоречивые дискуссии о том, следует ли говорить обреченным пациентам правду — но такой вопрос редко возникает, если об умирающем заботится семейный врач, который наблюдает больного с рождения до самой смерти и к тому же прекрасно знает сильные и слабые стороны характера всех членов его семьи.
Думаю, есть много причин, почему мы избегаем открыто и хладнокровно смотреть в лицо смерти. Один из важнейших фактов заключается в том, что сегодня процесс смерти стал намного ужаснее, он связан с одиночеством, механичностью и бесчеловечностью. Временами мы даже не можем точно определить, когда именно наступил момент смерти.
Смерть тесно связана с одиночеством и обезличенностью, так как больного нередко извлекают из привычного окружения и спешно переносят в реанимацию. Любой, кому довелось пережить тяжелую болезнь и кто нуждался в те минуты в покое и удобствах, может вспомнить, что он чувствовал, когда его укладывали на носилки и торопливо везли под вой сирены к воротам больницы. Только те, кто испытал это, могут в полной мере оценить неудобства и бездушную поспешность подобной перевозки, которая становится лишь предвестием последующих мучений. Это трудно выдержать даже здоровому человеку, что же касается больного, то он просто не в силах выразить словами, как трудно ему перенести шум, тряску, мелькание огней и громкие голоса. Быть может, нам пора разглядеть под грудой одеял и простыней самого человека, прекратить погоню за эффективностью и вместо этого просто подержать больного за руку, улыбнуться ему или ответить на простой вопрос. Часто бывает, что поездка в «скорой помощи» становится первым этапом процесса смерти. Я умышленно преувеличиваю рассказ о ней, противопоставляя его истории больного, которого оставили дома. Это совсем не значит, что не нужно бороться за жизнь человека, если его можно спасти только в больнице, — просто нам всегда следует удерживать в центре внимания переживания пациента, его потребности и реакции.
Когда человек тяжело болен, к нему часто относятся так, будто он лишен права на личное мнение. Кто-то другой принимает решения о том, стоит ли отправлять его в больницу, как и когда это сделать. Неужели так трудно помнить о том, что у больного человека тоже есть чувства, желания, мнения и, самое главное, право на то, чтобы его выслушали.
Итак, наш предполагаемый больной уже попал в реанимационную палату. Там его окружают озабоченные медсестры, санитары, интерны и ординаторы. Один лаборант берет анализы крови, другой снимает электрокардиограмму. Пока больного просвечивают рентгеновскими лучами, он слышит над головой мнения о собственном состоянии, оживленные споры и вопросы, адресованные членам семьи. С ним постепенно начинают обращаться как с неодушевленной вещью. Он уже не личность, решения принимаются без его участия. Если же он попытается возмущаться, ему просто дадут успокоительное. После долгих часов ожидания, когда он уже лишается последних сил, пациента перевозят на каталке в операционную или палату интенсивной терапии, где он становится предметом пристального внимания и выгодного капиталовложения.
Он может молить о покое, отдыхе и сохранении собственного достоинства, но, если необходимо, ему все равно сделают вливания, переливания, искусственное кровообращение или трахеотомию. Тщетно он будет просить, чтобы один-единственный человек отвлекся на одну-единственную минуту и ответил на один-единственный вопрос, — добрый десяток суетящихся вокруг специалистов будет деловито следить исключительно за частотой пульса, электрокардиограммой или лёгочными функциями, показателями секреции и экскреции, то есть заботиться о жизнедеятельности, а не о живом, человеке. У больного может возникнуть желание остановить их, но сопротивляться бессмысленно, ведь все делается ради спасения его жизни. Когда сохранишь пациенту жизнь, можно подумать и о его личности, но, если думать прежде о личности, упустишь драгоценное время и не сможешь спасти жизнь! Во всяком случае, такими рациональными доводами оправдывают подобное поведение, но в том ли подлинные причины? Не объясняется ли этот механический, обезличенный подход нашим стремлением оградить себя от смерти? Быть может, таким способом мы пытаемся подавить тревогу, которую пробуждает в нас вид обреченного человека или больного в критическом состоянии? Сосредоточенность на приборах и давлении крови может означать отчаянные попытки отвернуться от надвигающейся смерти, мысль о которой так пугает, так беспокоит, что мы переносим все свое внимание на машины, ведь они не вызывают бурных чувств — в отличие от искаженного страданиями лица другого человека, в очередной раз напоминающего нам о том, что мы не всемогущи, что у наших возможностей есть границы, а последней и самой главной из них остается, судя по всему, наша собственная смерть!
Вероятно, пора задаться вопросом: какими мы становимся, более человечными или более бездушными? Эта книга не призвана давать нравственные оценки, но, каким бы ни был ответ на поставленный вопрос, вполне очевидно, что в наши дни больной страдает больше — если не физически, то эмоционально. За последние столетия его желания ничуть не изменились, изменилось лишь наше умение их исполнять.
ГЛАВА II. ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ И УМИРАЮЩИМ
Люди жестоки, но человек добр.
Влияние общества на отношение к смерти
Прежде мы говорили о личном отношении человека к смерти и умирающим. При взгляде на общество в целом возникает целый ряд вопросов. Что происходит с человеком в том обществе, где принято избегать темы смерти? Какие факторы усиливают тревожное восприятие смерти? Что творится в постоянно меняющейся области медицины? Что, наконец, представляет собой сама медицина — гуманное почетное занятие или современную, но обезличенную науку, которая ставит перед собой задачу продления жизни, а не избавления человека от мучений? Студенты-медики имеют возможность выбора среди десятков лекций о ДНК и РНК, но практически не получают знаний об основах взаимоотношений между врачом и больным, которые когда-то были азбучными истинами для любого уважающего себя семейного врача. Что происходит в обществе, где коэффициент умственного развития и общественное положение важнее, чем тактичность, чуткость, восприимчивость и хороший вкус, которые облегчают чужие страдания?
В профессиональной сфере начинающий студент-медик завоевывает признание коллег своими исследованиями и лабораторными работами, проводимыми на протяжении первых лет после окончания института, но он не может найти нужные слова, когда больной задает ему простейшие вопросы. Если бы удалось сочетать последние достижения науки и технологии с таким же вниманием к человеческим взаимоотношениям, мы действительно могли бы сделать огромный шаг вперед, но пока что новые знания передаются студентам за счет деградации личного общения. Во что превратится общество, которое уделяет основное внимание не личности, а статистическим показателям и общей массе? В наши дни мединституты стремятся расширять количество учащихся и неуклонно уменьшают часы личного общения преподавателей со студентами: живых наставников заменяет замкнутая цепь телевизионных занятий, магнитофонных лент и видеофильмов, которые позволяют обучать большее число студентов почти обезличенным способом.
В других сферах человеческого общения перенос центра внимания с личности на общую массу оказался еще радикальнее. Оценивая происшедшие за последние десятилетия перемены, мы заметим проявления этого повсюду. В старину человек имел возможность встретиться со своим врагом лицом к лицу. У него было немало шансов на личное столкновение с видимым противником. Теперь и солдатам, и гражданским приходится принимать во внимание оружие массового уничтожения, лишающее возможности не только увидеть угрозу, но и ощутить ее приближение. Смерть может обрушиться как гром среди ясного неба и, подобно сброшенной на Хиросиму атомной бомбе, мгновенно унести тысячи жизней. Гибель может явиться в облике отравляющего газа или другой формы химического оружия — незримой, калечащей, убивающей. Уже нет личности, которая борется за свои права, убеждения, честь или безопасность семьи, — есть только прямо или косвенно втянутый в войну и лишенный шансов на выживание народ, в том числе женщины и дети. Вот тот вклад, который наука и технология внесли в неуклонно возрастающий страх уничтожения, смерти.
Удивительно ли, что человеку приходится укреплять свою защиту? Если у него остается все меньше возможностей уберечь себя физически, то, разумеется, многократно усиливается психологическая защита. Он не может вечно отрицать неизбежное. Он не в силах постоянно притворяться, что ему ничто не угрожает. Если же мы не в состоянии отрицать смерть, остается попытаться обрести власть над ней. Мы присоединяемся к бесконечным гонкам на автострадах, а затем просматриваем в газетах статистику жертв несчастных случаев и мысленно содрогаемся — но одновременно втайне и радуемся: «Не я, а другой. Пронесло».
Разнообразные группы людей, от уличных банд до целых народов, могут воспользоваться принадлежностью к группе, чтобы выразить свой страх перед уничтожением особым способом: нападая на другие группы и уничтожая их. Быть может, война — просто проявление потребности встретиться со смертью лицом к лицу, покорить ее, выйти из этого поединка живым, то есть причудливая форма отрицания собственной смертности? Один из наших пациентов, умиравший от лейкемии, с искренним неверием произнес:
«Как я могу умереть? Господь не допустит этого, ведь я выжил даже во Второй мировой, когда пули свистели в считанных сантиметрах от меня».
Другая женщина выразила свое потрясение и неверие, рассказывая о «несправедливой смерти» молодого человека, только что вернувшегося из Вьетнама и погибшего в дорожной аварии, — словно способность выжить на поле боя должна была застраховать его от несчастных случаев.
Шанс на сбережение мира может быть обнаружен в отношении к смерти глав государств, тех людей, которые принимают окончательные решения о войне или мире между народами. Если бы все мы предприняли искреннюю попытку хладнокровно обдумать собственную смерть, совладать с окружающими тему смерти тревогами и помочь остальным свыкнуться с подобными мыслями, в нашем мире, возможно, стало бы меньше разрушительных сил.
Информационные агентства могли бы внести существенный вклад в новый подход и помочь людям открыто взглянуть в глаза смерти, если бы избегали безличных оборотов — скажем, перестали называть «формой решения еврейского вопроса» уничтожение миллионов мужчин, женщин и детей либо «захватом высоты во Вьетнаме, во время которого было уничтожено пулеметное гнездо, а вьетконговцы понесли тяжелые потери» — человеческие трагедии и гибель живых людей с обеих воюющих сторон. В газетах и прочих средствах массовой информации очень много образчиков подобного бездушного языка.
Итак, стремительное развитие техники и достижения современной науки позволили человеку открыть не только новые возможности, но и новые виды оружия массового уничтожения, которые, как я убеждена, усиливают страх жестокой, катастрофической смерти. Человеку приходится самыми разнообразными способами психологически защищать себя от этого возросшего страха смерти и невозможности предвидеть такую гибель, уберечься от нее. С психологической точки зрения, мы еще какое-то время способны отрицать достоверность собственной смерти. Подсознание не в силах представить себе прекращение собственного существования, оно уверено в бессмертии своей личности, но без труда мирится с гибелью соседа. Новости о многочисленных жертвах войны и несчастных случаев лишь укрепляют нашу убежденность в собственном бессмертии, позволяют нам втайне, в уединенном уголке подсознания радоваться тому, что «вот он, следующий, но это не я».
Если же отрицать смерть уже невозможно, мы пытаемся покорить ее, бросить ей вызов. Если человек носится по шоссе на высокой скорости либо возвращается домой из Вьетнама, у него действительно возникает ощущение бессилия смерти. Почти ежедневно мы узнаем из новостей, что убиваем в десять раз больше врагов, чем теряем своих солдат. Неужели это наше самое заветное желание, проекция инфантильного стремления к всемогуществу и бессмертию? Если целый народ, целое государство страдает от страха смерти и отрицает ее как явление, ему приходится прибегать к определенным защитным механизмам, и механизмы эти могут быть только разрушительными. Войны, восстания, рост убийств и прочих преступлений могут служить признаками ослабления нашей способности смотреть в лицо смерти со смирением и достоинством. Может быть, нам пора вернуться к отдельной личности, живому человеку, и начать все сначала: попытаться представить себе собственную смерть, научиться открыто встречать это печальное, но неизбежное событие, избавившись от своего иррационального страха.
Какую роль в эти изменчивые времена играет религия? В прошлом намного больше людей не сомневалось в существовании Бога. Они верили в загробную жизнь, избавлявшую человека от мучений и боли. На небесах людей ждала награда, и если они страдали тут, на земле, то после смерти получали воздаяние в соответствии с мужеством и милосердием, терпением и достоинством, с какими влачили свое бремя. Самих мучений в старину было намного больше, ведь роды тогда оставались естественным, долгим и болезненным событием — но, когда ребенок появлялся на свет, мать встречала его в полном сознании. У страданий был смысл, они должны были вознаграждаться в будущем. Сегодня, в попытках избавить рожениц от боли и агонии, мы даем им успокаивающие средства. Мы можем даже приурочить роды ко дню рождения члена семьи либо, наоборот, сделать так, чтобы они не совпали с другими важными событиями. Многие матери приходят в себя лишь через несколько часов после рождения младенца, но и тогда женщины слишком одурманены наркозом, чтобы порадоваться появлению ребенка на свет. В муках уже нет большого смысла, так как лекарства способны избавить человека от болей, зуда и прочих неприятных ощущений. Уже давно растаяла вера в то, что за земные муки нас ждет награда на небесах. Страдания потеряли свое значение.
Однако, наряду с этими переменами, все меньше людей по-настоящему верят в жизнь после смерти, что само по себе указывает, вероятно, на неверие в собственную смертность. Поскольку у нас уже нет надежд на загробную жизнь, приходится задумываться о смерти. Мы не ждем вознаграждения за муки, и потому страдания становятся бессмысленными. Если мы участвуем в церковных мероприятиях только ради общения либо танцев, значит, церковь лишилась изначального предназначения: вызывать надежду, придавать смысл земным трагедиям, подводить к пониманию необъяснимых и мучительных событий.
Религия потеряла много тех, кто верил в жизнь после смерти, то есть в бессмертие, и в этом смысле, как ни парадоксально, уменьшила страх смерти — в отличие от общества, которое его усилило. С точки зрения смертельно больного, это был невыгодный обмен. Религиозное отрицание смерти, то есть вера в осмысленность земных страданий и награду после смерти, приносило надежду и понимание, а общественное отрицание не предложило ни того, ни другого, Оно лишь усилило тревогу, укрепило разрушительное и агрессивное стремление: убивать, чтобы уйти от действительности и забыть о собственной смертности.
Каким станет будущее? По всей видимости, в обществе возрастет количество людей, чья жизнь будет поддерживаться искусственными заменителями важнейших органов и компьютерами, время от времени проверяющими, не нужно ли заменить электронными устройствами другие физиологические функции. Увеличится число центров, где будут накапливаться необходимые технические данные; когда больной испустит последний вздох, мигающая лампочка покажет, что оборудование следует отключить.
Получат распространение и другие центры, где умерших будут быстро замораживать и размещать в специальных сооружениях в ожидании того дня, когда наука и технологии станут достаточно развитыми, чтобы разморозить тела и вернуть их к жизни в обществе. Что касается общества, то оно к тому времени может оказаться настолько перенаселенным, что только особые комиссии будут решать, сколько людей можно разморозить. В наши дни подобные комиссии определяют, кто из больных получит дефицитный орган для пересадки, а кто будет обречен на смерть.
Эта картина может выглядеть ужасной, невероятной, но, к сожалению, все это начинается уже сегодня. В нашей стране нет законов, которые запретили бы предприимчивым людям зарабатывать деньги на страхе смерти, воспрепятствовали бы авантюристам рекламировать и продавать за огромные деньги возможность продолжения жизни после долголетнего замораживания. Такие организации уже существуют, и хотя мы вроде бы шутим на тему, имеет ли право вдова замороженного человека получить страховку или снова выйти замуж, эти вопросы в действительности слишком серьезны, чтобы не обращать на них внимания. По существу, они отражают фантастически глубокое отрицание, до которого опускаются некоторые люди, не желающие открыто взглянуть в лицо смерти. Похоже, пришло то время, когда представители всех профессий и религиозных взглядов должны сообща задуматься об этом, иначе общество окончательно омертвеет и само уничтожит себя.
Теперь, после того, как мы бросили взгляд в прошлое, когда человек встречал смерть хладнокровно, и в довольно пугающее будущее, пора вернуться к настоящему и очень серьезно задуматься о том, что можем сделать мы как личности. Очевидно, что мы не в силах изменить тенденцию к повышению важности числовых показателей, так как в нашем обществе царят массы, а не личности. Группы в мединститутах продолжают расширяться, нравится нам это или нет. Будет увеличиваться и число машин на автострадах, и количество людей, чья жизнь поддерживается приборами, — чтобы понять это, достаточно оценить достижения кардиологии и сердечной хирургии.
Так или иначе, мы не можем вернуться в прошлое. Мы не можем обеспечить каждому ребенку поучительный опыт простой сельской жизни с ее близостью к природе и ощущением естественного круговорота рождений и смертей. Духовным пастырям едва ли удастся вернуть большую часть людей к вере в загробную жизнь, которая придала бы смерти какой-то смысл, пусть даже ценой определенного отрицания смертности.
Мы не можем закрывать глаза на существование оружия массового уничтожения. Возвращение в прошлое невозможно. Наука и технология позволят нам заменять все больше жизненно важных органов, и потому важность вопросов, связанных с жизнью, смертью, донорами и реципиентами многократно возрастет. Нынешние и грядущие поколения столкнутся с множеством юридических, моральных, этических и психологических трудностей. Нашим потомкам придется все чаще решать вопросы жизни и смерти — быть может, до тех пор, пока и эти решения не начнут принимать компьютеры.
Хотя каждый человек находит свои способы отложить мысли о подобных проблемах, пока судьба не ставит его перед острой необходимостью их решать, он сможет что-либо изменить только после того, как начнет задумываться о собственной смерти. Это невозможно сделать на уровне общей массы. Это не по силам компьютеру. Каждый человек должен сделать это сам. Каждый из нас хотел бы избежать этой проблемы, но рано или поздно всем приходится с ней столкнуться. Если бы все мы начали с размышлений о возможности собственной смерти, последствия таких раздумий повлияли бы на все сферы нашей жизни и, самое главное, на благополучие наших пациентов, семей и, наконец, народа в целом.
Подлинный прогресс наступит, когда мы начнем обучать студентов не только значению научных технологий, но и искусству человеческих взаимоотношений, заботы о человеке вообще и о больном в частности. О великом обществе можно будет говорить, если мы перестанем злоупотреблять наукой и технологиями, направлять их на разрушение и заменять человечность средствами продления жизни. Тогда научные достижения позволят нам освободить больше времени для личного общения, соприкосновения человека с человеком.
Открыто встречая неизбежность собственной смерти, смиряясь с ней, мы наконец-то сможем достичь мира — и душевного покоя, и мира между народами.
Примером сочетания медицинских, научных достижений и человечности может служить описанная ниже история болезни г-на П.
В возрасте пятидесяти одного года г-н П. попал в больницу с быстро развивающимся амиотрофическим латеральным склерозом, затрагивающим продолговатый мозг. Он не мог самостоятельно дышать, страдал от мокроты в легких, а после трахеотомии у него возникла инфекционная пневмония. Из-за воспаления легких он потерял способность говорить. Лишенный возможности высказать свои потребности, мысли и чувства, больной просто лежал в постели и слушал пугающий шум аппарата для искусственного дыхания. Мы, вероятно, никогда не услышали бы о нем, если бы к нам не обратился за помощью один из его лечащих врачей. Он пришел к нам в пятницу и попросил поддержки. Он имел в виду не столько пациента, сколько самого себя. Слова врача выражали чувства, о каких редко говорят вслух. Став лечащим врачом г-на П., он был потрясен его страданиями. Пациент был сравнительно молод, а характер его неврологического заболевания требовал огромного внимания и заботы медсестер, хотя это, к сожалению, могло продлить его жизнь лишь на короткий срок. У жены больного был рассеянный склероз, и в течение последних трех лет она была полностью парализована. Больной мечтал умереть, так как с ужасом думал о двух парализованных в доме, когда один вынужден просто смотреть на мучения другого, не в силах ему помочь.
Эта двойная трагедия вызвала у врача большую тревогу и решительное стремление спасти пациенту жизнь «независимо от его состояния». В то же время врач прекрасно понимал, что это противоречит желанию самого больного. Его усилия были успешными, несмотря на развитие коронарной непроходимости, которая существенно осложнила течение болезни. Доктор справился и с этой трудностью, и с пневмонией, но когда пациент начал оправляться от осложнений, возник вопрос: что делать теперь? Больной мог жить только с помощью искусственного дыхания, под круглосуточным надзором. Он не мог говорить и даже пошевелить пальцем, но при этом полностью сохранял рассудок и прекрасно сознавал, насколько плачевно его состояние. Врач быстро заметил явный скептицизм больного в отношении попыток спасти его жизнь. Больше того, он понял, что пациент рассержен этими попытками. Что оставалось делать врачу? Кстати, он уже просто не мог ничего изменить. Он сделал все возможное, чтобы продлить пациенту жизнь, но теперь, когда это удалось, больной проявлял только осуждение (нарочитое или неподдельное) и гнев.
Мы попытались разрешить проблему в присутствии самого больного, так как он был важнейшей частью происходящего. Когда мы изложили ему причины нашего прихода, г-н П., похоже, заинтересовался этой мыслью. Он был явно удовлетворен тем, что мы ведем разговор в его присутствии, то есть, несмотря на неспособность говорить, считаем его полноценным человеком. Описывая проблему, я предложила ему кивнуть головой или подать нам какой-то другой знак, если ему не хочется обсуждать эту тему. Его взгляд был красноречивее слов. Он явно пытался сказать что-то еще, и мы принялись искать средства, которые позволили бы ему высказаться. Лечащий врач, который с облегчением разделил с нами свое бремя, проявил большую изобретательность: он ненадолго отключал трубку дыхательного аппарата, так что больной успевал произнести на выдохе несколько слов. Во время таких бесед всех захлестнул целый поток чувств. Больной особо подчеркивал, что боится не умереть, а продолжать жить. Он прекрасно понимал положение врача, но потребовал от него, чтобы тот «помог мне жить на этом свете, где так решительно старался меня удержать». После этих слов больной улыбнулся; улыбнулся и врач.
Когда врач и пациент смогли поговорить друг с другом, атмосфера разрядилась. Я описала противоречивые побуждения врача, и больной посочувствовал ему. Затем я спросила, чем мы можем помочь ему сейчас. Он объяснил, что впал в отчаяние, когда потерял способность говорить, писать и хоть как-то общаться. Он был очень благодарен нам за несколько минут совместных усилий, позволивших всем поговорить, — это принесло ему облегчение на несколько последующих недель. Во время нашей следующей встречи я заметила, с каким удовольствием больной рассуждает о возможной выписке и переезде на Западное побережье, «если, конечно, мне удастся найти там дыхательный аппарат и сиделку».
Этот пример показывает, в какие трудные положения попадают многие молодые врачи. Они изучают способы продления жизни, но очень редко обсуждают определение понятия «жизнь». В описанном случае больной достаточно обоснованно полагал, что он «мертв, если не считать головы». Трагедия заключалась именно в том, что он полностью сознавал свое состояние, но не мог и пальцем пошевелить. Если трубка дыхательного аппарата причиняла ему боль, он не мог сообщить об этом сиделке, которая была рядом круглосуточно, но так и не придумала способа общения с пациентом. Мы слишком легко миримся с тем, что «тут уже никто не поможет», и сосредоточиваем внимание на приборах, а не на выражении лица больного, которое может рассказать намного больше, чем самое совершенное устройство. Когда у пациента возникает зуд, а он не может пошевелиться и почесаться, обездвиженность целиком занимает его мысли, беспокойство становится паническим и доводит его до «грани безумия». После того, как наши пятиминутные разговоры стали регулярными, больной заметно успокоился, а мелкие неудобства уже не так ему досаждали.
Кроме того, беседы избавили врача от сомнений, сожалений и чувства вины. Убедившись, что это откровенное и простое общение приносит большое облегчение и утешение, он начал проводить разговоры самостоятельно, а мы просто играли роль первоначального катализатора.
Я твердо убеждена, что такими и должны быть взаимоотношения врача и пациента. Я не думаю, что всякий раз, когда они не могут найти общего языка, когда врач не может или не хочет обсуждать с больным самые важные вопросы, необходимо прибегать к помощи психиатра. Помимо того, я считаю, что молодой врач проявил большое мужество и настоящую зрелость, когда признал существование проблемы и обратился за помощью — вместо того чтобы избегать и возникшей трудности, и общения с пациентом. Задача заключается не в том, чтобы найти специалистов по работе с умирающими больными, а в том, чтобы подготовить работников больниц к подобным трудностям, научить их самостоятельно находить решения. Я уверена, что молодой врач из нашего примера уже не испытает былых мучений и трудностей, когда столкнется с подобным случаем в следующий раз. Он постарается остаться врачом и сохранить больному жизнь, но в то же время примет во внимание потребности пациента, откровенно обсудит их с ним. Для нашего пациента, который оставался личностью, мысль о продолжении жизни была нестерпимой лишь потому, что он не мог пользоваться привычными способностями. Совместными усилиями больному можно вернуть многие из этих способностей, если, конечно, нас не отпугнет первоначальная встреча с беспомощной и страдающей личностью. Говоря иными словами, мы можем облегчить им смерть, стараясь помочь им жить, а не вести нечеловеческий, растительный образ жизни.









